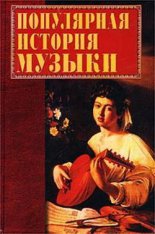Вернуть Онегина. Роман в трех частях Солин Александр

Ступив на священную меркурианскую землю и приглядываясь к ассортименту конкуренток, они принялись бродить среди расставленных произвольным образом фигур, следующих принципу «все свое ношу при себе». В одной из шеренг они к своему приятному удивлению обнаружили ту самую Матрену, что наставляла их прошлый раз. Горячо поприветствовав ее, они захотели встать рядом.
«А ну покажь, девки, что у вас!» – потребовала Матрена, и только убедившись, что их товары не пересекаются, пустила в свои ряды.
Они достали по платью, снабдили их плечиками и не без смущения выставили перед собой. Платья, предназначенные облагородить московских мещанок, заиграли на солнце.
«Богато! Неужели сами делали?»– не удержалась Матрена, чей товар состоял из пестрого текстиля, обильно украшенного тесьмой и негнущимися кружевами. Подстать ему предлагали вокруг: тропические листья, павлиньи хвосты, рыжее на сером, красное на черном, мелкий цветочек, крупный цветочек и все виды клеточки. Словом, хмурое небо и заплаканный закат над деревней Силаево.
Тихий теплый день располагал к вдумчивым наблюдениям, и Алла Сергеевна с любопытством озирала доступных ее взору игроков нестареющей игры «купи-продай». Продавали по преимуществу женщины неопределенного возраста, просто и скверно одетые, которых так и хотелось назвать, во-первых, бедными, во-вторых, некрасивыми, а в-третьих, пожалеть, если бы не бесцеремонный, проницательный взгляд, которым они обшаривали намерения и кошельки покупателей. Последние, в отличие от продавцов, прекрасно знающих, чего хотят, имели вид рассеянный и задумчивый, словно не могли вспомнить, как и зачем тут оказались. Почти все из тех, кто проходил мимо, замедляли шаг и с любопытством поглядывали на платья. Несколько женщин даже спросили цену, но когда Алла Сергеевна называла ее, качали головами и отходили.
«Не, девки, не будет вам здесь фарту, шибко богатый у вас товар. Вам на Тишинку надо…» – сказала Матрена через два часа стояния.
Потеряв еще час, они решили последовать ее совету. Расставаясь, Матрена объяснила, как туда попасть и добавила:
«Жалко! Был бы мой размер – сама купила бы!»
Алла Сергеевна пообещала в следующий раз привести ее размер, если Матрена даст себя обмерить. Матрена дала, и новые подруги с чувством расстались.
Проследовав до Белорусской и далее по предписанному маршруту, они оказались в любопытном для того времени месте: колхозный рынок пригрел рынок блошиный, подтверждая тем самым их кровное родство и третьестепенное для власти значение.
Здесь на мятых газетках развалились неунывающие поделки человеческой фантазии, неисповедимостью судеб порой превосходящие самые замысловатые человеческие истории. Пожухлые калоши, стоптанные морщинистые ботинки, гипсовые кошачьи статуэтки с размалеванными мордами и отбитыми носами, засаленные книги времен «Детгиза», линялые поникшие зонтики, потускневшая битая посуда и еще миллион самых неожиданных вещей, извлеченных из самых дальних углов и призванных повысить благосостояние их обладателей хотя бы на грош.
Тут бабульки с острым глазом и ворчливым норовом по соседству с мутноглазыми личностями мужского пола торговали мертвым, полуистлевшим, давно отпетым барахлом, и выставлять здесь роскошные платья было все равно, что водружать кадку с живой пальмой посреди опавших листьев. С недоумением углублялись они в человеческий бурьян, разглядывая второсортную, как и сам товар, публику, чья сугубая ценность заключалась в их лицах, какими они могли поведать художнику много горького и печального – ну, так ведь это же не товар. Только вот зачем предлагать сломанный замок? Не иначе из чувства солидарного соучастия в этом параде нищеты.
Возможно, будущий историк нравов скажет про то время, что Москва, предчувствуя недалекое будущее, Тишинкой и группой «Браво» как бы отчаянно цеплялась за былое, как бы торопилась пропитаться комиссионным духом прошлого, как бы… Дальше каждый вправе продолжить сам.
Они все же нашли подходящее место в углу и, смущенно улыбаясь, пристроились рядом со стиляжными пиджаками, цветными нейлоновыми рубашками и вызывающей яркости и ширины галстуками.
«Недурно, недурно! – высказался их бесцеремонный, живописно-растрепанный хозяин, внимательно разглядев платья. – Чья фирмА?»
Узнав, что шили сами, удивился.
Минут через пятнадцать перед ними предстала девушка сорок шестого размера. Наметанным глазом и точными движениями оценила ткань, швы, изнанку одного из платьев – того, у которого глубокий передний вырез был наполовину прикрыт прозрачной тонкокружевной шоколадной вставкой, под которой кисейно-матовые колыхания лакомой женской принадлежности выглядели так же стыдливо, как и соблазнительно. Платье приложили к плечам и спросили, где оно пошито. Узнав, что в кооперативе, поинтересовались ценой. Алла Сергеевна поколебалась и, сбросив десятку, назвала. Внимательные глаза напротив, что называется, и бровью не повели и сообщили, что платье им нравится, но покупать его за такие деньги без примерки как-то несерьезно. Алла Сергеевна заверила сорок шестой размер, что платье будет в самый раз. Обладательница размера подумала и предложила вот что: она покупает платье и идет его мерить к подруге, что живет здесь недалеко. Если платье не подойдет, она его вернет. Вопрос лишь в том, будут ли они здесь в течение часа. Алла Сергеевна самым горячим образом успокоила ее, сказав, что у них еще девять платьев, и что их кооперативный интерес – продать все платья, а не ограничиваться одним. Будьте уверены, уважаемая девушка сорок шестого размера – они цену своему товару знают и отвечают за него головой. На что девушка заметила, что если через час ее не будет, значит, платье ей подошло.
Она вернулась через сорок минут и привела с собой подругу того же размера, которая, покопавшись, выбрала себе платье на тех же условиях. Они ждали ее час, а затем отправились в гостиницу.
Следующим днем была пятница, и у них купили одно платье, а в субботу утром к ним подошел чернявый, негромкий, с прищуренным глазом и в мешковатой кожаной куртке парень лет за тридцать, поинтересовался, сколько платьев у них осталось, и предложил купить весь остаток. Они недоверчиво на него посмотрели, и хотя весь товар был при них, они, опасаясь быть обманутыми, договорились встретиться вечером в гостинице.
Встретились. Поднялись в номер. Парень представился Аликом, расспросил их, кто они и что они, заставил сбросить с каждого платья по пятерке, расплатился, а затем спустился с ними в кафе, где довольно толково объяснил, чего хочет от них в следующий раз. Снабдив их номером своего телефона и велев звонить, как только они здесь снова появятся, он растворился за стеклянными дверями, оставив вместо себя недоверчивое изумление.
Ах, Алик, ах, Гольдберг! Не человек, нет – реагент выгоды, камертон прибыли, сырная крыса, бездушный Иуда, готовый купить и продать всех и вся, при условии, что его устроит цена! Это на него она потом с переменным успехом батрачила пару лет, пока не встретила Клима.
Позже она узнает, что он пришивал к ее платьям фирменные ярлыки – например, «Пьер Карден» (какая чушь, Пьер Карден никогда не шил и не стал бы такие шить!), и продавал в два раза дороже. Недаром на ее предложения подогнать клиенткам платья, он неизменно отвечал, что они у нее настолько хороши, что в подгонке не нуждаются. Не иначе боялся, что кто-нибудь из покупательниц при встрече упомянет настоящую цену. И в этом вся его порода: нежные чувства, которые, как он однажды признается, разгорелись в нем с первой их встречи, не мешали ему, тем не менее, ее обманывать.
Посредник, перекупщик, барыга, спекулянт – беспокойной профессии человек. Она неоднократно замечала синяки у него на лице и жалела его. В ответ он, улыбаясь так широко, насколько позволяли побои, отвечал, что такова специфика его бизнеса.
«Ах ты, мой милый старый жулик!» – дружески приветствовала она его недавно, поздравляя с пятидесятилетием.
Что поделаешь, таков закон судьбы – путь к счастью лежит через колючее заграждение из корыстных людей. Не встреть она пройдоху Алика, не встретила бы и Клима, и тогда не было бы у нее ненаглядного сыночка Санечки, и не сидела бы она сейчас в театральном болотно-парчовом полумраке, комкая тонкими пальчиками платочек.
Ах, Тишинка, ах, сводница!
8
Воспоминания – это не бусы, а скорее темный кристалл, рассматривая который никогда не знаешь, какой гранью он сверкнет в следующий момент. Иначе чем объяснить преждевременное явление Клима в ее собственном театре теней? Он ожил, он вмешался, он здесь – такой, каким она увидела его в первый раз.
Он внимательно смотрит на нее и спрашивает густым низким голосом:
«Так как, говоришь, тебя зовут?»
«Алла. Алла Пахомова» – отвечает она без всякого волнения.
«А как отца звали?»
«Сергеем…»
«Алла Сергеевна, значит…»
«Значит, Алла Сергеевна…»
«Откуда сама будешь?»
Алла Сергеевна называет город. Клим смотрит на нее с веселым интересом и спрашивает:
«Твой батя… сидел?»
«Сидел…» – не сразу отвечает Алла Сергеевна.
«Когда?»
Поскольку наготове таких сведений она в голове не держит, то подумав, сообщает, что посадили его двадцать восемь… нет, почти двадцать девять лет назад, плюс одиннадцать лет от звонка до звонка.
«Ну, надо же… – хмыкает Клим, и неподходящая к его грубому лицу улыбка трогает жесткие губы. – Выходит, мы с твоим батей вместе сидели…»
Алла Сергеевна, не зная, каким боком ей может обернуться такое совпадение, молчит.
«Да, чудеса…» – роняет Клим, не спуская с нее глаз.
Еще бы не чудеса – две иголки встретились в стогу сена. Да что там, в стогу – в огромном сенохранилище. Конечно, чудеса. Самые настоящие чудеса. Только вот с каким знаком?
С пониманием относясь к стремлению героини втихомолку миновать пыльную, утомительную преамбулу ее московской жизни, заметим, однако, что вряд ли двухгодовалое опережение событий пойдет на пользу нашей ретроспективе, чья строгость и полнота – залог непредвзятого вердикта. А потому попробуем возвратить Аллу Сергеевну в русло повествования и спросим ее, где она была и что делала эти два года.
Вспоминай она об этом кратко ли, подробно, возбужденно или бесстрастно, неизменной останется роль окружающих ее в ту пору персонажей, которые попеременно поджидали ее, прекрасную, утомленную кочевницу на провинциальной или московской сцене, чтобы немного погодя превратиться в провожающих. Некоторым даже случится поменять амплуа: например, действующий любовник станет бывшим, а бывший – действующим. Кто сказал, что время невозможно обратить вспять?
География ее перемещений и кочевой образ жизни естественно вытекали из ее жгучего желания раздвинуть границы оседлости и являлись воплощением компромисса, этаким перемирием между исторической необходимостью и московским произволом. Как челнок своим движением примиряет длину полотна с шириной, так запыхавшийся, вспотевший поезд снимал противоречие между ее желанием работать в Москве и невозможностью это сделать.
Если говорить коротко, то все происходило до утомительного просто: она сдавала Алику платья, закупала в Москве материал и фурнитуру, везла к себе, шила новые платья, везла их обратно и сдавала все тому же Алику. Иначе говоря, поступала, как будущие челноки, с той лишь разницей, что производила товар сама. Выражаясь вычурно, своими путешествиями она накидывала товарно-денежные петли на крупноячеистую линейку транссибирского пути, рассчитывая сплетенной сетью поймать московскую рыбу удачи. Но это если коротко. А если пространно, то есть, размягчая сухой хлеб фабулы живой водой подробностей – придется признать, что не модой единой жив человек.
Она зажила на два полюса, и если вначале отождествляла себя с местом выдачи командировочного удостоверения, то в дальнейшем пункты выбытия и прибытия превратились в точки замкнутого круга и сказать, какая из них конечная стало также трудно, как разорвать сам круг. Она не жила ни здесь, ни там и вместе с тем жила и там, и здесь.
Она полюбила поезд. После потных подмышек и натруженных верблюжьей тягой рук, после гулкой, стоптанной до самых ягодиц Москвы было невыразимо приятно раскинуться на полке и в глуховатом, заслуженном покое купе с удовольствием ощущать, как распускаются невидимые колки, ослабляя струны мышц, и как завершается ее очередная метаморфоза из товарной личинки в денежный эквивалент. Дождаться скорых сумерек и негромко чаевничать, представляя, что следующие десять часов промелькнут, как сон и что став за ночь бывалой пассажиркой, новый день она посвятит беззаботному отдыху. Затем читать на ночь глядя нечто утомительное, вроде «Превращения» Кафки, заботой Колюни оказавшегося в сумке, пока книга не вывалится из рук. И после прибывать во сне на безымянные станции, томиться в неподвижной тишине, жалеть сквозь сон чьи-то ночные придушенные голоса и внимать объявлениям станционного смотрителя, сулящего скорое отправление. С шипением отпустят тормоза, и поезд толкнет ее в бок. Обнаружится движение, оживет гул колес, и так до тех пор, пока солнце на крутом повороте не проникнет в окно и не разбудит ее.
В самом деле, что ни говорите, а нет ничего восхитительнее, чем старомодная отрешенность путешествующего поезда!
Пока ехали, она, пользуясь вынужденным затворничеством, работала с журналами, которыми снабжал ее Алик – комбинировала фасоны, выделяла составные части, приводила их в рациональный плоский вид, чтобы по приезде можно было тут же приступить к изготовлению.
Алик довольно быстро оценил ее таланты и собственную выгоду. Отныне она могла не беспокоиться о гостинице – он сам заказывал номер и даже встречал ее на вокзале, чтобы погрузить в такси и договориться о встрече. Появились московские заказы. Алик, совершенно так же, как это делалось в провинции, приносил журнал и указывал на фасон. Алла Сергеевна в свою очередь объясняла, что она может, а что нет и по какой причине. Таковым являлось, главным образом, отсутствие нужной ткани и фурнитуры. Алик сообщал об этом клиентке, и фасон либо отвергался, либо принимался с изменениями, и тогда, договорившись о цене, клиентку обмеряли, подогревали ее ожидания и под гарантии Алика брали с нее небольшой аванс. На следующий раз была примерка, и еще через месяц платье было готово. Стоит ли говорить, что при таких сроках о серьезной клиентуре не могло быть и речи. Следовало найти выход и дать дорогу выгоде, что и было сделано: в феврале девяносто первого Алик нашел для нее однокомнатную квартиру с телефоном в Выхино, за которую она заплатила за полгода вперед. Туда завезли купленную в Москве дорогую швейную машину и прочие нитки-иголки, превратив, таким образом, честную жилплощадь в нелегальное ателье, а по совместительству – в лежбище.
Перед этим в январе она безболезненно перенесла «павловский» грабеж – больших денег в чулке никогда не держала, а те, что были на книжке, помог выцарапать Колюня. Поразмыслив, она разделила накопленные восемь тысяч на две части. На четыре тысячи купила дефицитной ткани и оформила ее как долг кооператива перед подотчетным лицом. Другую половину в новых купюрах решила держать дома в укромном месте. И поскольку материальное положение кооператива и ее собственное обеспечивало ей разумную независимость, то отныне она могла задерживаться в Москве столько, сколько было нужно для дела и для собственного удовольствия. А таковое скоро появится в лице… Впрочем, натянем вожжи и осадим ее несдержанную память. Пусть она сначала поведает о том нетерпении, которое росло по мере того, как близился час окончательного переезда в Москву. А он определенно и неотвратимо близился: с каждой новой поездкой таяли остатки ее привязанности к родному городу, тогда как свежий ветер дальних странствий расправлял паруса ее дерзких намерений. Того и гляди наступит момент, когда надежный когда-то якорь станет тормозом, и команда кинется рубить канаты.
Ее связь с Колюней к тому времени истончилась до редких непродолжительных свиданий с противоестественной для серьезных отношений торопливостью в постели и немногословными объяснениями за ее пределами. Часто она возвращалась, не предупредив его о своем приезде, также как уезжая, не просила себя провожать. Перехватывая его грустный, похожий на осенний журавлиный клин взгляд, она испытывала не смущение, а раздражение. «Все же, как неправа была природа, наградив меня, честную труженицу, свербящим похотливым жаром, из-за которого низ живота регулярно нуждается в мужском огнетушителе! Вся в мать!» – всерьез сокрушалась она.
К матери, с которой теперь прекрасно ладила, она давно уже относилась покровительственно. Единственное, что печалило довольную успехами дочери Марью Ивановну, это ее незамужнее положение. Колюня, безусловно, нравился матери. В его присутствии она набрасывала на себя флер неуклюжей томности, выпускала на лицо слоновье внимание и становилась вальяжно-певучей, словно сваха. Когда ему случалось заезжать, чтобы увезти Алечку с собой, она, пока дочь переодевалась и приводила себя в порядок, уединялась с ним на кухне, затевала политические разговоры и каждый раз жалела, что незнакома с его матерью. Похоже, что в один из таких тет-а-тетов он, понизив голос и оглядываясь на дверь, и поведал вожделенной теще о своих регулярно отклоняемых предложениях. Так это или нет, но с некоторых пор, оставаясь с дочерью наедине, Марья Ивановна нещадно корила ее за нерасторопность, за легкомыслие, за дурь и за все то непостижимое и возмутительное, что творят со своей личной жизнью на глазах мудрых матерей взрослые дочери.
«Дура, ты, Алька, дура! – ласковым журчанием точила она камень дочернего упрямства. – Да где ж ты себе еще такого найдешь! Да его ж хватать надо и в ЗАГС тащить!»
«Успею, не к спеху!» – отмахивалась от упреков матери вечно занятая дочь.
«Смотри, дождешься, что другая уведет!» – стращала ее мать испытанным, вечнозеленым пророчеством.
В начале апреля девяносто первого цены по царскому велению выросли втрое, и их с Аликом благополучию на время пришел конец.
9
Ну, а теперь туда – в май девяносто первого, в обнищавшую разом страну, в империю поверженного спроса, навстречу оголенным воспоминаниям, свидание с которыми она всячески оттягивала. Туда, где ее вновь нашла и оживила волна неподвластной нам воли, сопротивляться которой никто не в силах, ибо волна есть универсальное качество мирового пространства, которому принадлежат и жизнь, и любовь, и смерть.
Вынужденный, отчаянный идиотизм номенклатурного маневра поставил ее перед выбором: переработать подорожавшие запасы ткани и продать что получится по полуторной или даже двойной цене, либо ждать, когда спрос выйдет из коматозного состояния и пересядет в инвалидную коляску, чтобы попытаться заработать в три раза больше. Жулик Алик, для которого двойная цена и без того была нормой, настаивал на быстрой выгоде, она же считала, что может позволить себе не торопиться. Смешав спорные мнения, получили среднеарифметическое, с изрядным уклоном в ее пользу. И то сказать: с какой стати она стала бы открывать ему размеры своих запасов?
К середине мая она сдала ему платья и залегла на московское дно, чтобы отдохнуть и присмотреться к обстановке.
Перед тем событием, о котором пойдет речь, она два дня провела в Ленинке, где откликаясь на зудящий внутренний позыв, регулярно возникавший в ней под влиянием творческих сомнений, листала журналы в поисках ученых подтверждений собственным представлениям о моде. Однако что другого в то время могла она там найти, кроме уже известных рассуждений о принадлежности моды к миру прекрасного, о ее соответствии духу времени и стилю эпохи, о ее коммуникативной функции и воспитании ею хорошего вкуса? Никаких элитарных замашек: рациональность, практичность, простота, умеренность и разумность, единым аскетичным корнем утверждающие социалистический образ жизни – вот вам назначение и благородная миссия советской моды. Примите к сведению и не задавайте глупых вопросов.
Поскольку ее студенческий, не подкрепленный рвением английский лишал ее возможности припасть к серьезным зарубежным источникам, а «Иллюстрированная энциклопедия моды» по ее мнению к таковым не относилась, то оставалось терпеливо ждать будущих озарений. Впрочем, даже если бы она к ним припала и сумела бы понять то, что и на русском понять сложно – что, скажите, руководящего почерпнула бы она из следующей бодрийаровской мысли:
«В знаках моды нет больше никакой внутренней детерминированности, и потому они обретают свободу безграничных подстановок и перестановок. В итоге этой небывалой эмансипации они по-своему логично подчиняются правилу безумно-неукоснительной повторяемости».
Одержимый человек не может быть всесторонне образован – ему на это попросту не хватает времени. Прислушиваться же к людям, чей род занятий состоит в том, чтобы, присваивая спорным вещам курьезные имена и перемешивая их, словно кости домино, заклинать псевдоученой абракадаброй дух истины, значит, не дорожить собственным временем – могла бы сказать она. К тому же никаким, кажется, открытиям не хватило бы уже сил, чтобы поколебать ее крепкое, молодое, цветущее кредо «элегантность во всем».
С другой стороны, если далекий смысл таких высказываний был ей в ту пору (как, впрочем, и в нынешнюю) чужд, если она была далека от понимания, что художники создают вселенные, а критики и теоретики их всего лишь обживают, если еще не осознала, что всякое творчество есть самовыражение творца, отчего, например, литературные герои смотрят на мир глазами автора, то это вовсе не означало, что она не чувствовала состояния той среды, откуда эти мысли были извлечены. Для того и был ей дан инстинкт, которым художники тестируют настоящее время на беременность.
Кажется, была она в тот день в строгой серой юбке немного выше колен, в неяркой блузке с высоким воротником и тонкой, по-французски обтягивающей бюст темно-синей кофточке с расчетливо подтянутыми рукавами, обнажавшими узкие запястья и чистые кисти рук. Всем существом ощущая среди пресного, затаенного дыхания книг предназначенные ей мужские взгляды, она откидывалась порой на спинку стула и, впитывая прочитанное, обводила трудовым рассеянным взором окрестности огромного зала. Может, в силу ее временно вольного положения, может, оттого что пришла, наконец, пора оглядеться, она отпустила на волю любопытство и просеяла через него доступную ее полю зрения мужскую половину. Ничего достопримечательного. Низкорослые, не по годам грузные очкарики, сухопарые, сутулые книжники без возраста, мешковатые пиджаки, лохматые затылки, пришлепнутые лысины – неужели это они, женихи столичного розлива? Тут же возникла мысль: интересно, на кого будет похож ее будущий муж? Во всяком случае, ни на одного из тех, кто находился здесь. И где же его теперь искать? Огненная струйка недовольства побежала к воображению и воспалила его, и на его вспыхнувшем поле оказался почему-то Сашка. И тут колесо судьбы-рулетки мягко и бесшумно остановилось, и беглый шарик ее воли упал в его уютное, цепкое лежбище.
Все. Точка. Приехали. Пробил час, и наступило время. Время собирать камни. Она должна его увидеть. «Зачем?» – спросил кто-то невидимый. «Не знаю, – отвечала она. – Может, чтобы осыпать оскорблениями, может, закидать упреками, может, облить ядом, может, убить, может, простить – не знаю, но я должна его увидеть! Пришло время собирать камни…»
Человек лжив, и это самое безобидное, что можно о нем сказать. Но лжив он не потому, что такова его природа, а потому, что таков наш мир: видом своим он говорит одно, а скрывает совсем другое. Что заставляет нас совершать противоестественные поступки, как не противоречивость бытия? Камни, знаете ли, камнями, но в мире есть вещи (например, любовь, глупость, мода), природу которых невозможно объяснить ни себе, ни другим, и не из-за отсутствия слов, а оттого что какие бы слова мы не подобрали, все они будут также справедливы, как и неверны. Ибо пытаясь проникнуть в суть вещей, мы сталкиваемся с их лживой явью, под которой надежно прячется их недоступное нам значение. Только вот зачем пытаться проникнуть в суть вещей, если есть волна? Как бы мы ни барахтались, рано или поздно она накатит и вознесет нас туда, куда мы категорически не собирались. Ах, как хочется порой излить раздражение на того, кто поместил нас в этот чужой, зашифрованный мир, явно предназначенный для кого-то другого!
Алла Сергеевна покинула приглушенные книжные хоромы, вышла на шумную улицу, достала из сумочки адрес и сверила с памятью. Станция метро Академическая, улица Профсоюзная, 5/9. Сейчас четыре часа, она будет ждать Сашку во дворе, и если он на работе, то скоро обязательно должен вернуться. Куда же еще, как не домой идти после работы примерному семьянину!
«Представляю, какое у него будет лицо!» – самонадеянно подумала она.
Хотелось быть холодной и расчетливой, но волнение то и дело перебивало ее расчеты, и когда она вышла из метро, и вовсе прибрало ее к рукам.
«Почему я решила, что он обрадуется? А если нет? – спрашивала она себя, двигаясь в указанном бойкой старушкой направлении. – Ну, и ладно. Если нет, то повернулась и ушла, и уж больше он меня никогда не увидит!»
Она без труда нашла отдающий серой восьмиэтажной голубизной дом, обогнула его и, ощущая давно забытый трепет любовного (так уж и любовного!) свидания, проникла в просторный двор, где поспешила укрыться среди неожиданного обилия высоких раскормленных деревьев. Освоившись под их молодой клейкой сенью, она отметила похвальную сплоченность их тел, благодаря которой одним шагом влево или вправо могла избавить себя от подозрительных глаз перспективы. Впрочем, московская перспектива, как известно, страдает надменной близорукостью и дальше собственного носа видеть не желает. Вот если бы она зашла в их сибирский двор – никакая чаща не спасла бы ее от любопытных глаз.
Принуждая себя к непринужденности, она обошла четырехугольную чашу изнутри, имея целью установить по номеру квартиры Сашкин подъезд, из которого он мог бы возникнуть назло работе. Каково это – с пугающей ясностью воображать, что вместо него из подъезда выходит его жена и сталкивается с ней взглядом! Определив подъезд, она словно дикая кошка тут же скрылась в чаще.
Своими каменными крыльями скупердяй-дом сгреб в охапку доморощенную рощу, оставив лишь небольшой просвет, через который на сцену ее ожиданий въезжали автомобили и заходили люди. «Как удачно – один вход…» – рассеянно думала она, переводя взгляд с проезда на подъезд и комкая за спиной пальцы. Ажурная, акварельная прозрачность крон, сложный пасьянс бликующих окон, чистые, свежие, как сам воздух звуки чужой жизни, неуместная благость майского дня соседствовали в ней со страхом разочарования. Она успокаивала себя и говорила, что пришла сюда только для того, чтобы прояснить, наконец, ту часть ее личной жизни, которую она прожила словно в тумане, а потому чем разочарование сильнее, тем лучше.
Ей хватило времени подумать, что порыв ее похож на авантюру, что шансы на его появление скорее призрачны, чем прозрачны, что он может отнестись к ней неприязненно и что этот дом его так просто не отдаст. Несколько раз она боролась с желанием уйти, но счастье было на ее стороне, и без пяти минут шесть серый парус Сашкиного пиджака, буднично и устало повиснув на перекладине его плеч, миновал проход в волноломе и устремился в родную гавань. Она не поверила удаче и растерялась, наблюдая, как Сашка, не разбирая пути, держит курс к причалу подъезда. Еще немного, и он, не заметив человека за бортом, проплывет вместе со спасательным кругом мимо нее, и тогда она, торопливо выступив из-за дерева, накинула на него швартовый канат: «Саша!..»
Его на полном ходу развернуло в ее сторону, он на секунду застыл, затем неуверенно шагнул ей навстречу – раз, другой, третий и, наконец, устремился к ней быстро и размашисто. Чем ближе он подходил, тем отчетливее проступало на его лице радостное недоумение.
«Алка, ты?! Ты как здесь?» – воскликнул он, едва расстояние позволило ему говорить.
«Проходила мимо, дай, думаю, зайду…» – дождавшись, когда он изумленным изваянием застынет перед ней, прикрыла она иронией свое волнение.
Боже мой! Вот оно, когда-то обожаемое ею лицо! Пухлые губы, короткий прямой нос, упрямая переносица, густые девчоночьи ресницы, размашистый лоб, а между нависшим обрывом бровей и крепкой возвышенностью скул смущенная радость серых глаз. Глаз, сулящих ей конец одиночества. Похудел ли он? Нет. Поправился? Тоже нет. Тогда что не так? Трудно сказать. Было в нем что-то неуловимо новое, взрослое, обветренное временем. Она разглядывала его, ожидая, что он себе позволит. Он, не зная, чего от нее ждать, позволил себе коснуться ее руки и быстро поцеловать в щеку. Отстранившись на целомудренное расстояние, он заговорил:
«Привет! Глазам своим не верю! А ты такая же красавица! Нисколько не изменилась! Господи, сколько же мы не виделись?» – торопился он, жадно ее разглядывая.
«Четыре года…» – улыбалась Алла Сергеевна, не сводя с него глаз.
«Да, – сверяясь с памятью, посмотрел он в сторону, – действительно, четыре! Кошмар!»
И дальше, бурно и несдержанно:
«Алка, ты не представляешь, как я рад тебя видеть! Это так здорово, что ты пришла! Нет, ну это просто чудеса! Я ведь как знал – раньше с работы ушел! Как будто что-то меня толкнуло! Ты давно здесь?»
«Недавно…» – обронила она, улыбаясь.
Думается, нет смысла цитировать дальше их первые, неловкие, сбивчивые восклицания, рыскающие по минному полю памяти в поисках безопасных проходов. Каждый при желании может вообразить себе ту формулу неловкости, тот многочлен смущения, с которыми люди, повязанные прошлым, имеют дело при неожиданной встрече. Решение здесь одно – обезличивая слагаемые отвлеченным содержанием, привести их к общему знаменателю и приравнять к нулю. Вот и в нашем случае – они перебрали круг друзей, спустились к знакомым, затем к малознакомым, покружили вокруг опаленного прошлого, пока не ухватились за спасительный конец по имени землячество. Правда, не до такой степени, чтобы он решил пригласить ее к себе для знакомства с женой и четырехлетним сыном.
Вокруг них голые липы отливались спелой вишневой синевой. Юная, салатной свежести березовая листва надежно скрывала их от неминуемых при таком количестве окон праздных глаз, одинаково охочих и до чужих свиданий, и до преступлений. Наконец он очнулся и сказал:
«А что мы здесь стоим? Пойдем, погуляем!»
Они вышли на бульвар, и он случайно ли, намеренно повернул в сторону метро.
«Ну, расскажи, как ты здесь, что делаешь, чем занимаешься?» – напал он на нее.
Она рассказала: сдержанно, по существу, без лишних деталей, упомянув главное – квартиру, которую она здесь снимает. Надо же – она идет с ним по Москве! Каким же обидным, покореженным способом исполнилась ее обескровленная девичья мечта!
«Ты молодец! Ты такая молодец! – воскликнул он с запоздалой гордостью и тут же сник: – А я – сволочь последняя…»
Она не дала ему углубиться в дебри раскаяния и спросила:
«Ну, а ты как? Наверное, уже начальник?»
«Я? А что я… Жив, как видишь, работаю… Сыну четыре года…» – ответил он и замолчал, переминаясь на пороге неловких откровений.
«Ну, хорошо, потом расскажешь! – заторопилась она, чувствуя, что коснулась чего-то неудобного и болезненного, о чем говорить, что называется, не время и не место. – Веди меня к метро, мне пора!»
Да они уже, собственно, и пришли.
«Алка, я ужасно хочу тебя видеть! – отбросив сдержанность, объявил он.
– Вот мой рабочий телефон – не пропадай, звони! Позвонишь?» – заглядывая в ее глаза, как в будущее, протянул он ей выписанный на колене пропуск в его жизнь.
«Хорошо, хорошо, посмотрим, как у меня будет со временем! Возможно, мне скоро придется уехать обратно… – запустила она в его сердце крошечную изящную муку. – Ну, все! Пока!»
И подставила щеку.
10
Она намеренно сократила время их встречи, и не потому что он, как может показаться, перестал ее интересовать, а чтобы не мешать первое свидание со вторым. Разумеется, она рассчитывала на второе свидание, иначе зачем бы пошла на первое! Ведь на первом свидании не осыпают оскорблениями, не закидывают упреками, не обливают ядом и не убивают. Это делается позже – может быть, на пятом или на десятом.
Он не произвел на нее впечатления уверенного, благополучного человека, но он по-прежнему ее любит – вот главный вывод, который она сделала. А раз любит, стало быть, уязвим, и его можно брать, что называется, голыми руками. Да, верно: когда-то она мечтала увести его от жены, приручить и бросить. В самом деле, чем не зеркальный ответ! Сколько раз она представляла себе как тонко, расчетливо и поучительно это будет сделано. Но теперь она так не поступит, потому что считает, что сведение счетов – удел бездарностей. Месть нельзя доверять оскорбленному самолюбию, которое унизит и опошлит ее протоколом. Сегодня она выше самолюбия и выше мести, сегодня она желает увести его из семьи и оставить себе. Она элементарно, пошло, по-бабьи хочет его. Это ее самец, и она хочет восстановить ту сеть их отношений, в которой даже завтрак имел бы судьбоносное значение. Любит ли она его? Нет, скорее, жалеет: она сильнее его, она это чувствует.
Одно ее смущает: падшего змея они тогда, в детстве, так и не нашли. А если бы нашли, подлечили и запустили вновь – смог бы перепуганный, покалеченный, униженный летун подняться в глубокую чистую голубизну и утвердиться там на сияющем пьедестале?
С трудом сдерживая желание позвонить ему, она выжидала два дня. Слонялась по Москве или, включив дома телевизор, пыталась читать Колюнин «Новый мир» с «Доктором Живаго». Пропускала целые страницы, откладывала и бралась за эскизы. Стоя в очереди за своей порцией сыра и колбасы, она впервые оценила хмурый свет озабоченности на лицах московских хозяек, для которых подорожавшая очередь была лишь частью их хлопот о семейном очаге. И пусть не все очаги горят ровно и ясно, и немало таких, которые чадят, этим женщинам было, куда и к кому идти. А где ее мужчина, где ее очаг и что с ней будет дальше?
На третий день утром она ему позвонила и сказала, что могла бы встретиться с ним сегодня вечером. Где? Да хотя бы у нее в Выхино. Во сколько? Да хотя бы в шесть. Раньше? Хорошо, в пять. Еще раньше? Ну, ладно, в четыре (ну и аппетиты у него!). Она испытала сладкое краткое возбуждение и подытожила:
«Значит, в четыре на выходе из метро!»
Он был там без пятнадцати четыре, купил цветы и ждал ее еще полчаса. Она появилась в легкой бежевой кофточке поверх гладкого, с короткими рукавами и намагниченным передним вырезом платья цвета белого горошка в шоколаде, которое, она знала точно, так дерзко и воздушно взлетает на бедра. Приняв цветы и отметив у него под пиджаком ее пуловер, она подставила ему щеку и под его вдохновенный дайджест московских новостей повела к дому на Косинской. По пути он предложил зайти в магазин, но она сказала, что у нее все есть.
Дошли и поднялись на восьмой этаж. Он снял пиджак, она кофту. Пока он осматривал квартиру, она прошла на кухню, чтобы поставить в вазу цветы. Отвернувшись к окну, она намеренно замешкалась, и он, тихо подойдя к ней сзади, заключил ее сверху, по-медвежьи в судорожные объятия и зарылся лицом в ее волосы. Она нашла в его объятиях слабину, извернулась и подставила губы. Он на минуту сросся с ней своими губами, затем лихорадочными поцелуями запятнал ее лицо и шею. После этого припал к полукруглому вырезу, из которого обнаженной наживкой выступали нежные подножия ее полушарий. Помогая себе руками, он испробовал их упругий вкус и продолжил схождение, касаясь губами ее платья с таким благоговением, как будто это были покровы святой девы. Встав на колени, он запустил руки ей под подол, обхватил под ним бедра и прижался щекой к животу. Она, опустив к нему глаза и ощущая, как жар заливает лицо, нервно гладила его голову. Он предпринял попытку стянуть с нее ажурные трусики, но она сказала: «Не здесь!». Он подхватил ее, донес до дивана и уложил. Она забросила голые руки за голову и закрыла глаза. Тонкие руки ее, нежные и полированные, ровно сужались от плеча к локтю, где вливались в гостеприимный, отмеченный милой, любопытной косточкой сустав и далее с той же плавностью и ровностью заканчивались запястьем. Сашка торопливо обласкал губами их томительное безволие, затем дерзко и воздушно задрал подол платья и устранил кружевное препятствие. Далее одним движением стянул с себя брюки и трусы, и как был в черных носках, голубой рубашке и сером пуловере, так и утонул в ней с прощальным стоном.
«Будь осторожен, пожалуйста!» – предупредила она, успев подумать, что для этого ему придется запачкать задранное на живот платье, но думать об этом было уже поздно, и она, обо всем забыв, стала розовой воронкой в прошлое, куда погружалась вместе с его яростной машиной времени все глубже и глубже…
Диван – электрический стул их любви, вытряс из них всю душу, прежде чем к ним вернулась жизнь. Сашка, буквально наплевав на предосторожности, сполз с нее и, неудобно скрючившись, лежал на боку, придавив ей плечо и руку.
«А-а, будь, что будет! Вроде бы сегодня еще можно…» – вяло думала она, ощущая пониже задранного подола щекочущий исход его семени.
«Аллочка, прости меня, дурака, а! Ну, прости…» – вдруг пробормотал он ей прямо в ухо.
Она помолчала и устало произнесла:
«Как ты мог, как ты мог!..»
11
Не менее богатыми и изысканными были их разговоры.
С первой же их встречи она ощутила выгоду своего положения. Спрашивать, а не отвечать – вот отныне ее выстраданная привилегия. Отныне она была хозяйкой положения и желала знать, что было, что есть и чем сердце успокоится. Ибо тому, кто посвящен в цыганскую правду, место в таборе избранных.
Итак, что было?
Вначале была любовь и любовью была она. И сотворила она себе кумира по своему образу и подобию, и поселилась с ним в раю. И было у них счастье, и строили они планы, и жить бы им поживать да добра наживать в райском саду, только однажды явился к ним на яблочный спас дьявол в образе огромного соблазнительного города и предложил легкомысленному кумиру взамен сельской идиллии место на горячей городской сковородке с боярской дочерью и выхлопными газами в придачу. Неизвестно, как долго противился кумир искушению, но, наконец, согласился и оставил свою наивную пастушку. Исчез тайно, подло, оскорбительно, как морская волна, что суля жемчуга, преподносит пену. Как он мог, как он мог?!
Гад я последний, Аллочка, гад и предатель! Змею ты пригрела на груди, змею, и ужалила она тебя в самое сердце! Велика вина моя, и нет мне прощения, в какой бы позе я его не просил! Расчет, голый расчет – такой же голый и гнусный, как я в сей момент – помутил мой разум. А всё распределение, будь оно неладно! А что прикажешь делать, если нас распределяют с рождения! Да не туда, куда мы хотим, а куда велят паспортные данные. Нет прописки – нет распределения. А я уж к тому времени сильно к Москве прибился. В общем, помыкался, помыкался и переспал после пятого курса с однокурсницей. Переспал и сильно опечалился, да так сильно, что переспал еще раз, а дальше уж она мне со смехом: женись, мол – москвичом станешь! Но ты не думай – я до этого тебе верный был! Хочешь – верь, хочешь – не верь моим бесстыжим намокшим глазам, но я тебе до нее ни с кем не изменял, хотя поводов было предостаточно. Короче, променял я тебя на нелюбимую женщину и на Москву, провалиться бы им вместе со мной! Хотя жена тут, по правде говоря, ни при чем.
В оправдание скажу, что бездонны мои страдания и ненасытны угрызения совести. Дошло до меня после свадьбы, что сотворил я себе ад душевный. Два года не мог успокоиться, а как ты меня второй раз шуганула, тут я и понял, что жить дальше придется без тебя. Ну, и смастерил жене ребенка… Но тебя всегда помнил и никогда не забывал наши счастливые дни. А Москва… что – Москва… Это же не город, это стригущий лишай!
Она слушала, прижавшись щекой к его бугристому плечу, и хрупкая лодочка ее ладони плыла по его телу, ныряла во впадины, застревала на перекатах, доплывала до бедер и сползала в ущелье ног, где росла крупная, сочленённая с прямостоячей цветоножкой ягода сливообразной формы, с мясистым бледно-розовым покровом и с головчато-расширенным надрезным рыльцем на конце.
Фи, как это пошло – жениться по расчету! Я бы поняла, если бы ты полюбил другую – ярче, лучше, достойней меня! Но променять меня на невзрачную коротышку!.. Что – Аллочка, что – Аллочка?! Двадцать шесть лет уже Аллочка! Помолчи лучше!!
Прежде всего, думается мне, не так уж сильно ты и страдал, как описываешь и как можно судить по твоему гладкому сытому телу. Не хочу вникать в твои душевные похождения и оставляю на твоей композиторской совести ряженую псевдоправду твоей пятой симфонии с ее фортиссимо надрывности и пьяниссимо недомолвок. У меня на этот счет своя музыкальная тема. Надеюсь, тебе не надо объяснять, что монашка из меня никудышная, а потому вряд ли ты обрадуешься, узнав, что за это время твою Аллочку имела половина города. Что, не нравится? А ты чего хотел? Ты думал, я обрадуюсь твоей измене и заживу счастливо? Нет, дружок – мне было так хреново, что я ударилась во все тяжкие! Гуляла направо и налево! Ко мне в очередь выстраивались! Накормила полгорода досыта! Три раза гонореей переболела и сделала пять – нет, семь абортов, и теперь не могу иметь детей! На меня пальцем показывали и прилюдно бл. дью обзывали! За мной обманутые жены охотились! Я из-за этого десять работ сменила, из-за этого в Москву уехала – мне теперь место только на панели – а для разминки решила с тебя начать. Что, доволен теперь? Ты хоть понимаешь, что это все из-за тебя, что это ты виноват?!. Что молчишь?
Аллочка, я не молчу, я просто…
Ладно, ладно, успокойся, не дрожжи, я тебе не Катюша Маслова и по ее стопам никогда бы не пошла. Не спала я с половиной города. И гонореей не болела. И аборт я сделала только один. И детей могу иметь. И хахаль у меня был только один. Кстати, первый секретарь райкома – не тебе чета! Предложениями завалил. А я, дура ненормальная, вместо того чтобы идти за приличного человека замуж, лежу тут с тобой и наглаживаю тебя, кобеля проклятого! Да если бы ты знал, чего мне стоило пережить твою измену, и как я трудилась в поте лица, чтобы доказать тебе, что в Москву можно проникнуть другим, честным, а не твоим безвольным, продажным путем! Кобель, ты, Силаев, кобель бессовестный, вот ты кто!..
Аллочка, Аллочка, не плачь, моя родная, не плачь! Ничего я не испугался! Даже если бы все было так, как ты сказала, ты для меня все равно была бы лучше всех, потому что я любил тебя, люблю и буду любить! А теперь-то что, теперь я, конечно, разведусь, и мы с тобой поженимся!
Ну вот, пожалуйста. Вот вам сразу что есть и что будет. Сразу вам второе и третье, горячее и десерт.
А я и не плачу… Еще бы я плакала из-за тебя… Тушь попала в глаза, тушь… Поцелуй меня… Нет, не в губы… Да, да… Вот так, вот так… Так, хороший мой, так, Санечка, так, так… Санечка, ах Санечка, как хорошо!..
Так ты простила меня?
Простила, простила…
Перед уходом воодушевленный Сашка объявил:
«Завтра же подаю на развод!»
«И дальше что?» – поинтересовалась практичная Алла Сергеевна.
«Как что? – удивился ее непонятливости Сашка. – Дальше я разведусь, мы с тобой уедем домой и поженимся!»
«А потом?» – насторожилась она.
«А что потом? Потом будем там жить!» – смотрел на нее Сашка ясным серым взором.
Вот так ход! Вот так продолжение! Вот так партия! То есть, ради нее он был готов бросить здесь все, чего добился, надеясь такой ценой откреститься от предательства. «Нет, нет и нет! Ни в коем случае!» – чуть было не воскликнула она. Его жертва, такая же красивая, как и бессмысленная, никак не вписывалась в ее игру. Не для того она столько лет подбиралась к Москве, чтобы в одночасье отступить! Это все равно, что надеть свадебное платье задом наперед.
«А почему мы не можем жить здесь?» – осторожно спросила она.
«А как? Ведь если я разведусь, то мне придется выписаться, и я не смогу устроиться здесь на работу!» – отвечал простоватый любовник.
Алла Сергеевна, не желая неудобными вопросами портить блаженную негу воссоединения, постановила:
«Значит так: не надо говорить жене о разводе. Пусть все пока останется, как есть. Ты меня понял?»
И смягчив недоуменное выражение его лица поцелуем, выпроводила за дверь.
Помнится, оставшись одна, она долго стояла у кухонного окна, подставив лицо закату. Судя по разбежавшимся по небу облакам с обожженными боками, солнце угодило в самое их логово. Остывая вместе с небом от жарких Сашкиных поцелуев, она перебирала исступленные заклинания вчерашнего клятвоотступника, и легкое облако улыбки блуждало по ее лицу. «Как хорошо было бы перенести эту розово-сиреневую синеву на шелк и укутаться в нее!» – глядя на закат думала она, не желая думать ни о чем серьезном. Затем вышла на балкон и, обратясь к противоположной стороне Москвы, смотрела оттуда на проступившую в сгущенной синеве бабочкиных крыльев свежую майскую Луну, недоступно парящую над ворчливой, обнаженной до голосовых связок кольцевой дорогой. Вечер, умиротворенный тонким теплым ароматом земли, смолистым духом разрешившихся от бремени почек и заблудившимся запахом далеких костров, будил воспоминания чего-то томительного, радостного и негаснущего.
Она дождалась появления самых первых, самых смелых звезд и забралась с ними в кровать. Бледная полногрудая Луна свесилась над ней. Шум трассы за балконом вытянулся в тонко ноющий канат, куда органично вплетался ранний комариный писк. Кто-то нетерпеливый и влюбленный сверлом мотоцикла пространство пронзил и тянул его за собой до тех пор, пока оно не истончилось, и вот уже сонная нить цвета лунной амальгамы – то медная, то золотая, то серебряная – пошла разматываться вслед ее иллюминированному полету…
Ее медовый лунный месяц начался.
12
Их до обидного скоротечные и как фотовспышки ослепительные встречи составили историю второй волны любовного нашествия.
Теперь, когда ее память избавилась от всего малоценного и из подсобки превратилась в музей, в зале выхинского периода не осталось иных экспонатов, кроме внушительных амфор ненасытного плотского удовольствия, но не той ее похотливой, заурядной, не превосходящей животной степени разновидности, что лишена ответного чувства, а особого, возвышенного, умиленного, молитвенного блаженства, какого она никогда, никогда не испытывала с Колюней. Даже доводя ее до состояния изнемогающей покорности, Колюня всегда оставался рабом. Сашка же в этом смысле был господином, так что если от Колюниного сверла ее трут лишь тлел и дымил, то от Сашкиного вспыхивал жарким пламенем. В том и состоит секрет любви, что объявляя животное совокупление божеским делом, она придает ему несравненный, элитный вкус.
Отдаваясь Сашке до закатившихся зрачков, до неэлегантных звуков, до липкого лобка, до потери личности, она по праву реституции возвращала их ласки, возмещая телу то, чего оно было лишено последние шесть лет. Вернула все, и в первую очередь сок его ягоды – живой, любопытный, густой, с эндоспермом и сладкий, как спелая слива. После первой дегустации она поспешила успокоить его незаслуженную щепетильность, заявив, что ничего подобного у нее без него не было и быть не могло. В свою очередь он горячо заверил ее, что никогда, никогда не целовал жену в средиземноморье. Проверить это было невозможно, но она поверила, поскольку не обнаружила в языке его страсти новых словечек – этаких новоязовских штучек, которым могла бы его научить сладострастная московская жена.
Внимая красноречию его раскаяния и постоянно осаживая его готовность немедленным разводом исправить окаянную ошибку, она выдержала своенравную паузу и объявила, что прощает ему измену, как и все, что у него могло быть с женщинами после нее. О том, что этот грех обернется ему вечным рабством она, естественно, умолчала.
Кто сказал, что миг счастья краток и непрочен? На самом деле, если он и является таковым, то не более и не менее чем миг несчастья. Счастье жадно и ненасытно – отсюда иллюзия его быстротечности. Их вечера пролетали, как один миг, и когда он начинал поглядывать на часы, ее горло перехватывало чувство, похожее на тоску.
Так, значит, все же любовь, Алла Сергеевна, а не жалость? В ответ Алла Сергеевна краснеет и отводит глаза.
- «Он взором огненным мне душу возмутил,
- Он страсть заглохшую так живо воскресил,
- Как будто снова девочкой я стала,
- Как будто с ним меня ничто не разлучало!..»
– с сопрановой неловкостью оправдывается со сцены Татьяна.
Признавая за Татьяниным признанием, в искренности которого мы все же сомневаемся (ибо долг не может превзойти истинную любовь, а если превосходит, то перед нами не любовь, а инстинкт самосохранения), право на сценическое существование, заметим, что схожее чувство Аллы Сергеевны если и воскресло, то не в прежней степени: будучи некогда выше неба, ныне оно упиралось в хмурые облака неизжитой обиды. Оставалось только надеяться, что когда-нибудь Сашке удастся разогнать их и снова стать солнцем. Его измена – живая иллюстрация того, на что способен интеллигентный человек ради желания жить в Москве, будучи наклоненной сослагательным концом в ее сторону, выглядела так: никогда, никоим образом она не стала бы устраиваться в Москве за его счет!
Вот они, небо и хмурые облака, явь и суть ее нынешней любви: тая от его ласк, она таила в себе кривую ухмылку порицания.
Кстати, насчет счета – неугодно ли взглянуть на его скудное московское приданое? Значит, так: в настоящее время он проживает с женой и ее родителями в двухкомнатной квартире и работает инженером в НИИ приборостроения, где отовариваясь продуктовыми наборами, зарабатывает в четыре раза меньше Аллы Сергеевны. Честно говоря, никаких перспектив ни тут, ни там. Но как он только что узнал, при разводе его никто не имеет права выписать, и он даже может претендовать на часть жилплощади. Конечно, делать этого он не станет, чтобы не обделять сына. Да и к тому же ни жена, ни ее родители на обмен не согласятся. А значит, его удел – снимать комнату и искать работу с перспективой на жилье. «В общем, перед тобой бездомный нищий!» – радостно представился Сашка. Однако пусть Алечка не печалится – ради нее он все преодолеет. А если станет совсем хреново – они уедут на родину и заживут там в свое удовольствие.
Так рассуждал, лежа рядом с ней, ее любовник, и поскольку все напасти мира в этот момент находились за пределами квартиры, мир казался ему вполне дружелюбным и приручаемым.
Что ж, значит, рассчитывать на прописку с его участием не приходится – отметила про себя Алла Сергеевна, но не особо опечалилась: этот мир так непоседлив и переменчив. И потом, они еще так неисправимо молоды! Сашкины родители, например, в их возрасте жили в бараке, а те углы, в которых порознь жили ее родители и представить себе невозможно. Одно она знает точно: это ее самец, ее запах, и она хочет восстановить ту сеть их отношений, в которой даже завтрак будет иметь животворное значение. Любит ли она его? Да, любит и хочет быть рядом, тем более что скоро ему придется нелегко: ломать устоявшийся быт – это, знаете ли, тяжело даже для женщины.
«Надо все-таки попробовать прижиться здесь, а домой мы всегда успеем, – рассудила она и добавила: – Ты только жене про развод пока ничего не говори».
«Но ведь рано или поздно она догадается! – возразил Сашка. – Ведь я с ней и так уже почти две недели не сплю!»
«Вот когда догадается, тогда и посмотрим!» – постановила Алла Сергеевна, забираясь в объятия медового отпуска.
К тому дню ее пребывание в столице кроме потех телесных обогатилось новым смыслом – не стратегическим, но тактическим: как важно знать, что ты не одинокая иголка в этом спрессованном стогу сена, что среди миллионов равнодушных людей есть человек, мечтающий взять тебя на руки и донести до кровати.
Сашка тем временем проявлял чудеса изворотливости. Каким-то образом ему удавалось убеждать жену, что три-четыре раза в неделю он и еще два автора-разработчика вынуждены на электричке ездить за сто километров в командировку на подмосковный завод, где начинается производство новых приборов. Естественно, он поздно возвращается и дико устает. Сложнее было напускным сонным мычанием отвечать на откровенные тазобедренные манипуляции жены, но и в этом пункте он пока держался.
Восстановив технику, любовники принялись знакомиться.
За шесть лет каждый из них несомненно изменился, и они, не сговариваясь, искали в самих себе нынешних себя же прошлых, близких и понятных, одновременно открывая друг в друге новые черты и незнакомые свойства. Он, например, был изрядно восхищен ее общей эрудицией: как видно Колюнина школа пошла ей впрок. Она свободно рассуждала о политике и изрекала суждения, смелые даже для москвичей. Колюниными словами она предрекла грандиозные изменения в экономике, чем необычайно развеселила его.
«Вот уж чего не следует ждать, так это революции в экономике, потому что административная система этого никогда не допустит!» – заявил он.
Увидев у нее «Доктора Живаго» он до заикания изумился и сказал, что даже он этот роман еще не читал. Отдельным открытием стало для него ее далеко зашедшее увлечение миром моды. Он слушал, буквально открыв рот, а когда она замолкала, с чувством целовал и просил рассказывать дальше. Единственной областью, где она так и не преуспела, была серьезная музыка. Тут он воодушевлялся и обещал сводить ее в Большой театр на оперу.
Благоразумным пунктиром, в котором размер прочерков далеко превосходил длину штрихов, он поведал ей о жене Ирине. В ответ она кратким, малоконкретным образом сообщила ему о Колюне, и выходило, что им обоим повезло встретить людей умных, добрых и достойных.
Утомив себя любовными упражнениями, они, прижавшись друг к другу, выбирали в прошлом яркие безобидные бирюльки впечатлений и фактов, осторожно вытаскивали их из исторического вороха, составляли из них сусальные узоры – медные, золотые, серебряные, любовались ими и, находя в них не такое уж и далекое безоблачное счастье, бережно украшали им сегодняшний день.
«Аллочка, прости меня, дурака, а! Ну, прости!..» – очнувшись от наркоза грез, неистово сжимал он ее в объятиях, и она с грустной укоризной отвечала: «Как ты мог! Как! Ты! Мог!..»
Так продолжалось до тех пор, пока она не обнаружила, что беременна.
13
Хотите знать, когда это случилось? Тут и думать нечего – в тот самый вечер, когда закончилась шестилетняя разлука, и их любвеобильные излияния затопили закат, обожженные облака, розово-сиреневое небо и проступившую в сгущенной синеве Луну. Уже в ту самую минуту, когда она, сомлевшая, ощутила щекочущий исход его семени, и после, когда сонная нить цвета лунной амальгамы протянулась к ее медовому лунному месяцу – уже тогда она знала, что это случилось. А потом с замиранием ждала, когда ее Масик даст о себе знать, чтобы сказать ему, что она его очень любит, но, к сожалению, чудесное представление откладывается и его выход задерживается. Когда-то они с его папочкой назначили ее пятый курс самым ранним сроком его зачатия – и вот оно случилось, но теперь все изменилось и ее планы уже не те, что прежде. Бедный, бедный Масик!
Еще неделю она позволяла неосведомленной папочкиной цветоножке баюкать всхлипывающую розовую колыбельку, а затем, сославшись на дела, уехала домой делать аборт. Лежа на своей любимой верхней полке и прикрыв глаза, она прислушивалась к себе (хотя, какие признаки жизни может подать булавочная головка!) и вздыхала. Иногда из глубины терпеливой сдержанности всплывал шальной пузырь решимости: «А может, плюнуть на все и родить?», но почти тут же лопался.
Ночью, просыпаясь на чужой станции от неловкого толчка локомотива, она долго не могла уснуть, ворочалась и смахивала тихие слезы:
«Бедный, бедный Масик, злая мамочка едет тебя убивать… – шептала она ему по внутренней связи и тут же добавляла: – Но когда-нибудь ты обязательно, обязательно родишься!»
Приехав домой, она не стала торопить события и зажила в свое удовольствие. С каким-то злорадным наслаждением дразнила она невидимого антрепренера, прибравшего к рукам ее талант и право распоряжаться личной жизнью. Возможно, будь она кроме беременности обременена делами, ее Масик, ставший у них на пути, не прожил бы на мамочкиной родине и неделю. Но деловой застой последнего лета империи конвертировал дела в свободное время, а она в свою очередь обратила его в забытые радости общения. Обильно наведываясь к заматеревшим подругам, она с высот «Доктора Живаго» опускалась до неромантичных мелочей, хитроумно выпытывая и с тайным удовольствием переживая подробности чужой беременности. Подруга Нинка, приглядевшись к ней, заметила:
«Что-то ты Алка, вся цветешь! Москвича, что ли, завела там себе?»
«Завела, завела!» – с радостным смехом подтвердила Алла Сергеевна.
Узнав о ее приезде, с визитом к ней примчался Колюня. Она приняла его, провела на кухню, вернула «Доктора Живаго» и с инфарктной прямотой объявила, что не сможет с ним больше встречаться, потому что у нее теперь другой мужчина. Новости более жестокой и сногсшибательной трудно было себе вообразить, и оглушенный Колюня негромко и неловко удалился, так и не успев воззвать к тещиному сочувствию. Все вышло на удивление честно и буднично. Потом, позже, отмахиваясь от тени укоризны, она нехотя упрекнет себя в неблагодарности, бессердечии, отсутствии прощальной чуткости, одновременно оправдываясь тем, что само присутствие Колюни рядом с плодом Сашкиной любви требовало немедленно отвергнуть его претензии на ее душу и тело.
Прошли две с лишним недели, а она по-прежнему откладывала аборт, словно ожидая, что чей-то громкий голос объявит за нее: «Решено, рожаем!». Осмелевший Масик пускал во все стороны корни, пока она вдруг не спохватилась: «Что я делаю! Ведь он уже большой, ему будет так больно!»
Срок ее к тому времени достиг полных восьми недель, и чтобы избегнуть бесплатного и малогуманного права на выскабливание, ей пришлось с приватной щедростью договариваться со специалистом вакуумной аспирации, в чьи квалифицированные руки она, поплакав накануне, наконец, отдалась. Во второй раз отказав своему лону в плодоношении, она легла в ненавистное кресло и, пережив циничное вмешательство, встала с него скорбная и онемевшая.
Совершенно жуткая, укоризненная пустота образовалась в ней, словно вместе с плодом из нее аспирировали душу. Ей на работу названивал Сашка, но поскольку из-за своего неведения жил он вчерашним днем, то его слова вместе с внезапно возникавшим у нее раздражением не представлялись ей в тот момент целебными, а потому она велела отвечать, что ее нет на работе. Сама она позвонила Алику, который сообщил, что у него «глухо, как в танке» и посоветовал не торопиться. Возвращаться и без того не хотелось, и она так бы и маялась под гнетом прерванного материнства, если бы на ее счастье к ней за вечерними платьями не обратились три клиентки – жены местных партийных работников. Сам факт обращения косвенно свидетельствовал о Колюниной порядочности, которая, даже ужаленная смертельной обидой, не позволила себе дискредитировать Алечку. Или не успела, и клиентки, прознав про ее непорядочность, вот-вот откажутся от заказа – переживала она. Но нет, в положенный срок с ней церемонно рассчитались и осыпали отборными, лестными похвалами. Помнится, от укуса зубастой укоризны она решила, что обязательно позвонит Колюне и попросит прощения. Но не позвонила.
Сашка продолжал донимать ее звонками, и однажды она ответила ему. Говорила спокойно, ласково и сдержанно, удивляясь тому, что меньше всего ей сейчас хотелось бы очутиться с ним в постели. Велела не беспокоиться и не впутывать в их отношения Нинку, ни кого-либо из местных.
В дополнение к щедро оплаченной услуге балагур в резиновых перчатках внятно и толково расписал ей восстановительный курс, из которого следовало избегать мужских домогательств в течение полутора месяцев. Кроме того, за отдельную плату эскулап снабдил ее полугодовым запасом противозачаточных таблеток, искать которые в аптеках того времени было бесполезно.
Следующие полтора месяца Алла Сергеевна, как и было предписано, провела дома, радуясь отсутствию Сашки, которому она, будь он рядом, обязательно позволила бы прежде времени жалеть и зализывать ее медоточивую рану со всеми вытекающими из нее последствиями. Выждав положенный срок, она вооружила коллектив инструкциями и отправилась в Москву, где и оказалась в начале сентября, не заметив, между прочим, что прибыла в совершенно другой город.
Разумеется, она была в курсе событий, особо обратив внимание на сообщение о роспуске компартии. Она тут же подумала о Колюне: вот ведь как бывает – такой незаурядный человек старался, карабкался на вершину, а когда добрался, то нашел там разбитое корыто. А предисловием к находке стал ее разрыв с ним – чем не повод заподозрить ее в расчетливой проницательности? Она даже хотела ему позвонить и откреститься от своих бесчеловечных способностей, но не позвонила.
Первый, кто связался с ней в Москве, был Алик.
«Ну, ты где пропадаешь? – звенела возбужденная мембрана. – Ты в курсе? Ну, мать, теперь мы такие дела завернем!» – ликовала трубка.
«Что, есть заказы?» – приготовилась радоваться Алла Сергеевна.
«Пока нет, но будут. Готовься! Извини, некогда!» – и Алик, дав маршальским жезлом трубки отбой, побежал укреплять позиции.