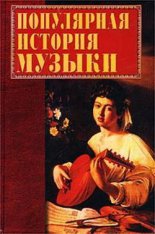Вернуть Онегина. Роман в трех частях Солин Александр

Тогда пусть пеняет на себя…
8
Она не успела припудрить розовое лицо, как появился Клим и, обняв ее, тут же спросил, что случилось. Она с напускной досадой сообщила, что звонила мать, поздравила ее и рассказала, что собирается замуж за человека, которого она, ее дочь, знает с очень неприглядной стороны. Полчаса она, якобы, убеждала мать не делать этого и, естественно, разволновалась: порой мать бывает такой вздорной и упрямой! Не то, что ее рассудительная дочь.
Клим улыбнулся, поцеловал свою Аллушку и заметил, что волнение красит ее необыкновенно. После чего скромно извлек из привезенной папки негнущийся лист бумаги и протянул ей со словами:
«Вот, держи. В дополнение к цветам…»
«Что это?» – принимая лист, с любопытством спросила она.
«Почитай!» – пригласил Клим, улыбаясь.
Она принялась читать – напрягая губы и сдвинув брови, как делают, когда вчитываются в незнакомый важный текст, и как только она закончила читать, лицо ее расправилось, но интрига осталась. Дело в том, что бумага подтверждала право Аллы Сергеевны Клименко на владение пятьюдесятью одним процентом акций АОЗТ «Силуэт».
«Что это, Климушка?» – смущенно обратилась она к нему, чувствуя, как в ней зреет сумасшедшая догадка.
«Фабрика. Швейная. Здесь, недалеко, на Малой Семеновской…», – буднично обронил он.
Она перевела растерянный взгляд на красивую тисненую бумагу, потом на него, потом снова на бумагу и вдруг, как девчонка кинулась ему на шею и сцепила руки с бумагой у него за спиной.
«Климушка, родной, спасибо, спасибо…» – бормотала она, сдерживаясь, чтобы не расплакаться и зная лишь одно: отблагодарить его она сможет только ежечасным, ежеминутным, ежесекундным обожанием и пожизненной собачьей верностью. Но и этого будет недостаточно.
За время, оставшееся до поездки в новый ресторан на Измайловском шоссе, она несколько раз подходила к столу, брала лист с фабрикой, и вчитывалась в него, а один раз даже понюхала. Бумага пахла цветными лоскутами, гладкой саржей, сухо шуршащими нитками, перламутровыми пуговицами и нарядным, многократно простроченным воздухом…
Весь вечер она, находясь в сердечно-приподнятом настроении, опьяненная благородной винной радостью и преисполненная невыразимой благодарности, мечтала оказаться с мужем в постели, чтобы в страстном припадке излить свою неудержимую, рвущуюся наружу признательность. А как еще, скажите, могла она ее выразить? Ведь он не берет ее с собой туда, где она могла бы заслонить его грудью…
Вернулись поздно и вскоре легли. Получив, наконец, мужа в свое распоряжение, она нагим молочно-кремовым искушением скользнула в его объятия. Лучась любовным электричеством, она опутала его оголенными проводами рук и ног, прижалась к нему отвердевшими контактами набухших дефибрилляторов, отпустила на просторы его тела розовую розетку губ и, наэлектризовав его, привела в искрящееся состояние. Затем легко и воздушно оседлала и, не спуская с него мерцающих глаз, медленно, с колдовским значением огладила ему плечи, бока, грудь и живот. Вслед за тем, слегка откинувшись и пружиня бедра, примерилась и торжественно ввела его стальной магнитный сердечник в свой влажный соленоид, после чего, упершись руками в его щитораспределительный торс, приступила к производству любовного тока.
В полном соответствии с законами взаимного магнетизма она равномерными колебательными движениями возбуждала в соленоиде и сердечнике неодолимую, невыносимо нежную экстатическую силу, двигавшую противоположные заряды страсти к обкладкам оргастического конденсатора, где они, накапливаясь, могли в любой момент пробить пространство и судорожной лавиной устремиться друг к другу. Сердечник, поначалу неподвижный, вскоре энергично присоединился к ее усилиям, стремясь до предела использовать величину своего магнитного потока, которая, как известно, пропорциональна его длине. Появление второго источника колебаний с другой амплитудой и направлением обнаружило склонность системы к асинхронности, с которой они, впрочем, успешно справлялись, что и подтверждалось неромантичным шлепаньем ее нежных амортизаторов о его чресла, как при этом ни старался ее соленоид смягчить пружинной силой самоиндукции похожие на пощечины звуки. Интенсивное перемагничивание и блуждающие любовные токи быстро нагрели сердечник, и если бы не надежное охлаждение внутренней поверхности соленоида, кто знает, к чему привело бы их двустороннее усердие. Но к чему оно точно привело, так это к постепенному увеличению частоты колебаний, а с ней и скорости изменения магнитного потока, пронизывающего соленоид, а стало быть, к резкому увеличению экстатической движущей силы, сделавшей, наконец, оргастический заряд критическим. Могучий разряд потряс их незаземленные тела, противоположные заряды воссоединились, и горячий переменный ток толчками потек от его минуса к ее плюсу.
И пока наша героиня, крепко сведя ноги и раскинув руки, остывает вниз лицом на уютном ложе мужниного тела, выразимся так: если движения человеческой души направляет бог, то движения плоти – дьявол. Иными словами, если любовь – это химия (в ее парфюмерно-фармацевтическом смысле), то секс – это физика: Фарадей, Лоренц, Ленц и сам Максвелл. Налицо две разные дисциплины, совмещать которые получается далеко не у всех. Осмелимся даже утверждать, что слуг дьявола среди нас куда больше, чем служителей бога, а порочная склонность полностью посвящать себя физике после того как пройден краткий курс химии, роковым образом заложена в самой человеческой конструкции. Несогласных не станем задерживать, только сдается нам, что при этом они рискуют уподобиться тем тонкогубым эстетам, что демонстративно уходят в разгар представления, чтобы затем досматривать его в дверную щель.
В защиту же Аллы Сергеевны, начинавшей, как и все с химии, а затем соединившей ее с физикой, которой по независящим от нее причинам одной только потом и предавалась, скажем, что не было отныне на свете жрицы любви истовей и набожней ее, чему способствовало счастливейшее соединение романтичных грез, жаркой веры и чудесного воздаяния.
Вот одни говорят, что судьбы нет. Неправда, отвечают другие – судьба есть, только она об этом не знает. Оттого и слепы ее действия, и чем они точнее, тем удивительнее. Третьи же, рассуждая в аллегорической тональности, утверждают, что судьба – это нарядная одежда Случая, в которую он в отличие от скучного платья его сестры Закономерности, рядится, чтобы неожиданной смелостью фасона скрыть их фамильное сходство. Но кто бы что бы ни говорил, нам важнее мнение нашей героини, предписывающее с этого места и до последней точки считать ее брак самым счастливым и нерушимым на свете.
Ночью ей приснилось, будто заплакал сын. Она проснулась, прислушалась, но различила лишь тихое журчание сочившейся из форточки темноты. Повозившись, она приготовилась заснуть, но вместо этого вспомнила вдруг о Сашкиной выходке.
«Где он, что он? – с неуместным сочувствием подумала она. – Мать говорит – пьяный и неухоженный… Странно, каким ветром его к нам занесло… Впрочем, тут все странно – и моя с ним жизнь и нынешняя моя жизнь с Климом… Какие полюса, какая несовместимость! Интересно, кем бы я была и что делала, если бы не встретила Клима? Да что думать – работала бы в ателье и дальше, заработала бы на квартиру, вышла бы за Сашку замуж, а потом… а потом… а потом встретила бы однажды другого мужчину и изменила бы Сашке… Да, изменила, потому что ему трудно не изменить… Вот Климу изменить нельзя. Невозможно. Немыслимо. И не потому, что убьет, а потому что он настоящий, он мой. На всю жизнь. Навсегда…»
Каким-то чутким образом Клим услышал ее мысли и проснулся:
«Аллушка, ты почему не спишь?» – заботливо спросил он.
«Не спится, Климушка!» – потянулась она к нему.
«Иди ко мне!» – заключил ее в надежные объятия Клим – наставник, друг, любовник, муж, отец ее сына. Ее отец: так думали все, кто видел их вместе.
«Знаешь, Климушка, что я сейчас подумала?»
«Что, Аллушка?»
«Я подумала – что бы я делала и кем бы я без тебя была!..»
Сегодня она себя об этом уже не спрашивает. И не потому, что вопрос потерял былое значение, или по причине ее нежелания копаться в лимфатических узлах сослагательного трупа, а потому что давно знает ответ: без Клима она так и осталась бы талантливой, подающей надежды замухрышкой…
9
Именно с того момента, когда она объявила в ателье: «Переезжаем, девочки!», и сводный хор портних порадовался своей избранной принадлежности к судьбе их удачливой хозяйки – именно с тех пор нет ей покоя, а дни мелькают, как спицы колес, что накручивая года, уносят ее, нынешнюю солистку, все дальше и дальше от той молодой неискушенной хористки, какой она себя помнит.
С самого начала Клим ей сказал: «Фабрика запущенная, но перспективная. Делай все, что считаешь нужным – я буду помогать…»
И возрастом, и опытом своим Алла Сергеевна была уже готова к тому, чтобы, приехав на фабрику, трезво и поделом оценить нездоровую кожу территории, до облупленности запущенные помещения, старое изношенное оборудование, безликий швейный ассортимент и среднее качество продукции. Фабрика ничем, по сути, не отличалась от ее родной, сибирской, где она начинала. Тот же скученный набор царских краснокирпичных казематов на все случаи жизни и советского новостроя, вроде типового трехэтажного заводоуправления. К тому времени фабрика успела побывать в равнодушных руках, которые после себя ничего на ней, кроме грязных отпечатков пальцев не оставили.
«Вот мой новый оркестр, который предстоит настроить и научить играть!» – подумала она, пожимая руки главным специалистам. «Тебе, сопливой девчонке, нас?..» – подумал, наверное, каждый из них, уродуя лицемерной улыбкой лицо.
Четыреста человек зависели теперь от ее планов и удачи. Четыреста ртов надеялись, что она накормит их не только хлебом, но и маслом. Четыреста клейменых российским проклятием классовых врагов с возмущенным кипящим разумом готовились дать бой ее хозяйским устремлениям.
Пожилому растерянному директору она сказала: «Работайте дальше, а там посмотрим…». И попросила собрать завтра в актовом зале трудовой коллектив.
Взойдя назавтра на трибуну (спасибо комсомолу, научившему ее не бояться трибун), она оглядела зал и, вспомнив Колюнин совет искать добрые глаза, сразу решила, что ее союзницы – это молодые девчонки и женщины до сорока с неразвитым чувством классовой ненависти. К ним она и обратилась:
«Я не знаю, как мне вас называть – друзья, товарищи или как-то еще. Поэтому я сначала представлюсь, а потом мы решим, кто мы друг другу. Зовут меня Алла Сергеевна Клименко. Я из рабочей семьи, и мне тридцать лет. Сибирячка, но уже несколько лет живу в Москве. Закончила ПТУ при такой же швейной фабрике и поработала швеей. Потом закончила заочный и работала там же технологом. Разбираюсь немного в моде и люблю придумывать новые модели. Имею хороший и полезный опыт работы в ателье. Замужем. Сыну год с небольшим. Вот в основном и все. Если моя биография вас устраивает, то значит, я такая же, как и вы. И тогда я скажу вам так: девчонки, давайте попробуем вместе чего-то добиться! Давайте сделаем из фабрики передовое предприятие! Я знаю, что нужно делать и знаю, как нужно делать. А если я чего-то не знаю – вы меня научите и поможете мне. Первое, что мы сделаем – это обновим оборудование и пересмотрим ассортимент. Мы создадим конструкторское бюро и будем разрабатывать собственные модели. В этом смогут участвовать все желающие. Все вы будете хорошо зарабатывать, а прибыль мы будем тратить на развитие.
Девочки, я пришла сюда не в кабинете сидеть, а работать вместе с вами, и я не собираюсь быть вашей хозяйкой, а хочу быть вашей подругой. Хочу, чтобы вы поняли: это не моя, это ваша фабрика. Хозяева приходят и уходят, а вы остаетесь. А поэтому, либо мы с вами вместе поднимем фабрику, либо вместе пойдем ко дну. По-другому в наше время быть не может. Если верите мне, если согласны – прямо завтра и начнем!»
Назавтра она начала вникать в бухгалтерские и коммерческие дела и обнаружила, что положение фабрики гораздо хуже, чем ей представлялось. Все здесь было запущено, все надо было менять – от поставщиков до заказчиков, от проходной до столовой, от материального учета до мозгов. Зарплату здесь платили от случая к случаю, в промежутках выдавая вместо денег детские платьица и васильковые сарафаны, которые девчонки пытались пристроить на Измайловском рынке. Потухшие, равнодушные, нищие люди, которых невозможно оживить пинками и зуботычинами, а только собственной энергией и успехом, населяли фабрику.
Первое, что она сделала, это отказала в гостеприимстве мутным арендаторам, велев им в трехдневный срок освободить территорию. Ее требование нагло проигнорировали, и фургоны с импортными коробками продолжали круглые сутки сновать туда-сюда. Тогда она не стала церемониться – приехали люди Клима с пистолетами под мышками и выставили упиравшихся дельцов вместе с их коробками за ворота, присоединив к ним их покровителей – главного бухгалтера и коммерческого директора. Через два дня от Клима явились два вежливых, культурных специалиста и заняли свободные кресла.
После этого ей стали молча и осторожно улыбаться.
В это же время появился отставной подполковник из органов и, возглавив охрану, привел в порядок ограждения и сделал из проходного двора проходную. Пьяных мужиков стали при выходе останавливать и актировать на предмет опьянения. После трех таких актов их, невзирая на былые заслуги, увольняли. Естественно, появились недовольные, которые новую хозяйку иначе как «сучка» не называли. Но были и довольные – женщины, например.
Алла Сергеевна предупредила директора столовой, кормившей фабрику по договору, что если та украдет хоть копейку из денег, которые она ей платит, то… Директорша не дослушала, замахала руками и клятвенно заверила, что это не про нее. Так или иначе, но с тех пор кормить там стали гораздо лучше. Этим остались довольны все.
Улыбались ей все еще молча, но уже доброжелательно.
Разобравшись с дебиторской задолженностью, она попыталась полюбовно взыскать долги. Мирные переговоры результатов не дали, и в дело вмешался Клим. Через неделю часть долгов была выплачена, и людям выдали полноценную зарплату за два затерявшихся в прошлом году месяца. Теперь при встрече с ней все улыбались, здоровались и говорили: «Спасибо, Алла Сергеевна!», а кое-кто добавлял: «Дай вам бог здоровья!»
На эти и прочие поверхностно-показательные достижения ушли два месяца. Фундаментальные же перемены, вязкие и тягучие, были менее публичны и не так скоры. Ей все же пришлось расстаться с пожилым и, в сущности, неплохим директором, чтобы собрав в руках все нити управления, свить из них прочный канат, способный вытащить фабрику из ямы, в которой она оказалась.
Рассчитавшись с Аликом, расцеловав его и вручив ему почетный пропуск, по которому он мог в любое время попасть к ней на фабрику, она перевезла туда Марину Брамус с портнихами. Образовав из них конструкторское бюро, она поручила им как можно быстрее обновить ассортимент. В дальнейшем, когда славные достижения фабрики украсятся пышными одеждами мифологии, все четверо будут гордиться тем, что они с Аллой Сергеевной «с самого начала». Между прочим, помня свою былую невостребованность, она громогласно пригласила всех желающих пожаловать к ней со своими эскизами. Трех способных девчонок она после приватной беседы направила в бюро, куда их и зачислили, невзирая на отсутствие у них специального образования.
Воодушевленные технологи, с некоторых пор гордившиеся ее к ним особым вниманием, разрабатывали по ее указанию дерзкий проект швейного потока с полным обновлением оборудования. Полученные ею знания, важно озаглавленные «Технологическое обеспечение и организация швейного потока при малосерийном производстве», позволяли им общаться на одном языке. Иначе как бы она объяснила им свое желание видеть поток непременно секционным и со специализированным участком по обработке узлов самой высокой сложности, а монтажная секция чтобы состояла из нескольких линий. С точки зрения технической оснащенности процесс должен быть комплексно-механизированным, говорила она, так как не может быть и речи о сокращении рабочих мест основного производства. Вот потом, позже, когда процесс наладится, можно будет подумать об автоматических линиях. «Но это когда еще будет!.. – махнула она рукой в светлую даль на совещании у технологов и добавила: – А запускать модели в поток будем пока последовательно-ассортиментным способом. А дальше подумаем о комбинированном…».
«Откуда деньги возьмем?» – осторожно интересовались в ее свите. «Деньги будут!» – отсекала она сомнения словами Клима.
Все службы перетряхивались и проверялись на состоятельность. Пришлось сменить главного инженера, начальников снабжения и договорного отдела. Фабрика гудела и потирала ушибленные места. Население фабрики разделилось на ее ярых сторонников и не менее ярых противников. Петенька с пистолетом под мышкой аккуратно следовал за ней по пятам.
Наконец, закупили новое оборудование и, закрывая по очереди два основных цеха, начинили их за четыре месяца передовой по тем временам техникой. Энтузиасты ходили туда подышать дразнящим запахом новизны. Там воодушевлялись видавшие виды специалисты, и молодели от невиданных перемен ветераны. И вот, наконец, изготовлена опытная партия нового ассортимента – нарядные костюмчики и платьица для детей и недорогая повседневная одежда для женщин. Пусть простенькие, облегченные, малотрудоемкие, но безукоризненного кроя и качества. На черных этикетках золотой ниткой выткана марка “Siluet-ASK”. Партия была скуплена оптовиками на корню.
После выпуска первой партии обновок отличившимся раздали премии, и был устроен торжественный вечер с бесплатным буфетом. Весь вечер она выслушивала дорогие ее сердцу признания в любви, скромно переадресовывая их новым друзьям и любезному ее сердцу коллективу. Чувствовала она себя, как альпинист, который вбивая в отвесную стену крюк за крюком, достигает края плато, выбирается на него и, перекатившись на спину, переводит дух в метре от пропасти, глядя в пронзительно голубое высокое небо, до которого еще ползти и ползти.
«Кто же владелец остальных сорока девяти процентов? – однажды спросила она у мужа, имея в виду некое общество закрытого типа, чьих учредителей не сыщешь днем с огнем. – На кого я батрачу?»
«Все нормально, Аллушка, все нормально! – улыбнулся Клим. – На себя батрачишь… На себя и на сына…»
10
Что до любви коллектива, то она не питала на ее счет никаких иллюзий: да, у нее есть друзья, но и врагов немало, полагала она, и чем их положение выше, тем они скрытней. Эти последние, подчеркнуто-вежливые и немногочисленные, имели основания ненавидеть ее за то, что она лишила их влияния и материальных благ, добытых долгим, упорным восхождением, поставила их в бесправное, подчиненное положение, к которому они не привыкли. И то, что виной тому, по сути, была не она, а новая власть, их ненависти не умеряло.
Другие, те, что попроще, видели в ней этакого персонажа из мира зла, объявившегося на российских подмостках по ошибке машиниста сцены, который свою ошибку скоро исправит и заставит новых эксплуататоров сгинуть в подвалах сцены. Мнение для нашей, не знающей, чего она хочет, страны, такое же распространенное, как и нерентабельное. Только как же тут думать иначе, если старорежимный западноевропейский тезис «Собственность – это кража», не касающийся, казалось бы, нас никаким боком, подтвердился в России конца двадцатого века с государственным размахом и обескураживающей наглостью!
Если собственность вынуждена оправдываться, то она не признается соплеменниками законной, и это есть первый повод к политическому землетрясению. С другой стороны, сообщество разумных существ предполагает отношения подчинения. Но пока подчинение не станет добровольным, пока властьимущие будут возводить между собой и остальными стену, всегда найдутся желающие ее разрушить. И это вторая причина ждать у нас очередного исторического кульбита. Таковы реальности нашей очарованной страны, движущейся по паркетам мировой истории в диковинном винно-водочном танце, основное коленце которого складывается из шага вперед, двух шагов назад и в сторону.
Впрочем, все это мало волновало одержимую созиданием Аллу Сергеевну. Она даже не заметила, как минул год. Она не заметила бы и двух, и трех, если бы летом девяносто шестого Клим почти насильно не увез ее на испанский курорт. Так она впервые очутилась и за границей, и на море, где ее ждали… Но подождите, подождите – прежде чем двинуться дальше, позвольте осадить ее разгоряченную память и набросить на нее лоскутную попону подробностей. Не скроем, что кроем она будет теперь гораздо рациональней, сдержанней и суше той безвкусной цыганской пестроты, в которую наш сюжет рядился до сих пор. Еще бы – ведь закройщицей у нас теперь простая и ясная правда, гласящая: героиня соединилась, наконец, с мечтой, а мечта соединилась с ней. Вот суть подробностей, вот заголовок самой главной и громкой главы ее трудовой биографии.
Ее вдруг обуяло чувство, о котором она раньше не имела понятия: слепая самоотверженная любовь к неодушевленному монстру, пожирающему ее дни и сосущему из нее жизненные соки – такая же нежданная, стремительная и отчаянная, как и ее любовь к мужу. И тут уместно спросить: отдаваться работе неистовей, чем мужу – это ли не повод для недовольства с его стороны? Оказалось, что нет. Если раньше она, безотлучно находясь дома, запасалась в течение дня нетерпением и, дождавшись мужа, окружала его энергичной заботой, то теперь муж, бывая дома, встречал ее у порога, а затем сидел с ней на кухне и, с улыбкой выслушивая горячие фабричные новости, вставлял время от времени: «Ешь, ешь, а то остынет!» Ему нравилось заботиться о ней, озабоченной и уставшей.
Когда на первых порах она часто, слишком часто возвращалась домой поздно вечером, и сил у нее хватало только на то, чтобы поцеловать спящего сына, кое-как поужинать, добраться до постели и, прильнув бледным лицом к мужу, пролепетать в ответ на его нежные потискивания: «Климушка, родной, давай завтра – я сегодня никакая…» – так вот, жалея ее, безвольную, он прижимал ее к груди, гладил и целовал в голову, и было удивительно, сколько ласки и тепла таило его грубое суровое тело. Она откликалась невнятным бормотанием и через несколько минут засыпала, устремив к нему лицо с доверчиво приоткрытым ртом. Он, боясь пошевелиться и с умилением прислушиваясь к ее тихому дыханию у себя на плече, оставлял ее там дышать как можно дольше, перед тем как разомкнуть объятия, уложить, прикрыть одеялом и осторожно поцеловать.
Ничего этого она не чувствовала и утром просыпалась так же внезапно, как и засыпала, но уже свежая, бодрая, с новыми дерзкими мыслями о фабрике. Если время позволяло, то перед тем как отдаться фабрике, она отдавалась голодному возлюбленному, соединяя тем самым три любви в одну, потому что ее любовь к фабрике и любовь к сыну были продолжением ее любви к мужу.
Она ухаживала за фабрикой, как ухаживала бы за их покалеченным, тяжелобольным ребенком, а вылечив, принялась холить ее и лелеять. Это потом она узнает другую, подноготную сторону своих усилий – резко возросшую капитализацию фабрики и все такое прочее и скучное.
Неожиданным и вынужденным отдыхом были для нее Санькины болезни – слава богу, редкие, несерьезные, дежурные, и тогда она, досадуя и на болезнь, и на отдых, сидела дома, отводила с сыном душу, продолжая думать о фабрике и любить ее по телефону. Однажды после трех первых самых окаянных и заполошенных месяцев, когда она, видевшая ребенка только спящим, захотела взять его на руки, он закапризничал, изогнулся и потянулся ручками к няньке. Покрасневшая няня забрала его и смущенно заворковала: «Ну, а где наша мамочка? Ну-ка, Санечка, где наша мамочка? Ну-ка, ну-ка, покажи, где мамочка!..» И ребенок, помедлив, указал на нее пальчиком, как указал бы на стол или стул, если бы его попросили. Указать указал, но идти к ней не захотел.
Этот случай изрядно отрезвил Аллу Сергеевну и заставил появляться дома пораньше, чтобы побыть с сыном, перед тем как он уснет. Если Клим приезжал не очень поздно, а случалось такое не более двух-трех раз в неделю, то они, поужинав, устраивались на диване перед телевизором. Постучав для порядку в его дверь («Как у тебя, Климушка, дела?») и заведомо зная, что не откроют («Все в порядке, Аллушка, все в порядке!»), она возвращалась на свою половину, откуда за неимением других делилась фабричными новостями. Он внимательно слушал, переспрашивал, уточнял, хмыкал или, дергая бровью, ронял в адрес нерадивых контрагентов: «Вот как!..» Уловив его недовольство, она спешила заверить, что необходимости в санкциях нет: не желая доводить дело до греха, она обращалась к нему за помощью только в исключительных случаях.
Говорили, что у него крутой нрав и тяжелая рука, но эти его принадлежности жили где-то там, на темной стороне луны, а рядом с ней находился человек-солнце, за которого ей ни разу в жизни не пришлось краснеть. Удивительно удобное, экологически чистое душевное состояние – быть замужем за человеком, о котором знаешь только то, что он самый любящий и нежный мужчина на свете! И это правильно, ибо плох тот отец, что освещает жизненный путь дочери темным пламенем грубых манер. Да, да, именно дочери. Такими с некоторой долей навязчивости виделись ей их отношения за пределами кровати: примерный отец любовно и сдержанно указывает дочери на ошибки и не забывает приветствовать достижения. Разумеется, так же вел бы себя с ученицей добрый учитель, но Клим к учительскому рвению добавлял голос крови, завещанный ему ее настоящим отцом.
Иногда ей это нравилось, и тогда она избегала называть его Климушка, чтобы супружеским именем не разрушить запоздалое и, может, потому такое сладкое, доверчивое, добровольно-подчиненное дочернее чувство. Но иногда роль дочери ей надоедала, и тогда она разгуливала перед ним в коротеньком облегающем халатике и без лифчика. Сверкая стройными, невыносимо притягательными ногами, поигрывая несдержанной грудью и вскидывая потупленные глаза, она намеренно усаживалась так, чтобы и без того короткие полы разъезжались до ослепительно-молочного наваждения. Ей, видите ли, нравилось наблюдать, как в муже вспыхивает и разгорается смущенное желание, как отец борется в нем с мужчиной.
Вот и здесь, на диване, она каждый раз с волнением ждала, когда он, увлекшись поучениями, непроизвольно начнет оглаживать ее, забираясь как бы невзначай в укромные места и задерживаясь там. На ее глазах происходила стремительная метаморфоза отца в любовника, и нежный, пожираемый страстью оборотень уносил ее в спальную, где заставлял забыть обо всем на свете. Такая вот деловая прелюдия, такой вот квазиинцест.
Выходные утренние часы, если Климу некуда было спешить, они проводили в постели. Натешившись, брали к себе сына, и он ползал между их распаренными негой телами, переваливаясь и воркуя. С гордостью и умилением взирая на плод их любви, она вдруг подхватывала ребенка и прижималась с ним к суровому сдержанному мужу, чтобы шепнуть: «Мы очень, очень, очень любим нашего папочку!» Русоголовый, подвижный, смышленый малыш, заключенный в семейную раковину, таращил любопытные глазенки. Заговорил он в тот год почти без участия матери, впрочем, как и отца, но все же к отцу он тянулся охотнее, чем к матери.
Алла Сергеевна никогда не видела мужа с книгой. Он часто и загадочно говорил по телефону, а по телевизору смотрел только новости. В театр ходить воздерживался, но был умеренно рад домашней музыке. Погревшись у семейного очага, он уезжал по делам, и, как уже говорилось, никакого порядка в его исчезновениях и возвращениях не было – сплошной таинственный хаос.
Алла Сергеевна, возлюбив после «Евгения Онегина» оперу и побывав затем с Сашкой в Большом еще пару раз, через месяц после свадьбы попросила мужа сводить ее туда, пока еще не поздно, на что Клим ответил: «Я с тобой, Аллушка, готов куда угодно, но только не в оперу! Если хочешь, сходи с подругой!» И пообещал им в сопровождающие крепкого охранника. Настаивать было бесполезно, капризничать она не умела, а поскольку ее безрассудно счастливое состояние, в котором она в то время пребывала, крайней нужды в опере не испытывало, то Большой театр был с легким сердцем отложен до лучших времен. Между прочим, ей тогда пришлов голову, что она могла там встретить Сашку. «Вот была бы сцена: стою яперед ним, сбежавшая любовница, с законным пузом, чужая, равнодушная и недосягаемая!» – проступила на ее лице язвительная усмешка. В возможные последствия такой встречи она углубляться не стала. Предполагалось, что искусав себе локти, заплакав и заломив руки, Сашка окончательно исчезает с ее пути.
После родов ей стало не до оперы, а с фабрикой светская жизнь и вовсе отошла на задний план. Небольшая коллекция оперных пластинок безуспешно пыталась привлечь ее внимание через тонированную стеклянную створку тумбочки, кряхтящей под тяжестью лоснящейся импортной аппаратуры.
Она не чуралась телевизора. Правда, смотрела урывками, и интерес ее при этом был сосредоточен на одежде, в которую рядились бойкие жители голубого эфира. По той же причине она любила диетически– обезжиренные американские фильмы, но досмотреть их до конца ей редко удавалось. Иногда, оставаясь одна, она подходила к книжному шкафу, скользила взглядом по вспученным корешкам и выдергивала тот, что наиболее, как ей казалось, соответствовал ее настроению. Предвкушая удовольствие, она забиралась с ногами в кресло и принималась читать. Но нет, не одолев и трех страниц, она откладывала книгу и устремленным сквозь стены взором прокладывала мыслям путь к фабрике. Увы, увы, и это стало ей понятно в первый же месяц новой жизни – увы, о собственном Доме мод придется на время забыть, ибо невозможно запрячь одну лошадь в две повозки. Но она построит его, обязательно построит! Вот только поставит на ноги фабрику…
В таком спрессованном, однообразном, но вовсе не скучном виде представляются ей первые годы фабричной эпопеи. Таков был их торопливый бег, и по мере того, как дело налаживалось и внутреннее напряжение ослабевало, ее жизнь наполнялась светским разнообразием, а усталое удовлетворение сменялось ощущением свободного парения.
Что же касается мужнего совместного «куда угодно», то поначалу оно ограничивалось выездами в принадлежавшие их сообществу рестораны – родовые увеселительные заведения, где по-семейному отмечались успехи их общего дела. Потом, когда в лесу под Балашихой были отстроены дома для Клима и его ближайших сподвижников, они выбирались туда черной стремительной кавалькадой и развлекались тем, что навещали друг друга, переходя из дома в дом. Стриженые лужайки там сладко пахли кровью искромсанной травы, и мужчины с пивом в руках общались на них с грубоватой сердечностью, как это делали бы железнодорожники или строители, или кузнецы с плотниками. Кроме Маркуши, все друзья Клима были женаты и имели детей. Их жены, простоватые и хозяйственные, сбивались поодаль в кружок и, вслушиваясь в их горластое просторечие, невозможно было не признать, что высокие чувства подобны оперным голосам: у многих они отсутствуют напрочь, у остальных же не превосходят диапазона губной гармошки.
Итак, летом девяносто шестого они впервые выехали на зарубежную базу отдыха «климовских» – в Испанию.
11
…Где ее ждали новые открытия.
Во-первых, три ослепительно белые виллы – ухоженные кукольные мирки в ряду таких же белых двухэтажных домиков, отделенных от береговой полосы заборами – по пояс каменными, а выше пояса из плотного, непролазного, густо-зеленого, мелколистого кустарника с квадратными плечами, над которыми возвышались стриженые шевелюры примыкавших к ним деревьев.
«Чьи? Наши!» – отвечал Клим, пояснив, что здесь в течение года по очереди отдыхают простые российские граждане, каковыми являются он, его соратники и их жены с детьми. В тот раз вторую виллу занимала семья одного из приближенных Клима, а на третьей располагался Маркуша с охранниками. Кроме того имелся «наш» отель, где восстанавливала силы братва попроще. Все это бандитское профсоюзное хозяйство располагалось к северу от Барселоны, в городке Премиа-де-Мар. Неудивительно, что в полном соответствии с законом случайных смыслов, странным образом возникающих из фонетического родства далеких друг от друга понятий – таких, например, как носки-обноски, тунец-тунеядец, стойка-настойка, астроном-гастроном, рабский-арабский, овечий-человечий, расширяться – два ширяться и им подобных – так вот, следуя этому закону, отдых в тех местах был прозван рядовыми братками «марухина премия» или просто «маруха». «Обещали марухину премию… Оттянулся на испанской марухе…» – хвастали они в разговоре.
Во-вторых, ухоженное испанское королевство. Все здесь – от укладок до уклада было другое, не наше, неожиданное, непривычно мечтательное и, самое главное, далекое от тех дежурных вибраций, что существуя внутри каждого из нас, исправно отзываются на звуки знакомого имени. Произнесите «Испания», и на ваш зов тут же сбегутся дон Кихот, дон Жуан, армада, инквизиция, тореадоры, коррида, Гойя, Кармен, но пасаран, сиеста, кастаньеты, рокот гитары, красно-черное фламенко, строптивые баски – как языки пламени, как жар невидимого костра. Испания – территория страсти, возвышенная и свободолюбивая страна чернокудрых гордецов и гордячек: с таким лестным мнением приехала она туда.
На самом же деле в выгоревшем от солнца приморском городке жили вежливые, улыбчивые, спокойные, соединенные друг с другом амортизаторами культуры люди. Рядом с ними Клим и его друзья выглядели и вели себя, словно слоны в посудном ряду. Не грубо, нет – неуклюже. Алла Сергеевна, как и всякий, попадающий под поверхностное очарование нового и незнакомого – исходит ли оно от человека или явления природы, ремесла или книги, страны или зари жизни – испытывала жадное ахающее любопытство, чему немало способствовали их прогулки по городу.
Обжигаемые белым перпендикуляром солнца, экономные, с геометрическим усердием разлинованные и выложенные серой плиткой улицы. Послушная прирученная зелень, аккуратные поджарые деревья, растущие там, где им указано. Двух-трехэтажные, игрушечные против московских дома. Резные сгущенные тени, что вжимаются в испуге в полуденные стены, а переведя дух, переходят в контрнаступление. Фасады блеклых тонов, словно плоскости, сошедшие с кубических картин Пикассо. Или перешедшие туда со стен домов? Не на испанских ли улицах берет начало малокровный кубизм – дитя высокомерной живописи и ее практичного кузена дизайна?
«Ну, конечно, – огорчалась она, глядя на лоскутную очередь домов, – ну конечно, Пикассо давно процитирован! Ведь его сухие, покоробленные выкройки женских форм в них же и должны воплотиться!»
И пока Алла Сергеевна увлечена поисками родства между шулерской колодой пикассовых плоскостей и уличными настенными фресками в стиле а ля Кандинский (кстати, вот верный признак конца света – Сикстинская капелла, расписанная абстракционистом), вставим здесь тайком от нее несколько замечаний.
В многочлене «Я царь – я раб – я червь – я бог» человека разумного должна в первую очередь заботить его третья ипостась, поскольку она врожденная, тогда как остальные три – приобретенные. И заботить должна не столько ее внутренняя сущность, казнятся которой лишь люди униженные, сколько внешнее обнаженное сходство. Не этого ли сходства, оказавшись голыми, бессознательно стыдимся мы, корчась и торопясь прикрыть то, чем на самом деле должны гордиться? Не оттого ли кутаемся в одежды, чтобы скрыть ею досадное подобие? Если это так, то главная задача всякого модельера, а также иных деятелей искусств – отвлечь взгляд человека от его приземленного, извивающегося обличья, ибо человеку куда милей чувствовать себя гладким вкрадчивым зверем, чем мириться с положением червя.
В широком смысле Мода – это та порция свободы, которую эпоха отмеривает человеку, и которую человек, вступая в соревнование с себе подобными, волен употребить или не употребить. Давно известно, что Мода повелевает не только материальной частью нашей жизни, но и тем эфемерным, неосязаемым миром, который обнаруживает себя в наших чувствах. К примеру, потребность одеть мысли – той же породы, что и потребность одеть тело. Писатель, как уже говорилось – модельер языка. Он повелитель и раб тщеславного, спорного, навязчивого феномена, обозначаемого туманным понятием «творчество» – род восхитительной, желанной болезни, которой вместе с ним подвержены художники, музыканты, артисты и прочие служители муз. Метаболизм индуцируемых ими чувств, эмоций, ощущения и образов способен оживлять и окрылять чужие души.
Так устроено, что в погоне за Красотой, чья суть еще туманней, чем творчество, они доверяются суждениям Моды – «обманчивой красоты», как определял ее в самом начале пути Платон – вздорной, капризной и шумной особы, рангом не ниже олимпийского. Тем, кто с ней в ладу, живется легко и удобно. А если она вдобавок благосклонно прислушивается к тому, что они шепчут ей на ухо, их положение делается прочным и обеспеченным. Тем же, кто не может на нее влиять, остается лишь удивляться ее причудливым предпочтениям, с какими она выбирает законодателей себя самой. Но еще удивительней ее неразборчивость.
Взять, к примеру, ту же литературу: посмотрите, во что в угоду моде превратилась в двадцатом веке эта уважаемая, корсетно-кринолиновая дама. А вышло вот что: сначала ее опоили опиумом символизма, а затем уложили в холодное прокрустово ложе психоанализа, после чего она, что называется, пошла по рукам. Вступая в сомнительную и скоротечную связь с модными взглядами на себя, она нарожала им целый выводок «измов». Нет, нет, конечно, были среди них весьма достойные, стильные и запоминающиеся союзы, но кончилось тем, что она сошлась с бездушным структурализмом, и тот сделал ее бесплодной. Время открытий осталось позади, человек исчерпал себя до дна и теперь изрекает давно изреченные глаголы. Писатель из божьего наперсника превратился в директора кукольного театра, наступила эпоха эпигонов, эссеистов и публицистов. Литература-мать сильно сдала, зато вовсю шалят ее бойкие дети.
Недоверчивых и несогласных приглашаем полистать иллюстрированную эволюцию человеческого духа, какой является история моды, следующая, как известно, параллельно литературным и прочим художественным вкусам. Пункт отправления – канун двадцатого века. Одежда читающих слоев общества при всех ее различиях, по сути, чинна, чопорна и основательна. Попеременно припадая то к французскому, то к английскому источнику, она стоит на страже общественной нравственности – от грациозных каблучков до самого горла.
Пункт прибытия – наши дни. Между пунктами – буйство технического прогресса, разрушительный цинизм двух мировых войн и трех мирных прокладок. Когда-то единое и неделимое тело моды рассыпалось на фрагменты модных домов, каждый из которых гонит свою волну, отчего от их причудливого сложения рябит в глазах. Мода стала подобна сумасшедшему хирургу, ампутирующему и вновь пришивающему полы, подолы, рукава, штанины, волосы и нравы. Одежду разъяли на множество готовых частей, и теперь каждый может составить из них тот наряд, какой считает нужным. Доступен любой образ – от ангела до дьявола, и каждый сам себе законодатель и критик.
«А есть ли в наши дни истинная литература?» – возможно, спросите вы, и я вам, возможно, отвечу, если вы поясните, что это такое. А пока вы размышляете, мы с Аллой Сергеевной, глядя на жителей городка, скажем так: «Не идеи, а деньги, не стиль, а стильный хаос – вот литература… ах, простите! – одежда нашего времени. Но подобно высокой моде есть высокая литература, и у нее высокая температура. У всех прочих джинсов, футболок и маечек – тридцать шесть и шесть».
Вы спросите – к чему это все? А к тому что люди в Премиа-де-Мар в отличие от летней Москвы одевались с удручающим однообразием. Причиной ли тому влажная жара или всеобщий уговор, но фантазия большинства местных жителей не шла дальше футболок, шортов, джинсов, свободных юбок, плоской обуви и черных очков. Сама Алла Сергеевна поначалу носила легкие, нарядные, соответствующие ее приподнятому настроению платья, пока не поняла, что все же практичней следовать не моде, а погоде. Кроме того, шорты и футболка как нельзя лучше подходили материнским заботам: прижать потного малыша к потному телу или держать его, ерзающего, на мнущихся коленях, или присесть перед ним, не боясь, что шелковый подол соскользнет по гладким ногам ниже, чем следует. И вообще – дайте отдохнуть от утомительного совершенства: муж любит ее и такой!
В-третьих, море. Вернее, в первую очередь море. Точнее: море и только море – ничего, кроме моря! После мужа и сына, разумеется. Как же давно она не купалась – так давно, что отяжелевшей памятью не нащупать дна! Неужели же со времен Колюни, неужели?!
На море она летела впервые, встречи с ним ждала с волнением, и когда самолет, заходя на посадку, вторгся в его окаймленные золотой тесьмой пределы, она успела разглядеть сквозь сизое марево дня лишь белые морщины на его зеленовато-голубом плоском лице. А когда они, пересев в поджидавший их автомобиль, вырвались из каменных объятий Барселоны, и сквозь редеющие прибрежные постройки замелькали серебристые проблески, которые вдруг слились в широкую сияющую полосу, она зачарованно выдохнула: «Море…».
Приехав на место, они поспешили к воде, и там, на берегу безбрежной стихии она, ласкаемая аптечным дыханием бриза и поедаемая хищным солнцем, взволнованно разглядывала волнистое лазурное полотно, по которому катились прозрачные, гулко-шипящие строчки: «мой дядя самых честных правил, когда не в шутку занемог…», «предвижу все: вас оскорбит печальной тайны объясненье…», «теперь, я знаю, в вашей воле меня презреньем наказать…». Насмотревшись и надышавшись, она с восторгом погрузилась в солоновато-живительную прохладу и уже не выбиралась оттуда до конца отпуска.
Их орхидейный сверкающий рай располагался напротив так называемого общественного парка, едва тянувшего по нашим меркам на звание сквера и представлявшего собой неширокую, короткую, огороженную ажурной решеткой и вымощенную плиткой прибрежную полосу с редкими, как и посетители, пальмами, не заслонявшими близкого моря. Подобным же образом обстояло дело со словом «вилла», в лестном фонетическом родстве с которым состояло ее имя и чьи патрицианские корни взрастили в ней санаторно-кипарисовый, многоэтажный образ. На самом же деле их так называемая вилла едва годилась во флигеля их трехэтажному подмосковному дому. Иными словами, размашистые московские понятия никак поначалу не вмещались в местные пространства и объемы. Так человека, привыкшего к ширине взрослых железнодорожных путей, озадачивает детская узкоколейка, в которой, пока к ней не привыкнуть, видится нечто игрушечное. И пусть то же самое она испытывала, возвращаясь из Москвы к себе в провинцию, все же разница была весьма существенная: заграница в представлении никогда не бывавшего там русского человека выглядит чем-то недоступно-величественно-назидательным, а потому, приложенная к родным просторам, внезапно обнаруживает свой местечковый масштаб. Ну как тут не порадоваться за родную страну, отхватившую впрок полмира и оберегающую в ожидании лучших времен свои полупустые пространства!
Впрочем, их кукольное гнездышко ей безумно нравилось. Хороши были низкие, прохладные, защищенные от солнца ресницами персиан комнаты, их тесноватый уют – муж и сын, когда хочется их поцеловать, всегда под рукой: чем не идеал семейной идиллии! Нравилась широкая низкая кровать – испытательный полигон их новой техники, когда она, распаленная солнцем, возбужденная греховной первородной свежестью морской воды и впитавшая босыми ступнями обжигающую страсть испанской земли, теряла голову от сияющего зова обольстительной звездной бездны. Подталкиваемая туда невидимыми ночными колдунами, она падала и возвращалась, падала и возвращалась, а потом засыпала, обессиленная, голая и жаркая, а проснувшись, радовалась ленивой неге утренних пробуждений, когда руки сами тянутся навстречу друг другу, чтобы замкнуть искрящуюся цепь эволюции.
Между домом и забором помещался игрушечный бассейн, и после того как венценосное солнце, ослепив вечернее море золотым сиянием своей короны, уступало место душной темноте, она и Клим погружались туда нагишом и, превратившись в древних рыб, уплывали к высоким звездам. Блаженная земля мерцала внизу, напоминая о себе ароматами позднего ужина и невнятными звуками.
«Я бы хотела когда-нибудь жить с тобой в таком месте…» – говорила она, обхватив мужа за шею и невесомо качаясь у него на руках.
«Кто знает, кто знает… Может, когда-нибудь так и будет…» – сдержанно отвечал он, потому что будущее – это неизвестный мир, где только звезды знают свои места.
Клим был рядом с ней и днем, и ночью, и не надо было его никуда провожать, и не надо было за него бояться. Удивительно ли, что наедине с обожаемым мужем ее давние ощущения, помноженные на бесконечность, сделались равными абсолютному счастью!
«Ах, как хорошо! Как это хорошо и насколько лучше того хорошего, что я переживала много лет назад!» – думала она, затихая в крепких мужних объятиях и ощущая запах его горячей обветренной кожи.
Засыпая, она думала, как же ей повезло встретить мужчину намного старше и мудрее себя. Мужчину, рядом с которым она может чувствовать себя нежной влюбленной девчонкой, а не той мегерой, какой она непременно бы стала, выйдя замуж за Сашку. Постепенно тихая музыка из приемника перебиралась в ее сон, и там она вместе с мужем, сыном, морем и яхтой беззвучно и радостно скользила по застывшему лазурному времени. И так целый месяц – звонкий и стремительный, как один миг. Известно же: чем меньше зазор между тем, о чем грезишь и чем обладаешь, тем сильнее ощущение счастья.
Ну и, наконец, Барселона. Ах, Дали, ах, Гауди – свободолюбивые, чернокудрые, неподражаемые гордецы!..
12
Прошло четыре года.
Что, много? Хорошо, пусть будет два. Хотя нет, нехорошо. Дефолт – это нехорошо. Что хорошего в том ошарашивающем апофеозе благих намерений, в том заброшенном тупике, куда речистые и нечистые на руку машинисты загнали локомотив российской истории? Впрочем, исторический тупик есть лейтмотив нашей национальной исторической симфонии, кто бы ею ни дирижировал.
Да, конечно, ее фабрика к тому времени уже крепко стояла на ногах и удар ниже пояса выдержала. Но господи, боже мой, что было бы, если бы они не успели до дефолта вернуть кредит за импортную технику! Ведь наименьшее из злых последствий, которыми грозил невозврат – это крах!
«Это бизнес, и в нем все может быть, – успокаивал Клим ее поздний испуг. – Старайся вести дела так, чтобы не зависеть от обстоятельств»
«Господи, Климушка, да как же такое можно предусмотреть!» – терялась она.
«Ну, тогда просто радуйся удаче и живи дальше!» – улыбался Клим, ее несокрушимый щит и разящий меч.
Через несколько лет, когда выжившие в грандиозной битве при Дефолте коммерсанты уже могли позволить себе эпические воспоминания и даже шутки, Клим проговорился, что оффшор, выдавший кредит, и был тем самым таинственным хозяином сорока девяти процентов акций. И то сказать: кто другой дал бы им валюту при том их плачевном состоянии, в каком они находились? Уже после смерти мужа Маркуша поведал ей, на что Клим пошел тогда ради нее: поскольку оффшор, созданный не давать, а получать, был на положении общака, то Клим поручился за нее головой, и если бы она не вернула кредит, ему было бы несдобровать. Общак форс-мажоров не признает, и приговор звучал бы следующим образом: ради своей бабы Клим опустил братву на деньги, а за это полагается сами знаете что. Головой не головой, а репутацией Клим точно рисковал. А в их делах репутация стоит дороже головы.
Это сейчас сумма кредита кажется ей смехотворной, а в девяносто восьмом то были немалые деньги. Помнится, от откровений Маркуши она, и без того безмерно скорбящая, содрогнулась задним числом за покойного мужа, как за живого. Что было бы, если бы у кого-то поднялась на Клима рука? Как бы она жила без него? И дело вовсе не в порушенном благополучии, а в той чудовищной безжизненной пустоте, которую она ощутила, спеша к раненому Климу в больницу. Да, в него стреляли. В сентябре того же проклятого девяносто восьмого. Дайте, дайте же собраться с духом, потому что вспоминать об этом без содрогания она не может до сих пор!
Ко дню дефолта они уже две недели находились в Испании, и им пришлось срочно возвращаться. В пути Клим был умеренно встревожен и много говорил по телефону. Не то чтобы дефолт стал для него сюрпризом (к тому времени у него уже были люди со связями, способные дать дельный совет), а потому что к нему оказались не готовы другие. На ее вопрос, что теперь будет, он отвечал, что валюта не пострадает, но во всем остальном потерь не избежать. Вернувшись, они кинулись по своим владениям подсчитывать убытки и зализывать раны, а через две недели ОНО и случилось.
Среди бела дня в ее кабинет вдруг без стука вошел непривычно озабоченный Петенька и, дождавшись, когда она выпроводит посетителя, запинаясь, сообщил:
«Алла Сергеевна, вы, это… не волнуйтесь… Ну, в общем… все нормально, но это, как его… в общем, Клим…»
«Что с ним?! Говори!» – выкрикнула Алла Сергеевна, подброшенная с кресла потайной пружиной беды.
Позже Петенька, бесшабашно улыбаясь, веселил Клима в ее присутствии:
«Смотрю, Алла Сергеевна побелела, как мел! Ну, думаю, щас в обморок грохнется! Ну, я тут, значит, быстренько ее успокаиваю, мол, все нормально, все путем говорю! Подранили, мол, Клима и Маркушу малость, но не сильно, не опасно! В больнице, мол, сейчас оба, а вас велели везти домой и никуда не отпускать. А она как затопает, как закричит на меня – вези, говорит, такой-сякой в больницу, а то убью на месте!..»
На самом деле она, помертвевшая и отяжелевшая под тяжестью сбывшихся предчувствий, опустилась в кресло и, наверное, на несколько секунд умерла. Ее оживила клокочущая, шедшая из самого сердца ярость: «Кто посмел, кто посмел, кто посмел?! Убью, убью, собственными руками убью гада!!.»
Она вскочила и схватила с вешалки плащ:
«Знаешь, где он лежит?» – кинулась она к Петеньке.
«Ну, знаю… – насупился Петенька, – но вам надо домой…»
«Поехали!» – встала она перед ним с полыхающим, отвердевшим лицом.
«Но, Алла Сергеевна, Маркуша меня убьет!..»
«Ты слышал, что я тебе сказала?! – некрасиво взвизгнула она. – Или раньше я тебя убью!»
Едва сев в машину, она позвонила мужу. Его телефон оказался выключен. Она набрала Маркушу – тот не ответил. Тогда она принялась терзать Петеньку, требуя подробности.
«Только не ври мне, только не ври! Скажи все как есть!» – лихорадочно твердила она.
«Ну, не знаю я подробностей, Алла Сергеевна, не знаю! – отбивался Петенька. – Знаю только, что стреляли из машины, что Клима и Маркушу ранили, а водилу насмерть! Больше ничего не знаю, ну честно, не знаю!»
«А кто тебе сказал домой меня везти?» – допытывалась она.
«Ну, Маркуша сказал! Позвонил и сказал!»
«А какой у него голос был?»
«Нормальный был голос!»
«И что, про Клима ничего не сказал – как он, что он?»
«Да не сказал, ничего не сказал! Ну, ей-богу, ничего больше не знаю!»
В коридоре возле палаты их встретили два охранника и Маркуша с рукой на перевязи.
«Алла, зачем ты здесь?!» – с укором воскликнул он и тяжело посмотрел на Петеньку.
«Не ругай его, Маркуша, это я его заставила! – перехватив его взгляд, сказала Алла Сергеевна. – Как он?»
«Нормально. Недавно с операции привезли…» – отвечал Маркуша.
«А ты как?»
«Ерунда, руку зацепило!»
Вбежав в палату, она кинулась к белой постели мужа и, не обращая внимания на медсестру, рухнула перед ним на колени.
«Климушка, Климушка, родной мой, что они с тобой сделали?» – запричитала она, вцепившись в его руку и заливаясь слезами.
Клим тяжелой, твердой рукой сжал ее запястье и попытался быть строгим:
«Алла, зачем ты здесь? Ты должна быть дома и никуда не выходить!»
«Нет, я должна быть с тобой!» – распрямив спину, непреклонно глянула она на него.
Полчаса он убеждал ее, что с ним все нормально (пуля попала в живот, не задев жизненно важных органов) и все что ему сейчас нужно – это знать, что она с сыном находится дома и с ними все в порядке. Пробыв у него около часа и убедившись, что он заснул, она покинула больницу. Перед отъездом Маркуша велел ей сидеть дома, пока они не разберутся, что к чему.
«Кто это может быть?» – спросила она его.
«Ума не приложу! – откровенно отвечал Маркуша. – У нас со всеми ровно…»
«У меня к тебе просьба, – обратила она к нему лицо с сухими, блестящими глазами. – Когда найдешь гада – не убивай его. Я сама задушу его собственными руками!»
«Не стоит марать рук, Алла. И без тебя есть, кому это сделать!»
После Клим рассказал ей, кто его заказал, и как все было.
Сперва заказчика искали на стороне, но надежные люди подсказали: «Ищите среди своих…» Стали искать и нашли-таки! Рядом с Климом. Гриша Фридман, его друг с соседней улицы. Их главный финансист. Через два дня после покушения таинственно исчез, чем и вызвал подозрения. Стали разбираться и обнаружили в бюджете организации солидную дыру. Пошли по следу и быстро отыскали его в Израиле. В подвале после двух пинков он признался, что без ведома Клима запускал деньги в ГКО, а выручку присваивал. Когда все рухнуло и деньги придавило так, что ничем не вытащишь, понял, что пропал и решил заказать Клима, чтобы списать свои грехи на него. Нашел двух душегубов, а когда дело сорвалось, по-быстрому свалил в родной Селявив. Короче, выжали из него счета, имена стрелков, и чтобы не пачкать падалью святую землю, вывезли в море и утопили. Перед смертью, говорят, каялся и просил прощения у братвы и лично у Клима. Умолял не трогать семью – жена и сын, мол, ни при чем. В общем, классика жанра: скурвился, Иуда, жадность фраера сгубила.
Да, видно, прав Маркуша: где евреи – там беда. Хотя, что греха таить – среди русских негодяев тоже хватает. Те же стрелки, например. Их тоже нашли и закопали. Водителя жалко – отчаянный был парень. Если бы в последний момент машину в сторону не кинул, быть им сейчас с Маркушей на том свете…
Ну как же – она прекрасно помнила Гришу Фридмана! Неброский, щуплый, негромкий, мастью совсем не похожий на яркого вальяжного Алика, он принадлежал к верхушке организации и вместе с другими друзьями Клима изредка бывал у них дома. Производил впечатление человека умного, культурного, внушающего доверие. Вел себя прилично, место свое знал, но острое шило иронии нет-нет, да и высовывалось из мешка его сдержанности. Вот тебе и Гриша, вот тебе и сукин сын…
Позже от жены Степана она узнала, что Маркуша с подручными изъяли из двух квартир и загородного дома предателя драгоценности и валюту, после чего заставили его окаменевшую вдову переписать недвижимость на подставных лиц. Мать и отец Гриши пытались добраться до Клима, чтобы упасть ему в ноги, но не добрались и слегли, раздавленные горем и позором.
«Может, Маркуша погорячился? – спросила Алла Сергеевна мужа, заступаясь не за вдову, а за справедливость. – Ведь она, вроде бы, ничего не знала…»
«Муж и жена – одна сатана…» – угрюмо обронил Клим, знавший Гришину жену без малого столько же лет, сколько и ее мужа.
Кажется, только тогда и дошло до нее значение этой нестареющей формулы презумпции семейной виновности, обрекающей супругов на единую судьбу, как бы ни был далек один из них от деяний другого.
Неумолимый вердикт, узаконивший смерть миллионов невинных с глубокой древности до наших дней и обретающий неподсудность божьей воли, когда коллегией присяжных становится народ, как это было с Людовиком XVI и Марией-Антуанеттой, Романовыми или четой Чаушеску. Подобные открытия или ослабляют, или укрепляют дух. Что касается Аллы Сергеевны, то она про себя решила, что разделит, если потребуется, судьбу Клима, чем бы ей это ни грозило.
Так гражданская война коснулась ее семьи, а чужие, телевизионные раны сделались своими. Так познала она второй урок предательства.
«Предать может всякий!» – ухмылялся ментор-опыт.
«Да, предать может каждый, – соглашалась она, – но только не я и не Клим».
Гришу и его безымянных подручных – этих диких зверей, что под видом людей попытались вмешаться в ее судьбу, она горячо и запоздало прокляла. Но позже, успокоившись, говорила о них и им подобных без всякого злорадства, со смесью недоумения, разочарования и опаски, как говорят о подлежащих уничтожению бешеных псах.
Такой вот вышел дефолт. А виной всему они – речистые, нечистые на руку машинисты истории. Не политики, а какая-то омоморфемная загогулина, не праведники, а циничный инцест родственных душ. Разбойничьим посвистом и вкрадчивой змеиной фистулой отмечено их истерическое правление, и на руках их запекшийся антрацит кровавого словоблудия.
Сегодня очевидно, что случившийся дефолт был, по сути, инсультом ельцинизма. И если мы не беремся судить об этом прискорбном факте с позиций медицины и экономики, то в общедоступном, синтаксическом, так сказать, виде он представляется нам ярчайшим и красноречивейшим примером метафизической, необъяснимой никакой семантикой реакцией, в которую могут вступать далекие по значению слова, образуя новый, неожиданный и емкий смысл.
Посудите сами: ельцинизм – ель и цинизм. Изощренная смесь патриархального и дремучего с хитрым, глумливым, иноземным. Удручающий альянс скудоумной недальновидности с размашистой неразборчивостью. Составная часть другого, еще более емкого феномена по имени «ельциниада» (или «ельцианида»?) – этакого хвойно-синильного пойла с запашком преисподней, которым потчевали страну все последнее десятилетие прошлого века и от которого она икает до сих пор.
Нет, в самом деле: видно, и вправду написанный праписателем мир однажды рассыпался на отдельные слова, и мы теперь пытаемся собрать и восстановить их первоначальную гармонию, но они противятся и складываются совсем не так, как мы хотим. Правы, ох, правы структуралисты – не мы вертим языком, а язык нами!..
После пережитого Алла Сергеевна обзавелась подобающими жене благородного разбойника качествами: могла быть до холодности недоверчивой, до сухости сдержанной, до неприличия необщительной. Ее прежние, теоретические, так сказать, страхи получили подтверждение, и от этого у нее на некоторое время нарушился сон. Этак недалеко и до болезненной подозрительности!
Нет, нет, дефолт – это нехорошо. А потому, пусть минуло не два, а три года, ибо в самой российской истории меньше горечи, чем в ее издержках.
13
К лету девяносто девятого дела у Аллы Сергеевны шли настолько хорошо, насколько они в то время могли идти у неглупой жены могущественного, независимого мужа, имеющего в своем распоряжении внеэкономические средства принуждения. В стране, заросшей буйным бурьяном спекуляции, ее фабрика выглядела окультуренным цветущим оазисом.
Они шили мужскую, женскую и детскую одежду – по собственным лекалам, оригинальную, повседневную и нарядную, в большом ассортименте, мелкими и средними партиями. Товар был высоколиквидный, а потому и речи не шло, чтобы сдавать его на реализацию: заказчики выстраивались в очередь. С них брали половину стоимости и на окончательный расчет давали месяц. Производство было отлажено, каждый в нем и вне его знал свое место, и от подготовки эскиза до пошива готовой партии все было предсказуемо и планируемо. Кредитовались они только в Сбербанке, бартер и неплатежи их не касались, с зарплатой горя не знали, с валютой дела не имели, шили в основном из нашего и против импорта выиграли. Щедрые премии, материальные пособия, бесплатные путевки и прочие непрофильные расходы из прибыли – ей говорили, что она отдает рабочим свои деньги. И каждый раз она сухо и одинаково отвечала: «Они для меня не рабочие, а подруги».
Неудивительно, что фабрика и ее директор были на слуху у просвещенной модно-швейной общественности. У нее хотели побывать, ее мечтали видеть, с ней жаждали говорить, ею были готовы восхищаться, ей зло завидовали: еще бы не быть успешной с таким мужем-разбойником! Но докучливого внимания она избегала, интервью не давала, и фотографировать себя не позволяла. Счастливым и вдохновляющим исключением из правил назвала ее в своей статье одна умудренная, обходительная журналистка из модного журнала, которую Алла Сергеевна все же допустила до себя и даже выпила с ней полбутылки французского коньяка. Полная, опрятная журналистка по имени Полина была на пятнадцать лет ее старше, и в глазах ее таилась добрая, понимающая усталость. Говорили о жизни и о моде. Именно в тот раз она и запустила в публичный оборот сухой, официальный, лишенный интимных подробностей образ упорной и прилежной провинциалки из рабочей среды.
С некоторых пор приятная необходимость бывать на показах в Доме моделей сделалась у нее привычкой. Она брала с собой Марину Брамус или кого-то из девочек и наслаждалась положением потенциального заказчика. Она помнит, как впервые явилась сюда в качестве директрисы успешного швейного предприятия и, теша золушкины мытарства новобоярским инкогнито, прошла маршрутом девятилетней давности.
«Вы у нас раньше бывали?» – спросил ее предупредительный провожатый.
«Нет, нет, что вы!» – отозвалась она.
Помнит, как сидя в кресле, разглядывала знаменитый Зеленый зал, его лепной потолок, белые колонны, вычурно-резные двери, зеркала, прятавшие в неразличимой глубине тени великих основателей. Как впервые вручая здесь свои визитки, читала нескрываемое удивление на лицах визави – наверное, из-за несовпадения их бывалых ожиданий с ее незрелым и возбуждающим обликом. Когда же в ходе последовавшего обсуждения обнаружилась ее эрудиция, подкрепленная невинным замечанием Марины о ее статусе основного акционера фабрики, удивление сменилось изумленным любопытством и более модно-швейную общественность не покидало.
Не обнаруживая в себе былого почтения, она с ироничной улыбкой и невесть откуда взявшимся упоением перебивала корифеев: «Тут я с вами, пожалуй, не соглашусь!». И это была ее единственная уступка великому соблазну объявить высокомерным римлянам: «Мне отмщение и аз воздам». Почему единственная? Ну, уж точно не от великодушия: рассказы двух модельерш среднего возраста, которых она с помощью Марины переманила на фабрику из Дома моделей, родили в ней здоровое разочарование и остудили мстительные поползновения. Утомленные высокомодными дрязгами и своеволием администрации, беглянки со страстью освобожденных рабынь описывали царившие там нравы, обличая то мелкое и низкое, что существуя рядом со всяким высоким искусством, бросает на него пусть и короткую, но густую и липкую тень. Слушая их, она живо представляла себя на их подневольном месте, осененном призрачной удачей, на которую она могла рассчитывать только став фавориткой или женой какого-нибудь начальника. Вот уж воистину: все что ни делается – к лучшему!
Весной того же года ей на работу неожиданно позвонил Колюня. На изумленный и радостный вопрос, как он ее нашел, Колюня ответил, что ее теперь в отрасли все знают и что она знаменитость и гордость ее родной фабрики, директором которой он теперь является. «Вот тут тебе все привет передают, хотят делегацией к тебе в гости приехать. Примешь?» – спросил он, перекрывая приветственный щебет женских голосов. Алла Сергеевна едва не прослезилась и назвала фамилии трех девчонок, которых она обязательно хотела бы видеть среди других. Через две недели приехали шесть девчонок – шесть точек отсчета, над которыми она так высоко и громко вознеслась. Алла Сергеевна провела с ними два дня, уделив им щедрое, солнечное внимание. Оказалось, что у всех у них есть сердце, а у сердца – добрая и нежная память. «Почему сам не приехал?» – проводив девчонок, упрекнула Колюню по телефону растроганная Алла Сергеевна. Тот помялся, а затем признался:
«Я очень хотел приехать, но потом понял, что лучше мне тебя не видеть, иначе со мной опять такое начнется…»
Смутившись, она попросила простить ее. За все. Он понимает, о чем она.
«Понимаю…» – с былой покорностью откликнулся Колюня.
В тот год она вплотную приблизилась к своей мечте – собственному дому моды. Для этого в конструкторском бюро была создана творческая группа, которую она курировала лично. Вместе с Мариной Брамус и одержимыми сообщницами, прозванными на фабрике «творчихами», они регулярно соединялись для захватывающего дух свободного полета. Воспаряя над помятой землей на немнущихся крыльях вдохновения, они возвращались с новыми идеями и эскизами. И вопросами. Ну, например: человек симметричен. Кто прав – тот, кто следует его симметрии или разрушает ее? Или вот еще: высокая мода – это резервация для посвященных или полигон для ширпотреба? Или такие: может ли пестрое быть элегантным, и как избежать бесовщины вкусовщины? Ну, и совсем серьезный: женские бедра – это часть или центр композиции?
Одновременно с этим готовились помещения главного штаба ее модных войск: ей хотелось, чтобы он наконечником копья застрял именно в Кузнецком мосту, для чего там в одном старинном пятиэтажном особняке были выкуплены два этажа. Помещения переделали и оборудовали, как того требовал Дух Высокой Моды, и в июле девяносто девятого в них появились его первые слуги. Оставалось лишь объявить о рождении «Модного Дома Аллы Клименко», что и решено было сделать в сентябре того же года.
В начале августа они, как уже повелось, всей семьей уехали в Испанию, и там она, распуская пружину забот и освобождаясь от груза усталости, дефицита алости и избытка аллости сергеевности, целую неделю приходила в себя.
Попадая в объятия мужа, чтобы невразумительно и бесчувственно отозваться перед сном на его очередную попытку оживить ее страсть, она тут же засыпала, успев пожаловаться: «Ах, как я устала, как я устала!». Когда через неделю его попытки увенчались успехом, и громкие любовные утехи вернулись к ним, она, с испуганным смущением обозревая болото любовной немощи, из которого только что выбралась, дала себе слово впредь обходить его стороной. «Боже мой, как же он, большой, сильный и влюбленный терпел ее, такую прохладительную, столько времени!» – корчилась ее совесть.
Днем на пляже, сидя в шезлонге, она тонула в ленивой истоме. Наводя радужно трепещущие ресницы на золотое испанское крыльцо у самой кромки воды, на котором возились ее царь-царевич, король-королевич, она с дремотным умилением следила за их беспечной возней.
Отец для пятилетнего сына был, безусловно, важнее, чем мать. Ангельским, обрамленным белокурыми кудрями личиком ребенок походил на нее, в остальном же являл собой самый ранний, крохотный набросок отцовской стати, контуры которого способен подметить лишь материнский глаз. Он с миниатюрным подобием держал спинку, переставлял ножки, орудовал крепкими ручками, вскидывал головенку – словом, по-новому, по-своему проживал отцовские движения. До чего же, однако, неподкупно точна копировальная машина природы!
Думала ли она о втором ребенке? Не просто думала – она мечтала о девочке! Но сначала в ее мечты вмешалась фабрика, затем сквозь марево ближайшего будущего забрезжил Модный Дом, а теперь двусторонние заботы и вовсе взяли ее за горло. Ну как тут заводить ребенка? Может, через пару лет, когда и фабрика, и Дом (те же дети, кстати говоря) немного подрастут и смогут обходиться без нее. Так она и ответила мужу, когда он ее однажды об этом спросил. «А не поздно будет?» – поинтересовался он с сомнением. И она мужественно ответила: «Нет, конечно, если ты очень хочешь – давай родим…» Но, видимо, лицо ее говорило об обратном, потому что Клим обнял ее и сказал: «Тебе решать!». И она горячо и торопливо принялась его убеждать, что женщины рожают и в сорок, а ей к тому времени будет всего тридцать шесть! Больше Клим на эту тему разговоров не заводил.
Бирюзовыми оборками колыхалось коммунальное море, выталкивая на золотой берег прозрачные, гулко-шипящие строчки: «мой дядя самых честных правил, когда не в шутку занемог…», «теперь, я знаю, в вашей воле меня презреньем наказать…». Пятнистый африканский ветерок терся о кожу горячей леопардовой шкурой, невнятные пляжные голоса – поводыри слепого сна – вспыхивали солнечными бликами в затуманенном мозгу.
«С этой работой я запустила и мужа, и ребенка… – путалась в предсонных сетях рыбешка-мысль. – Надо сбавить прыть. Невозможно тащить на себе и фабрику, и Дом…»
Тягучее, ленивое, охраняемое праздным покоем внутреннее созерцание одолевало ее. Случайные образы всплывали из затянутой илом памяти и радужными пятнами колыхались на ее поверхности. Черты одного из них прояснились и сложились в Сашкино лицо – далекое и безмятежное. «Почему оно здесь, зачем оно здесь?» – сонно подумала она.
Вот ведь странность: невзирая на то, что Сашкино имя всегда было у нее на языке, причем в его самом ласкательном, придыхательном виде, самого носителя имени она почти не вспоминала. Со дня их московского расставания минуло уже шесть с лишним лет (о, господи, куда так мчится время!) и четыре года, как он пытался раздобыть у матери ее адрес. За это время лишь случайные, беглые зарницы памяти напоминали ей о нем. «Надо непременно узнать, что с ним…» – пометила она себе на полях сентябрьского ежедневника и поплыла дальше.
Тот отпуск выдался на редкость спокойным и благостным. С утра Клим уединялся с Маркушей и помощником в кабинете, а они с сыном и двумя охранниками отправлялись на частный пляж, куда к ним позже присоединялся их любимый папочка с друзьями. В тот год ему исполнилось пятьдесят два, но был он по-прежнему крепок и прям: коварная рана в живот его не согнула. Может, только пристальней стал взгляд, да гуще отливал ковылем бурый ежик волос. Ах, как она любила протяжно пройтись по нему рукой, наблюдая, как чистая поперечная полоса движется к затылку и как восстает из-под ее ладони сухой своенравный волос!
«Кли-имушка… Кли-имушка мой…» – нежно приговаривала она, заглядывая в его лицо. Так гладят любимую кошку и обожаемого мужа, и они одинаково завороженно затихают в такой момент. Даже сегодня ее ладонь помнит мягкое покалывание его волос.
Солнце любило его кожу за отзывчивость и охотно оседало на ней. В два-три приема он покрывался ровным загаром цвета розовой копчености, который затем сгущался до кофейного, превращая его в мавра. И чем темнее становились его лицо и шея, тем громче серебрился ежик волос, тем заметней звучали белки глаз. Ей, чтобы стать мавританкой, требовалось не менее недели. Наливаясь днем кофейным оттенком, как июльская листва темной зеленью, они шоколадными скульптурами укладывались вечером в постель, подставляя возбужденным глазам, рукам и губам бледное сияние своих заповедных, нетронутых загаром мест. С виноватым энтузиазмом наверстывала она упущенные ласки, шепот, сдавленный лепет, волнистые стоны, самозабвенный финал и горячую истому удовлетворения. «Тебе хорошо было?» – спешила удостовериться она, с постельным удобством устраиваясь на нем и нежно целуя дубленую кожу его лица, пострадавшие от лобового столкновения губы, короткие сомкнутые ресницы, сломанный нос, колючие выгоревшие брови.
Благословенные, счастливые, райские минуты!