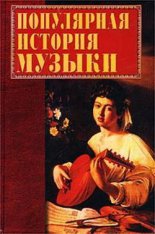Вернуть Онегина. Роман в трех частях Солин Александр

Боже мой, боже мой, боже мой! Что это, что это, что это? Разве это правда, разве это возможно, разве такое бывает? И слезы, и смех, и радость, и боль, и шепот, и стон, и все чувства наизнанку – и все это с ней, все это в ней, все это она!
«Не пущу, не пущу, никуда не пущу…» – бормотала она по утрам, обхватив его и прижимаясь щекой и глазами, полными слез, к его кожаной груди. Он целовал ее голову и гудел: «Аллушка, Аллушка, пусти, мне пора, я должен…» Но она: «Не пущу, не пущу…», а в ответ: «Аллушка, Аллушка…», и снова: «Не пущу, не пущу…»
Господи, давно ли она считала, что выше ее любви к Сашке только смерть? Давно ли верхом богохульства для нее было предположение, что она способна полюбить кого-то, так же, как Сашку? А оказалось, может – еще крепче, еще страшней, еще безумней. Да, тогда она была нежным пушистым подснежником и любила смазливого садовника, а теперь она гордая, независимая роза и любит сурового, израненного мужчину. Тогда она была наивна, а теперь мудра. Но пусть не будет счастья тому, кто увидит в ее чувстве холодный расчет, а не любовь. Потому что ее чувство – больше, чем любовь: любовь-обморок, любовь-ожог, любовь-отречение, любовь за порогом пяти чувств! И ей плевать, кого он убил и убьет, кого крышует и обирает! Слышите, вы, защитники моральных устоев – ей плевать на вас!
С того дня ее жизнь, как та повозка, что после вязкой проселочной дороги выбирается на сухой широкий путь – понеслась быстро, легко и ровно. Преображенная, умиротворенная, счастливая, она была как дерзкий вызов тридцати трем печалям, свалившимся на ее страну.
Вечно недовольная своим зеркальным отражением, она ждала Клима, нарядная, даже если он звонил и предупреждал, что сегодня быть не сможет. «А вдруг?..» – прислушивалась она к сердцебиению лестничной площадки.
И эти их не такие частые, как хотелось бы, счастливые встречи.
«Ты надолго?» – торопилась она стащить с него куртку, страшась услышать, что он только на минутку, чтобы поцеловать ее.
«До утра, Аллушка, до утра!» – широко и радостно улыбался он, заключал ее в медвежьи объятия, вскидывал на руки и нес в комнату.
Ах, да что там говорить – это была небывалая, незаслуженная щедрость судьбы! Она долго еще просыпалась в испуге по ночам, спеша с облегчением убедиться, что он рядом и не приснился ей.
Он никогда, даже вскользь, не упоминал о своих прошлых женщинах, также как и не интересовался ее мужчинами. За пределами кровати он относился к ней, как бескорыстный покровитель, мудрый опекун, добрый учитель – словом, как относился бы к ней любящий отец, если бы он у нее был. Но и постель его мало меняла. От Сашки он отличался, как молитва от частушки: никакого разнообразия, скудные, сдержанные ласки, и обхождение – деликатное, бережное, как с драгоценным сосудом. Часто ей хотелось пришпорить его, заставить отпустить поводья рычащей страсти, которую, как она считала, он напрасно сдерживал. Но он, гроза блатных конкурентов, оставался необъяснимо и ненормально почтителен с ней. Она тоже не спешила обнаруживать свой опыт и вела себя под ним скромно, если не сказать стыдливо. И дело здесь вовсе не в том, что своей несдержанностью она рисковала оскорбить его щепетильность, а в том чудном, возвышенном ощущении головокружительной новизны, о которой она вместе с Эдит Пиаф могла сказать: «Ничуть не жалею о том, что было, потому что только сегодня, с тобой, начинается моя настоящая жизнь и мои радости!»
«Возьми меня с собой!» – припадала она к нему, прощаясь.
«Рядом со мной опасно…» – отвечал он.
«Мне все равно!» – устремляла она на него преданный взгляд.
Через месяц у нее появилась машина и водитель с пистолетом – молодой, веселый бандит Петенька, который при ней и по сей день.
«Как у вас там дела?» – спрашивала его Алла Сергеевна, чтобы веселым, бесшабашным «Все путем, Алла Сергеевна, все путем!» заглушить хоть ненадолго вечное ожидание худой новости.
«Я боюсь за тебя, Климушка, боюсь, все время боюсь!» – судорожно стискивала она его тонкими руками.
«Ничего не бойся, Аллушка! Все будет хорошо!» – вот и все, чем он мог ее утешить.
Хотя нет. Иногда он приводил с собой друзей, и они, совсем не похожие на тот сорт мужчин, которых ленивый образ жизни превращает в геометрическое нагромождение арбузов, дынь и прочих помидоров-огурцов, заводили легкий, безобидный, полный простых житейских радостей разговор, уважительно и по-доброму к ней обращались, стараясь произвести впечатление беспечных, довольных безопасной и приятной жизнью людей.
«Интересно, – говорила она, оглаживая его необъятный торс, – я вижу, у тебя совсем нет татуировок. У отца были…»
«Я не блатной, Аллушка, – отвечал он. – Но и твой отец тоже не блатной: он просто был отчаянный. Он все делал как будто кому-то назло, и наколки тоже. Вот ты его дочь, но совсем не такая!»
Да, не такая, потому что все делала по-своему, но молча.
Решение родить она приняла просто и естественно. И в самом деле, что тут думать – вот мужчина, в высшей степени достойный стать отцом ее ребенка, которого она, желанного, будет любить, как любит его отца. Пусть он даже не признает их ребенка, пусть прогонит ее, но она родит от него, и теплым, сладким, глазастым комочком наполнит пустые, ноющие, одинокие вечера. По правде говоря, это было сумасшедшее решение – одна с ребенком в чужом городе, где у нее ни кола, ни двора! Да к тому же это конец всем ее грандиозным планам. Полное затмение разума!
«Все равно рожу. Будет трудно – уеду домой…» – упрямо рассудила она.
Перестав принимать таблетки, она пережила без них свое полнолуние и, срывая по пути пустоцветы бесплодных дней, устремилась в расчетную точку зачатия, имея целью заполучить Клима в нужные для этого дни. Что, кстати говоря, было непросто, имея в виду невразумительный график его посещений. Но заполучила и, по-воровски впитывая в себя зелье новой жизни, радовалась, колдовским нутром своим ощущая, как шустрое семя Клима входит в сговор с ее яйцеклетками.
В результате через три месяца после их знакомства случилось то, что было предсказано безымянными волхвами многие тысячи лет назад – она и Клим зачали их сына, что со всей очевидностью и подтвердилось в положенное время. Ничего ему не сказав, она затаилась, счастливая и торжествующая.
Беременность ее протекала вполне благополучно и в целом была похожа на предыдущую, за тем исключением, что Сашку она при недомогании могла от себя удалить, с Климом же приходилось соединяться, даже если вопила грудь, а лоно решительно противилось проникновению. И тогда заниматься этим она предпочитала в темноте, чтобы не видна была гримаска боли у нее на лице. Разумеется, содержимое любого из ее тюбиков могло бы смягчить неудобство, но вызвало бы у Клима нежелательные вопросы. Вот тут и пригодилась его ненормальная деликатность, и со временем Алла Сергеевна приспособилась, тем более что женские стоны боли и удовольствия тождественны для неразборчивого мужского уха.
Перехватывая порой ее мечтательный, устремленный вовнутрь взгляд, несведущий Клим спрашивал, о чем задумалась его Аллушка, и все ли у нее в порядке. «Все хорошо, Климушка, все хорошо!» – спохватывалась она и успокаивающе до него дотрагивалась.
И вот что любопытно: никогда, до самой его смерти, она не называла его иначе как Климушка, кроме тех случаев, когда упоминала о нем в разговоре с чужими людьми. И тогда она внушительно произносила: «Владимир Николаевич сказал… Владимир Николаевич считает…» и так далее. Ему нравилось и то, и другое.
Она возобновила со своим Масиком прерванный в свое время диалог, всячески балуя его и поощряя к озорству и непослушанию. Тайком от Клима она встала на учет у гинеколога, и осмотры подтверждали, что все у нее нормально, а стало быть, можно было по-прежнему вести невозмутимый образ жизни, в том числе и в постели. Ее болезненные ощущения незаметно поменяли знак, и теперь она наслаждалась непривычно сочным, раскатистым, эхоподобным удовлетворением, поощряя любовника к энергичным, глубоководным погружениям.
Однажды он перестарался, и наутро она, смущаясь и краснея, попросила его впредь быть осторожнее, потому что… потому что… ну, в общем, она… ждет ребенка.
«Что, правда?» – не сразу спросил изменившийся в лице Клим.
«Климушка, Климушка, ты не думай, мне ничего от тебя не надо, это мой ребенок, и если ты против – я уйду!» – заспешила она, путаясь взглядом в непроницаемом узоре его лица.
«Какой срок?» – невозмутимо поинтересовался он.
«Четыре месяца…»
«И ты молчала?!» – с невыносимым упреком глянул на нее Клим и вдруг порывисто обнял и спрятал на груди.
«Готовься к свадьбе!» – услышала она откуда-то сверху.
И пока ошалевшая от невозможного, пугающего счастья Алла Сергеевна готовится к назначенной на конец сентября свадьбе, взглянем на события прошедших семи месяцев, что незаметно протекали параллельно ее радости. Собственно говоря, ничего громкого за пределами ее личной жизни за это время не случилось – так, мелкая звездная пыль. Однако существенно изменилось положение фигур на шахматной доске ее жизни.
Ну, во-первых, сама она теперь готовилась превратиться из пешки в черную королеву и встать рядом с черным королем, защищенным, как он уверял, надежной свитой, которая отныне становилась и ее свитой.
Во-вторых, гораздый на стремительные выпады слон по имени Алик отныне держался от нее в стороне, выказывая ей оттуда всяческое почтение. Ему она сказала: «Алик, дорогой, извини, что не приглашаю на свадьбу: там собираются одни родственники…». «Да что я, мать, не понимаю что ли! – отвечал Алик, прекрасно понимая, о каких родственниках идет речь. – Поздравляю и желаю тебе всяческого счастья! Нет, честно!». «Имей в виду, на наши с тобой дела это никак не влияет!» – заверила его Алла Сергеевна, на что он проницательно заметил: «Ладно, там видно будет…»
В-третьих, произведя самое досадное впечатление своими неверными и слабыми ходами, с доски после рокировки исчезла Сашкина ладья. Ее исчезновение породило в ней угрызения и контр-угрызения совести – и то, и другое, впрочем, в необременительных дозах. Встреть она его тогда, в августе девяносто третьего, она бы сначала как честная девушка повинилась: мол, прости, Силаев, ничего личного, никакая это не месть, просто так получилось. Ты, между прочим, сам виноват. Как поется в моей любимой песне: «Ты любви моей не сумел сберечь…» Учись у других, как это делается! А если уж совсем серьезно, то ты предал меня дважды: первый раз, когда бросил, а второй – когда не захотел за меня побороться. Да, да, не захотел, и обстоятельства здесь ни при чем! Обстоятельства, Санечка, всегда сильнее нас! Но на то нам и дается любовь, чтобы их преодолевать! Вот и выходит, что ты не любил меня ни тогда, ни после! У тебя на уме всегда была одна кобелятина! И в Москве ты сошелся со мной только для этого! А я-то, дура, думала, что смогу тебя простить! И слава богу, что ты такой, какой есть, иначе бы я не встретила моего мужчину. Все, Силаев, все: отпусти меня, забудь и до свиданья, а вернее, прощай!
Тут бы она вскинула очи к небу и картинно перекрестилась:
«Слава тебе, Господи, что я не отняла его у жены! Ничего, заведет себе другую любовницу и переживет как-нибудь!..»
Далее, в-четвертых. Где-то далеко, за пределами доски, маячила мать и подруга Нинка, и чтобы вернуть их в игру, она выписала их на свадьбу, обязавшись оплатить проезд и проживание. Обе с удовольствием явились и поселились у нее в квартире. Марья Ивановна, оценив достижения дочери, в том числе и здоровую беременность, пришла в восторг и во время приватного ужина с будущим зятем беспрестанно повторяла: «А я всегда знала, что моя Алка – девка толковая!» С чем Клим, с улыбкой поглядывая на Аллу, охотно соглашался.
Марья Ивановна, которая к тому времени давно уже рассталась с кувалдой и работала на легкой работе, была очарована Климом (для нее – Володенька, Владимир Николаевич) и до метафизического испуга поражена удивительным сплетением его судьбы с судьбами ее мужа и дочери. Во время того же ужина Алла Сергеевна с Нинкой намеренно оставили их наедине, и они долго и негромко говорили об ее отце. После разговора Марья Ивановна сжимала в железных объятиях Клима и дочь, плакала и причитала:
«Господи, я же совсем его не знала, совсем не знала! Надо было потерпеть, потерпеть надо было, вот и все! Ему же было так тяжело, так одиноко! Господи, прости меня, дуру деревенскую!..»
В-пятых, это друзья Клима и их подруги, которые отныне сгрудились вокруг нее и в которых ей еще предстояло разобраться, кроме, пожалуй, двух его самых близких друзей – уже известного ей Степана (в миру Николай Степахин), его боевого заместителя, и Маркуши, перенесшего с Клима на нее часть нешуточной заботы по безопасности.
В-шестых, все прочие пешки, чье положение никак не влияло на расстановку вышеперечисленных фигур, и в-седьмых, тайные и явные враги Клима, а значит, наизлейшие враги ее счастья и благополучия.
Кроме всех названных, на доске утвердилась еще одна важная фигура – ее ателье, или, как снисходительно именовал его Клим, «потешное» ателье. Сама же Алла Сергеевна так не считала и относилась к нему, как к суверенному царству моды, в котором четыре портнихи и наладчик пестовали немногочисленных, но благодарных поданных обоего пола. Ее повседневное царствование среди цветного вороха лоскутов, перемешиваемых калейдоскопом дней, и составляло суть событий, что до краев заполняли прожорливый, никогда не терпевший пустоты сосуд ее жизни.
Именно там незатейливые подруги его друзей пожелали сшить себе по случаю ее свадьбы вечерние наряды. Именно там шилось ее свадебное платье с завышенной талией и юбкой до пола, в струящихся складках которой прятался ее Масик. Тонкие лямочки и неглубокий прямой вырез оставляли достаточно места для игры бриллиантового ожерелья, отражающего блестящие подачи крупных живых сережек.
Они скромно расписались тридцатого сентября одна тысяча девятьсот девяносто третьего года от рождества Христова, и малолетние святые мученицы Вера, Надежда и Любовь были их свидетельницами со стороны небес.
Свадьба состоялась в том самом ресторане, где они с Климом обедали первый раз. От обилия торжественных мужских персон в темных костюмах и белых рубашках у нее рябило в глазах. Их обычно отчаянные и грубоватые спутницы, одетые в тот вечер в благородные придворные платья, выглядели дорогой оправой для драгоценной сверкающей королевы. Вполне возможно, что мужчины, глядя на своих облагороженных подруг, впервые уловили эстетическую эманацию того достатка, что достался им опасным и не вполне праведным путем.
Со стороны свадьба напоминала, скорее, чинное торжественное собрание, чем буйное национальное языческое действо, что неудивительно, учитывая состав участников. Впрочем, это вполне устраивало пятимесячную беременность Аллы Сергеевны и ее негромкую натуру.
В праздничном регламенте чувствовалась железная рука невидимой иерархии. В установленном в соответствие с заслугами порядке ораторы в разных концах стола вставали, изрекали немногословные прочувствованные поздравления и вручали подарки, которые она потом разбирала три дня. Она слушала их тяжелую речь, смотрела на их дубленые лица и думала, что такие люди не станут подчиняться, кому попало, а стало быть, если они выбрали Клима, то и ее выбор верный.
Ближе к полуночи Клим, не дожидаясь, пока чинные посиделки сменятся половецкой ночной гульбой, обошел гостей, с каждым попрощался, и новобрачные в сопровождении Маркуши и еще одной машины отправились на некую квартиру, где им предстояло провести брачную ночь, о чем Клим предупредил ее утром, велев бросить в машину необходимые домашние вещи.
Приехали и остановились на тихой незнакомой улице. Через высокую входную дверь попали в чистое, светлое парадное с охранником на посту и по широкой лестнице поднялись на третий этаж, где распрощались с Маркушей и охранником. Клим достал ключи, открыл массивную, красного дерева дверь и ввел Аллу Сергеевну в прихожую. Там он взял ее на руки и они, включая общими усилиями свет, обошли четыре обставленные новой мебелью комнаты и просторную кухню. Остановившись посреди огромной гостиной, он сказал то, о чем она уже начинала догадываться:
«Это мой свадебный подарок моей любимой жене…»
И она, обвив руками его шею и прижавшись щекой к его щеке, пробормотала, не сдерживая слез:
«Климушка, родной мой! Я так тебя люблю – ты не представляешь, как я тебя люблю!..»
Нет, в самом деле, об этом невозможно вспоминать без влажных ресниц и почтительного умиления. Как удивительно, неправдоподобно и невообразимо соединились их пути! Нет, нет, здесь обязательно следует помолчать и прислушаться к тому, как алые паруса золушкиного счастья наполняются благоговейным порывом признательности. Ах, Климушка – ее милый, любимый, закаленный судьбой боец с седою головой!
Дайте, дайте же проглотить благодарный комок…
4
Зная о нем то, чего не знали другие, она почти ничего не знала о его делах. И не удивительно: таков удел почти всех жен. Тем же желтым журналистам, которые питаются досужими домыслами, а в основание своих изысканий полагают убеждение, что жена априори не может не знать о делах своего мужа, заметим, что если бы им повезло думать иначе, то они занимались бы более достойным делом – например, сочиняли роман о некой девушке со швейной машинкой, ставшей известным отечественным модельером.
Откликаясь на ее робкие просьбы, он неохотно и скупо посвящал ее в свои заботы, не забывая воздвигать между ней и его миром пуленепробиваемое стекло полуправды. Через это стекло в ее оранжерею не проникали звуки стрельбы, ни хруст костей, ни холод мертвецкой, ни звуки похоронного оркестра.
Взобрался и лег на окно цветок, прижавшись щекой к стеклу…
Вне всякого сомнения, ее неведение было следствием щадящей дальновидности мужа – человека не просто неглупого, а как показала жизнь, выдающегося, какие только и могут родиться и вырасти в рабочей слободе городской окраины. Тот факт, что он при своем роде занятий ушел хоть и рано, но из своей постели, лишнее тому подтверждение. Как маленькие дети не умеют говорить шепотом, так и он не умел врать, и то, что он скрывал от нее неприглядную правду жизни, лишь свидетельствует в пользу его необыкновенной, обостренной опасностью любви. Вот почему в его письмах с фронта война представала совсем другой, чем из окопов.
Через несколько дней после свадьбы она приехала в ателье. Открыв сердце для искренних и сердечных, как ей показалось, поздравлений, она прошла в свою комнатку, где на столе обнаружила одну из тех газетенок желтого профиля, что подобно желчегонному средству возбуждают классовый аппетит обездоленного населения заметками об истинных и выдуманных непотребствах диковатых хозяев новой жизни.
Всю ее первую страницу занимала Алла Сергеевна собственной персоной, одна рука которой была занята букетом, другая Климом. По-любительски смазанная фотография была ужасного, расчетливо-ехидного качества: на ней невеста в мешковатом свадебном платье и с навсегда раскрытым ртом готовилась не то упасть, не то отказать жениху. В сопроводительной заметке, озаглавленной «Авторитетный брак», сообщалось, что сия нерасторопная, неразборчивая девица, а по совместительству модель, есть Алла Пахомова, невеста стареющего криминального авторитета по кличке Клим, которого после бурной холостяцкой жизни потянуло на молоденьких. И далее стандартный набор его публичных грехов, начиная с рэкета и кончая торговлей наркотиками.
Прочитав, она почувствовала себя так, словно о ее свадебное платье вытерли грязные, вонючие руки.
«Господи, хорошо, что я не пользуюсь общественным транспортом! – первое, что пришло ей в голову. – Иначе бы мне казалось, что на меня все показывают пальцем! Впору умереть со стыда!»
В дверь постучали, и вошла Марина Брамус – протеже Алика, толковая портниха и ее правая рука, с которой у нее сложились хорошие, приватные отношения.
«Аллочка, я как раз хотела вас предупредить, – заговорила она, увидев в руках Аллы Сергеевны газету, – что купила эту гадость специально, чтобы вас не застали врасплох… Пожалуйста, не расстраивайтесь, это все грязная ложь, вы же знаете!»
«Конечно!» – насколько возможно весело отвечала Алла Сергеевна.
Да, сбылась ее мечта, и она стала москвичкой и, более того – замужней москвичкой и, более-более того – состоятельной москвичкой. Но только вот выходит, что все ее благополучие проистекает из грязного источника. И то сказать – вся история с Климом была похожа на чудесную сказку. А за чудеса, как известно, надо платить…
Так она впервые стала предметом публичного интереса, на который если и рассчитывала в будущем, то вовсе не в скандальной связи. О, rus, о, деревня! Ах, Алла Сергеевна, святая простота! Ничего – придет время, и она будет покупать благожелательные отзывы о себе, потому что бесплатно у нас печатаются только гадости.
Приехав домой, она положила газету на видное место и стала ждать мужа. Нет, она не собиралась устраивать скандал – во-первых, кто бы ей это позволил, во-вторых, она знала, на что шла, в-третьих, что бы газеты ни писали о ее муже, она не перестанет его любить. Тогда для чего она положила газету на видное место, вместо того чтобы сделать вид, что ничего не случилось? Да потому что на душе было обидно и гадко, душа нуждалась в утешении.
Пришел Клим и обнаружил газету.
«Уже подсунули! – усмехнулся он. – И кто?»
«Марина. Брамус. Моя портниха…»
«Уволь ее!» – велел Клим.
«Нет, Климушка, не поможет… – печально ответила она, – потому что завтра мне это даст кто-нибудь другой… И потом, – продолжала она, видя, что он хмурится и не отвечает, – она правильно сделала – я должна это знать…»
«Что – это?» – резко спросил Клим.
«Ну, все, что там написано…»
Он резко сел на диван и хлопнул рукой рядом с собой:
«Сядь ко мне!»
Она села.
«Послушай Алла, – заговорил он внушительно, – написать можно все что угодно, в том числе и неправду. Мне давно надо было рассказать тебе, чем я занимаюсь, да все недосуг. Но раз уж так получилось – вот тебе мои объяснения.
Сразу успокою тебя: я и мои друзья – не рэкетиры. Мы не торгуем оружием и уж тем более наркотой. Не похищаем людей и не принимаем заказы на убийства. Не выбиваем чужие долги, не обираем коммерсантов и не крышуем проституток…»
«Климушка, Климушка! – попыталась она его остановить. – Не надо, не оправдывайся, ты не должен, я тебе верю, я тебя знаю, ты не можешь этим заниматься!..»
«Нет уж, послушай! – глухим напряженным голосом перебил он ее. – Зачем нам, скажи пожалуйста, похищать людей, если можно на игровых автоматах заработать триста процентов? Зачем заниматься фальшивыми авизо, если можно иметь долю в предприятиях и получать законную прибыль? Только не надо быть жадным и хитрым интриганом! Мы импортируем продовольствие и электронику, законно перепродаем автомобили и занимаемся недвижимостью, вкладываемся в рестораны и гостиницы, охраняем коммерсантов и их бизнес – разве это преступление? Да, у нас есть организация, но только для того, чтобы защищаться. Мы защищаем свое и не заримся на чужое. Это наш принцип. А теми вещами, про какие пишут газетки, занимаются тупые отморозки, которые только и знают, что паленую водку гнать, да друг в друга шмалять! Телки, тачки, ТТ – вот и вся их жизнь! Поняла?»
«Поняла, Климушка, поняла! – прижалась она к нему. – Давно поняла! Иначе бы не вышла за тебя замуж!»
И все же она тогда ему, скорее, поверила, чем поняла. Поймет она гораздо позже, когда сама встанет у руля собственной швейной фабрики. Поймет, что бизнес мужа есть часть той мировой переливчатой силы, что не знает ни покоя, ни равновесия. Что смертельный риск, который стоит за большими деньгами, требует умной и тихой работы. Что авторитет – это не почетное звание доктора тюремных наук, а незавидный крест. Как красные глаза или фиолетовое лицо.
После его смерти она ознакомится со списком завещанного ей с сыном имущества и будет поражена тем количеством солидных компаний, где он имел долю. Вместе с заграничными счетами и недвижимостью богатство его равнялось бюджету небольшого королевства. Он обеспечил ее и их далеких потомков до конца света!..
5
Она не подвела его и, немного помучившись, родила ему в конце января девяносто четвертого здорового крепкого сына.
«Как назовем? – спросил счастливый отец, принимая сверток с наследником. – Может, Сергей? Серега, Серый…»
«Нет, Климушка, давай Сашей! Саша, Сашок, Сашуля, Сашулечка, Санек, Санечка, Александр Владимирович Клименко…»
Она решила так вскоре после родов, когда ей принесли и подложили кулечек со сладким содержимым. Да, она назовет своего сына в честь Сашки – мужчины, который ее оставил, и которого оставила она – того самого, что хотел назвать свою дочь Аллой. Может, таким способом она прощала своевольную судьбу? Или пыталась вправить застарелый душевный вывих? Или с высоты своих достижений бросала к их подножию кость милосердия, похожую на вставший поперек горла укор? Или делала это в память о неродившемся старшем брате ее новорожденного сына?
«Ну что ж, хорошее имя!» – согласился Клим.
Когда привезли Сашку домой и развернули, Клим, с почтительным удивлением глядя на красноватый сморщенный плод своих трудов, спросил:
«Аллушка, что ты хочешь, чтобы я подарил тебе за сына?»
«Ничего, Климушка, ничего! – горячо отвечала она. – Наш сын и есть для меня твой самый лучший подарок! Да я должна у тебя в ногах валяться за такой подарок и за все остальное!»
Он взял ее за плечи, посмотрел в глаза, затем привлек к себе и сказал:
«Аллушка, ты у меня лучше всех! Таких как ты больше нет!»
Он, конечно, подарил ей богатое колье и кольцо, и она присоединила их к прочим украшениям, которыми он ее и без того избаловал. Вдобавок он вручил ей модную, стильную игрушку – мобильный телефон “Nokia 1011”, который был ей, в сущности, бесполезен, но удовольствия доставил гораздо больше, чем бриллианты. А чем, скажите, еще возможно было побаловать женщину в то смутное, одичалое время? Не ваучером же и не банковским вкладом в доморощенном банке на курьих ножках!
В тот год в Москве громко стреляли. У Клима было лежбище и, наверное, не одно, о которых не знала даже она. И если он их от нее скрывал, то только для того, чтобы держать ее подальше от своих дел, которые в те годы совпадали с линией огня. Сама она под присмотром Петеньки и приставленной ей в помощь домработницы жила в новой квартире, и в появлениях там Клима не находила ни малейшей регулярности – он мог не являться два дня, чтобы потом приехать ночью, тихо пробраться в квартиру и переночевать на диване, а утром, поцеловав сонную жену и толстощекого сына, вновь исчезнуть на два дня.
Его заботливость в лице Петеньки и домработницы следовала за ней по пятам. Стоило ей или сыну обнаружить малейшие признаки недомогания, как тут же возникал милый внимательный доктор и устранял жалобы. И даже если у них не было жалоб, добрый доктор возникал впрок, чтобы осмотреть и поинтересоваться, есть ли у них жалобы. Слава богу, молока у нее хватало, Санька хорошо ел и спал, и основная ее забота заключалась в том, чтобы отвлечься от черных мыслей.
Ни телевизор, ни книги, ни прогулки в сопровождении вооруженного Петеньки не помогали, а лишь обостряли ее впечатлительное одинокое воображение. Положение усугублялось практически полным отсутствием подруг, которым она в том или ином виде могла бы излить душу, дабы удалить оттуда излишки тревоги. Конечно, она могла бы приглашать к себе Марину Брамус – до родов она с ней часто и помногу говорила о разном, но та попадала в категорию случайных людей, приглашать которых в целях безопасности ей было строго запрещено.
«Как у вас дела?» – спрашивала Алла Сергеевна Петеньку, и тот веселым, неизменным «Все путем, Алла Сергеевна, все путем!» подтверждал свою принадлежность к заговору молчания.
«Тут по телевизору сказали, что вчера еще кого-то убили…» – говорила она ему, не особо рассчитывая на комментарии.
«Да не слушайте вы их, Алла Сергеевна! Ну, подумаешь, кого-то по пьянке грохнули! Бывает…» – отвечал Петенька, с надежностью могильной плиты храня новость о том, что на днях подстрелили трех пацанов из их команды.
Когда у нее выпадала редкая возможность прильнуть к мужу, первое, что она ему говорила: «Я все время за тебя переживаю, Климушка!»
Он хмурился и пытался быть строгим:
«Перестань нервничать, Алла! Хочешь, чтобы у тебя пропало молоко? Успокойся, ничего со мной не случится!»
Его утешений хватало на время их встречи, и, дождавшись, когда он уйдет, черные мысли возвращались. Кончилось это тем, чем и должно было кончиться – у нее в самом деле пропало молоко. Обиженный Санька отказывался брать бутылочку с искусственной смесью и орал так, что звенело в ушах.
Добрый доктор, не найдя у матери причин в области телесной, предположил их наличие в области душевной, о чем и наябедничал Климу. Клим неожиданно приехал домой, молча прошел к источнику крика, взял его на руки и принялся ходить с ним по комнате. Санька, которому уже было около трех месяцев, вдруг успокоился и, таращась на отца, принялся сосать свой палец. Клим сунул ему рожок, и он, морщась и выплевывая, кое-как одолел половину. Когда он уснул, Алла Сергеевна впервые познала гнев мужа.
«Алла, что ты творишь! – гудел мрачный Клим, расхаживая по гостиной.
– Я что – должен не отходить от твоей юбки? Я тебе кто – пудель дрессированный? Ты хоть понимаешь, что обо мне товарищи будут думать? Что же, выходит, правильно они меня отговаривали от женитьбы? Правильно говорили: «Баба на борту – не к добру!»? Выходит, я что, должен тебя, как Стенька Разин выбросить за борт, так что ли?»
Тут она расплакалась, и он, не выдержав, бросился к ней и спрятал у себя на груди.
«Аллушка, Аллушка! – бормотал он. – Ну, прошу тебя – перестань психовать! Мне ведь и так нелегко, понимаешь? Мне нужна холодная ясная голова, а для этого я всегда должен знать, что у вас все в порядке! Понимаешь?»
«Понимаю! – ослабла она у него на груди. – Климушка, Климушка, миленький мой, я пытаюсь не думать, но у меня ничего не выходит!»
«Привыкай, Аллушка, привыкай!» – строго гудел Клим.
«Но к этому невозможно привыкнуть, Климушка!..»
И это правда. Даже сегодня ей иногда снится, что с Климом, которого уже нет, что-то случилось. Да, верно: с одной стороны ее расчет оправдался – ребенок в ощутимой мере восполнял отсутствие мужа, но с другой стороны, черные мысли почему-то стали еще чернее. Эти несколько месяцев после родов засели в ее памяти скользкой обжигающей медузой.
«Тебе надо отвлечься, – говорил тем временем Клим. – У меня на примете есть нянька, которая может сидеть с Санькой между кормлениями. А ты начинай наведываться в ателье. Глядишь – и отвлечешься. А дальше посмотрим. Есть у меня одна идея, уверен, тебе понравится…»
«Какая идея, Климушка?» – вытирая кончиками пальцев слезы, обратила она к нему доверчивое лицо.
«Очень большая и нужная! – улыбнулся он. – Швейную фабрику откроем! Справишься?»
«Климушка! – раскрылись ее глаза со слипшимися ресницами. – А разве такое возможно?»
«В наше время все возможно, если не нервничать!» – улыбнулся он и, не удержавшись, припал к ее припухшим губам, открыв ими еще одну внятную и легко читаемую страницу ее воспоминаний – альковную, так сказать.
6
Дело в том, что несмотря на успешные роды, врач, принимавшая их, нашла у нее опасность осложнения, о чем и сообщила при выписке Климу, строго наказав приступать к супружеским обязанностям не раньше чем через три месяца. «Потерпи, потерпи, голубчик!» – заявила седая повитуха, своим опытом и положением заслужившая право быть на строгой ноге и с властями, и с бандитами. Алле Сергеевне же она сказала: «Будет совсем невмоготу – дай ему, что он хочет, но не раньше, чем через два месяца и осторожно, без лишнего усердия! До этого же срока выпускай из него пар, как умеешь! Поняла?» «Поняла!» – кивнула головой Алла Сергеевна, которой в тот момент не то, что заниматься – думать об этом не хотелось.
И не думала, и не занималась, хотя прижимаясь к нему перед сном, ощущала телом его твердое, изнывающее желание. Еще бы: после родов она расцвела и поправилась – ровно настолько, чтобы округлиться до аппетитной обольстительной женственности, подкрепленной тонким божественным ароматом кормящей самки. «Климушка! – шептала она, трогая его силу. – Хочешь, я тебе помогу?» «Помоги, Аллушка, помоги… – смущенно отвечал он. – Это просто мучение какое-то – быть с тобой и не любить тебя…» И она помогала.
Кстати говоря, коли уж речь зашла о женском вспоможении, то позвольте отвлечься от казенно-денежного и для обозначения нужды в обуздании вставшего на дыбы коня вернуть слову его коренной, спинномозговой смысл – великодушно-милосердный. В этой связи стоит заметить, что как ни основателен был повод и как ни велико было желание Аллы Сергеевны испробовать мужний сок, что-то подсказывало ей, что делать этого ни в коем случае нельзя, как и намекать на саму возможность такой услуги. Следовало дождаться, пока он не попросит о ней сам, да еще и не сразу согласиться.
Кроме совета, врач снабдила ее модными противозачаточными таблетками. «Начни принимать через два месяца!» – велела она, что Алла Сергеевна и сделала.
«Климушка, пойдем, ляжем! – оторвавшись от него, придушенным голосом позвала она. – Уже можно!»
«Нет, Аллушка, нет! – заупрямился он. – Потерпим еще неделю…»
И уехал от греха подальше.
Через три дня у нее появилось молоко, а еще через неделю Клим с друзьями что-то там, наконец, порешил и вырвался к ней на несколько дней.
Покормив и уложив сына, она, мягко ступая, пришла к мужу в розовом свете ночника – с утомленно-растрепанными прядями, в незапахнутом халатике поверх полупрозрачной ночной рубашки, с голыми руками, босиком и с запахом молока на груди. Едва она успела обнажиться и лечь, как он тут же завладел ее набухшей грудью и, кажется, опустошил ее – так жадно и ненасытно он к ней припал. Она сразу сомлела – никогда еще он не атаковал ее так страстно и ощутимо. Его руки, прокладывая путь твердым губам, тяжело и требовательно оглаживали и мяли ее налитое упругой молочной сдобой тело, и она, запрокинув голову, охотно и покорно подставляла себя, испытывая новые, острые, приправленные материнством ощущения. И вот совершенно немыслимое еще вчера достижение: он добрался до входа в святилище, из которого явился на свет его сын, и, преклонившись, принялся зацеловывать горячие, влажные врата. Ей показалось, что жадным ртом своими он поедает саму ее жизнь, которая, если его не остановить, вот-вот кончится. Не пуская рвущийся наружу стон, она побелевшими тонкими пальцами вцепилась в простыню и с сухим беспорядочным шелестом завозила по ней пятками. В ответ он еще крепче впился в нее и проник между створок. Сопровождая сладкую пытку мучительным глиссандо, она выгнулась в одну сторону, в другую, но он, не отрываясь от ее бедер, следовал за ней, и тогда она, раскинув руки, закатив глаза и мотая головой, сдавленно залепетала: «Ой, ой, не надо, Климушка, не надо, умру сейчас, умру!..» Его губы беспорядочно заметались по ее горячему телу, обжигаясь и отыскивая на нем прохладу, пока вместе с ним не оторвались и не воспарили над ней. Там он на секунду завис и вдруг сорвался оттуда на самое ее дно, да так, что сладкая острая боль пронзила ее живот и освободила его от протяжного, жалобного крика. Он замер на вытянутых руках, а затем бережно задвигался, заглядывая в ее искаженное страдающим удовольствием лицо. Она вцепилась в него и потянула к себе. Он тяжело осел и все также осторожно продолжил. В лихорадочном нетерпении она возложила руки на его бугристые ягодицы и, поощряя к насилию, принялась требовательно раскачивать его рычащую страсть, задавая ей силу и ритм. «Не жалей меня, Климушка, не жалей!» – бормотала она срывающимся голосом. И тогда он, голодный могучий самец, отпустив поводья и пришпоривая себя, принялся гоняться за ней, изнемогающей стонущей самкой – минуту, две, три, пять, семь – пока крепкими безжалостными толчками не загнал ее, обессиленную, в пределы, где она до него ни разу еще не бывала. Умирая под ударами чувственного тока, она помутненным сознанием впервые за все время их союза уловила его сдавленный стон, с которым он себя опустошал. Вслед за тем она вдруг взлетела и очутилась на нем, где по-прежнему сочлененная с ним нанизывала свою любовную агонию на его слабеющие толчки до тех пор, пока оба не затихли.
Все произошло так, будто бурный водоворот закрутил их и увлек, сцепившихся и задыхающихся, в черную глубину подземной реки и, протащив под мерцающими гулкими сводами, выбросил обсыхать на неведомый безлюдный берег. Очнувшись, она захотела сползти, но он обнял ее и не отпустил, и тогда она, раскинув руки и осыпав его волосами, обмякла на нем, как на золотом горячем песке. Несколько минут они оставались в таком положении, а затем она сползла и, закинув на его бедра согнутую в колене ногу, прилипла к нему горячим любовным сургучом.
«Прости, Аллушка, за грубость…» – смущенно повинился он.
«Ну что ты, Климушка! Ты не представляешь, как мне было хорошо!» – едва шевеля губами, отвечала она.
«Ты стала такая сладкая, что я не мог сдержаться!» – погладил он ее по голове, словно сглаживая гастрономический оттенок признания.
«Это ты у меня сладкий! – прижалась она к нему до судороги в руках. – Такой сладкий, такой сладкий, как я не знаю кто…»
Она хотела добавить что-то вроде «Я никогда в жизни не испытывала ничего подобного!», что было бы истинной правдой, но невольно и не к месту обнаружило бы в ее прошлом некую мужскую тень, с которой она все же когда-то что-то испытывала. А потому, подумав, она с неподдельным смущением добавила:
«Климушка, ты меня туда так целовал, что я чуть с ума не сошла! Мне Нинка, конечно, рассказывала про такое, но я даже представить себе не могла, как это сильно!»
Так она солгала ему во второй раз.
Именно с той ночи у них наладился упоительный, полноценный и умеренно разнообразный секс. Он с регулярным и основательным удовольствием целовал ее в средиземноморье, пока она не подумала, что совокупность его непогашенных поцелуев уже давно требует симметричного ответа с ее стороны. И однажды, стеснительно запинаясь, она сказала в темноту:
«Климушка, между прочим, Нинка мне рассказывала, что целует своего мужа вот сюда и ему очень нравится…»
И узкой указкой пальцев дотронулась под одеялом до его мускулистого атлета.
Темнота молчала.
«Может, ты тоже хочешь? Если хочешь – скажи, я попробую… – продолжала она соблазнять темноту. – Ну, хочешь?»
Темнота промычала нечто нечленораздельное.
«Нинка мне, конечно, рассказывала, как это делается, но я даже не знаю, получится ли у меня…» – лепетала она.
И тогда темнота потянулась к ней, крепко поцеловала в губы и откинула одеяло. Она сползла к его бедрам и, вспомнив свой первый урок, подчеркнуто неловко извлекла и испила до дна живую, густую, сладкую мужнину истому, после чего молча устроилась у него на груди, лелея приятное волнение. То, о чем ей давно сообщили глаза, пальцы и лоно, подтвердили теперь распяленные губы: ее муж был создан не только для драки, но и для любви, и во всем с головы до пят был, не в пример интеллигентному Сашке, могуч и пропорционален.
«Тебе понравилось?» – тихо спросила она, радуясь, что он не видит ее лица.
«Очень… – скупо обронил он, – а тебе?»
«Никогда не думала, что буду это делать… Ты у меня ужасно вкусный!» – с чистым сердцем ответила она и, облегченно вздохнув, еще крепче прижалась к нему.
Судя по новым краскам, которыми наутро заиграла мужнина нежность, ее якобы нерастраченное целомудрие, подкрепленное потупленными смущенными взорами, его глубоко тронуло.
Такой была ее третья ложь: блаженная имитация невинности, невинный обман во благо – один из тех немногих, которые она себе с ним позволила. Так она зачеркивала прошлое, так она приветствовала будущее, ибо только с Климом началась ее настоящая жизнь и настоящие радости.
7
Она кормила сына грудью до года, пережив с ним два кратковременных помрачения, когда мир сужался до его болезни.
К ней приписали няньку, и она между кормлениями смогла выезжать в ателье, где дела шли очень даже неплохо. Клиентов прибавилось, стали появляться серьезные люди и люди серьезных людей – этакая лояльная Климу элита бандитского мира, члены бандитского политбюро и их родственники, если можно так сказать. Впрочем, что такое бандитский мир того времени, как не пристанище беспокойных людей, стесненных рамками повседневности? Всякий, способный испытать «упоение в бою и бездны мрачной на краю» был кандидатом в бандиты, а те, кто испытывали его на деле, таковыми, собственно говоря, и являлись. Ибо, с одной стороны, назвать их коммерсантами не поворачивается язык, а с другой стороны, их следует отличать от тех, что презирают законы и зовутся в таком случае уголовниками, будь они хоть в тюрьме, хоть во власти. Часто внешне их деяния неотличимы, и тогда кто из них кто решает нравственный закон, а именно: классический уголовник не обременен совестью. Есть между ними и общие черты: золотым для тех и других является смутное время, когда границы закона не охраняются, а до бездны один шаг. И еще хорошая одежда, к которой те и другие питают слабость.
К тому времени в стране можно было найти хорошую готовую одежду, либо купить ее за границей. Книжные прилавки ломились от журналов моды, снабженных нотами последнего ее писка. И все же желание потратить деньги на оригинальный фасон не ослабевало, особенно среди состоятельных женщин.
Марина Брамус, самая информированная из помощниц Аллы Сергеевны, хоть и не имела прямого доступа в московский мир высокой моды, была, тем не менее, связана с ним телефонной мембраной – достаточно чуткой, чтобы откликаться даже на малозначительные события. Мир этот в своем концентрированном, элитном виде на самом деле гораздо уже театрального, не говоря про музыкальный. Ну, не причислять же к нему многочисленные ателье, бывшие не более чем травой в подножиях трех сосен, на которую те высокомерно роняли сухие иголки. При этом выбор у ателье, в массе своей с унынием взиравших на будущее, был невелик: либо с божьей помощью продолжать обшивать, следуя чьей-то моде, либо вставать на ноги и диктовать свою, что без больших денег сделать было невозможно. Так или иначе, с ателье или без них мир этот переживал не лучшие времена.
Нет, конечно, там, как и во всех прочих бывших советских отраслях, имелись священные коровы, давно и прочно состоявшие в сговоре с властью. И то сказать – кто же еще разработает и отошьет мундиры Президентского полка и прочих казенных людей, призванных стоять на защите вечно модных нефтяных интересов!
По рассказам Марины и по собственным наблюдениям Аллы Сергеевны московский мир моды представлялся ей этаким запущенным, не желающим размножаться комнатным растением, которое нуждалось в пересадке и новых соках. Его былая оранжерейная наследственность и финансовая слабость делали его безнадежно зависимым от буйных иноземных сорняков. Все эти мировые восторги вокруг коллекций a la russe, курьезностью равных матрешечьим, не шли дальше снисходительного похлопывания наших плеч ушлыми иноземными садовниками, ни за что не желавшими пускать посторонних в свой цветущий сад. И то, что в том или ином месте российского сусла вдруг вздувался пузырь очередного модного дома, положения не меняло.
После памятной истории с пропажей молока и последующим радикальным и упоительным обновлением ее альковной жизни, она постепенно успокоилась и, если так можно выразиться, привыкла бояться. Теперь ее рабочий стол был завален модными журналами, книгами по искусству и эскизами, к которым она обращалась в свободное время. И чем дальше забиралась она в дебри моды, тем прочнее была ее решимость не следовать, а диктовать. Ее ненормальное былое почтение к Дому моделей с его небожителями обратилось в дерзкое разочарование – настолько дерзкое, что изучая очередную его коллекцию, Алла Сергеевна усмехалась и роняла: «Господи, Кафтанный ряд какой-то…». И считала она так вовсе не потому, что показанное на «языке» часто бывает недоступным пониманию простого человека. Это-то как раз нормально. Это как на подиуме литературы, живописи и музыки: читать, видеть и слушать могут все, но понимают лишь немногие. Здесь же она, глядя на доморощенные модели, воодушевлялась до такой степени, что самонадеянно думала, будто может писать – ах, простите! – одевать, по-крайней мере, не хуже.
Марина Брамус – томная незамужняя пантера, ухоженная черно-бурая лиса, мудрая неядовитая змея – словом, тонкая московская штучка, повадкам которой лет десять назад Алла Сергеевна непременно стала бы подражать, была достаточно искушенной в модных делах, чтобы признать за хозяйкой ателье абсолютный слух и собственный голос. Качества сами по себе достаточные, чтобы быть дирижером большого оркестра, не правда ли? Так вот Марина говорила ей, как внушала:
«Аллочка! Нам, вернее вам, надо двигаться дальше. Надо расти и выходить на новый уровень. Думаю, модный дом вам по силам. Неужели Владимир Николаевич не поможет?»
«Конечно, поможет! – отвечала она, не распространяясь о его обещании по поводу швейной фабрики. – Только вы же понимаете, Мариночка – пока я кормлю, об этом не может быть и речи… Кстати, вот, посмотрите – последнее фото моего зайчика…»
И дальше сбегались портнихи, и следовал сводный хор восторгов по поводу глазастого белокурого малыша ангельского вида, уютно устроившегося на мамочкиных руках.
За минувшие месяцы после то ли обещания, то ли пожелания, то ли утешения она несколько раз напоминала мужу о фабрике, и каждый раз он скупо ронял: «Работаю, Аллушка, работаю…». Интересовалась она скорее из любопытства, чем от нетерпения: ни возраст сына, ни нежелающее иссякать молоко не позволили бы ей должным образом заняться фабрикой, будь она даже у нее в кармане. Ведь если уж время, которое она выкраивала для ателье, хватало лишь на краткую инспекцию, то что тут мечтать о серьезном предприятии.
Синеглазый, расточительно солнечный мартовский день ее тридцатилетия начался с корзины белых роз. Петенька привез их, вручил и объявил, что сам податель сего будет позже. Она приоделась и принялась ждать.
Позвонила мать и заполошно поздравила себя со счастливой дочерью. Поахав о том, как бежит время, заговорили о внуке, и мать в третий раз за два месяца вспомнила, что тоже кормила Алку грудью около года. «А потом вдруг как обрезало!» – удивлялась Марья Ивановна. «Вот и у меня также!..» – терпеливо подтвердила родство дочь. Своими былыми молочными подробностями мать странным образом ухватилась за текущий момент и с волнением сообщила, что один приличный мужчина предлагает ей себя в мужья. «Налицо неудовлетворенная потребность материнства!» – заметил бы психоаналитик, следуя обратным путем ее ассоциаций. Но Алла Сергеевна разбираться не стала и сказала: «Выходи, мама. Давно пора. Сколько можно с хахалями забавляться…» И вспомнила густой прелый запах, который они после себя оставляли. Взволнованная мать пропустила намек мимо ушей и пообещала: «Вот распишемся и приедем на вас посмотреть! Не выгоните?» «Конечно, приезжайте!» – согласилась дочь, прекрасно понимая, что обещанием своим мать лишь проверила крепость каната, которым ее лодка отныне была привязана к кораблю дочернего счастья. В голове мелькнуло: «Как странно и грустно: мать выходит замуж после дочери, да к тому же в первый раз!..»
«Да! Чуть не забыла! – спохватилась Марья Ивановна. – Тут меня недавно твой Сашка Силаев прихватил. И знаешь чё?»
«Чё?» – машинально переспросила не успевшая удивиться Алла Сергеевна, давно избавившаяся от сибирского акцента.
«Вынь ему, да положь твой адрес!»
«Чего, чего-о? – округлились глаза Аллы Сергеевны, до которой, наконец, дошел пикантный смысл события. – Сашка? Да откуда он у вас взялся?»
«Как откуда? Из Москвы, наверное!»
И дальше выяснилось, что недели две назад мать встретила на лестничной площадке пьяного, неопрятного Сашку, и после того как великодушно пригласила к себе, тот чуть ли не на коленях просил у нее прощения и умолял дать адрес ее дочери.
«И ты что – дала?!» – заранее отказывая матери в благоразумии, приготовилась обрушиться на нее Алла Сергеевна.
«Да что я – дура? – обиделась мать. – С какой стати? Сказала, что адреса твоего не знаю, и что телефона у тебя нет, и что ты сама соседке звонишь, когда надо… А что, неправильно?»
«Ты ему про меня еще что-нибудь говорила?»
«Ну, конечно! Что замужем и что ребенок у тебя… А что, не надо было?»
«Ну, хорошо, а он что-нибудь рассказывал?»
«Да так… жаловался на жизнь. Жизнь, мол, тяжелая…»
«И больше ничего?»
«Да, вроде, ничего…»
Чувствуя, как стремительно рушится воздушное здание праздничного настроения, Алла Сергеевна мрачно и внушительно постановила:
«Значит, так: если снова будет приставать – ничего ему не давай, ни адреса, ни телефона. И обо мне больше ни слова! Поняла?»
«Да поняла, поняла!» – с досадой отвечала мать.
«Имей в виду – он может подкатить через Нинку. Поняла?»
«Да поняла я, поняла! Что я – дура, что ли!»
Бросив трубку, Алла Сергеевна дала волю гневу.
«Ах ты, негодяй! Ах ты, изменник! Ах ты, банный лист! Ишь, чего захотел – адрес ему подавай! Еще чего! Только тебя мне здесь для полного счастья не хватало! Может, тебя еще на обед пригласить и с мужем познакомить? Мол, знакомься, муж – Сашка Силаев, мой бывший любовник! Научил меня в постели всему, чему только можно! Так ему благодарна, что даже сына назвала в его честь! Так, что ли? Нет, дружок, не так! Тебя в моей жизни никогда не было, нет и не будет! А если кто-то не воспользовался вторым шансом, то это его проблема! Так что теперь поздно, теперь уж точно проехали, теперь забудь навсегда! Или ты решил, что можешь вот так просто ворваться в мою жизнь? Ну, что ж, попробуй, сунься – Петенька тебя враз с лестницы спустит!»
Направляемая возбужденными мыслями, она кружила по комнате, нахмурив строгое лицо и устремив невидящий взор навстречу опасности. Да, опасности! А что если он разыскивает ее для подлой мести? Что если желает довести до сведения ее мужа пикантные тайны их сожительства? Да если муж узнает лишь малую часть того, что она, начиная с шестнадцати лет, вытворяла в постели и за ее пределами, не говоря уже о двух абортах, он тут же разведется с ней и отправит на панель! Тем более принимая во внимание ее ухищрения предстать перед ним этакой безобидной овечкой, потерявшей невинность во сне и даже не заметившей этого!
Вслед за приступом гнева она пережила полузабытое ноющее состояние, которое, казалось бы, давно оставило ее, но на самом деле никуда не делось, а зарылось в поющие пески памяти. Она будто вернулась в дни их сожительства, из которых исчезло все светлое и хорошее и осталось только тягучее неприкаянное ожидание. В желудке образовался тошный комок.
Что ж, вот прошлое и дотянулось до нее и даже попыталось позвонить в дверь. Что ему надо, зачем он ищет ее, что он, пьяный и неопрятный, рвется ей сообщить? Да, она имела право уйти от него, но уходя, не рассчитала силу отдачи. Она думала, что он в ярости проклянет ее и отвергнет, как проклинала его она, отвергая подсунутый Нинкой адрес, но он повел себя иначе.
Понемногу она успокоилась и принялась рассуждать. И вышло, что предать ее (и предать с удовольствием) может только Нинка, но не предаст, поскольку нового адреса у нее нет, а по тому адресу, где она была у нее в гостях, уже нет ее, Аллы Сергеевны. Разумеется, Сашка может узнать его в адресном столе, но он никогда не узнает, где она живет на самом деле, потому что об этом знают лишь несколько надежных людей. Да и где ему, ленивому домашнему коту, браться за поиски черной кошки, что прячется в московских джунглях! Ах, как верно и прозорливо она поступила, скрыв от него номер телефона и адрес ателье!
Ну, а если он все-таки не успокоится?