Запах напалма по утрам (сборник) Арутюнов Сергей
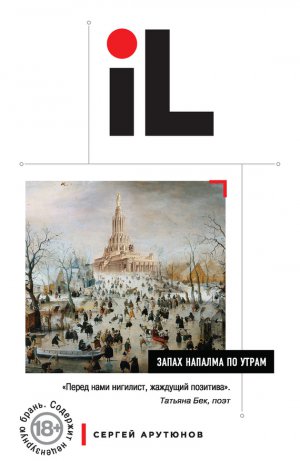
– Съел, мать твою? – Мама вскрикнула и выбежала. – Что молчишь? Подлец ты. Паскудник. Наказать тебя надо. Как народ наказывает. Крепко. Так наказать, чтобы на всю жизнь. Чтобы запомнил. И никогда…
Сашуля видел, как папины руки отрезали от буханки еще и еще, накладывали на тарелку, отгоняя покрытые веснушками дедушкины, стремившиеся помочь.
– А ну держи его. Я ему этот хлебушек наш прямо в глотку запихаю! – слышался чей-то звенящий от обиды голос. Метались тени. Рот не открывался. Из него вываливался непрожеванный хлеб. – Погоди, за плоскогубцами сбегаю. Расширитель вставим. А сверху можно молотком вбить. По сусалам, хе-хе. Прям по зубам его. Ага. Давай.
Горел какой-то ужасно яркий фонарь. Почему-то через гофрированное стекло. Свечей в двести.
Мякиш проталкивался сквозь трахею. Вопил по радио гимн.
Разве уже утро, думал Сашуля, или ночь? Только что же был день.
Папины пальцы пихали батон уже целиком. дедушка держал за шею и натужно вскрикивал. Мамы не было. Бабушка звенела неподалеку кофтой с медалями. Сашуля ни с чем бы не перепутал этот звон. Бабушка всегда надевала кофту, когда шла на демонстрацию или в ЖЭК.
– Готово. Вот и молодчик.
Перед глазами шли разноцветные круги. Воздуха не было. Ни глотка. Словно в воде или в космосе без скафандра. Сердце выскакивало из груди. Сашуля был в вакууме.
– Понял? Понял, вражина, каков он, наш советский хлеб? Будешь еще из него катыши катать? Будешь? Говори – будешь? Предатель! Антисоветчик! Крыса! Сукин сын! Космополит! Враг народа!
И тут со всех сторон посыпались удары. Сашуля не мог ни заслониться, ни закричать: хлеб мешал.
Эмигрант Александр Мякишев подбросился на кровати и посмотрел в лобовое стекло мансарды.
– Ненавижу!..
По стеклу кипели дождевые капли.
– Ненавижу вас, гады, – нелепо разнеслось в копенгагенской комнатушке на верхотуре. Словно бы ни к кому. На столе гигантскими фаллоимитаторами пролегали и перегибались где-то за горизонтом запакованные в полупрозрачные пакеты датские батоны. Александр схватил тот, что поближе, и с наслаждением стал разрывать на части, топча ногами. Трещала упаковочная бумага, сыпались крошки.
– Сволочи. Коммуняки поганые. Совки заскорузлые, немытые. Ненавижу вас всех. Сами вы падлы! Рабы. Уроды. А я… А я… Я…
В проем двери то ли изумленно, то ли почти безучастно смотрела шлюха Ирэн.
СССР не кончался.
Возможно, в отличие от Мякишева он был бессмертным.
Почти как хлеб.
Выставка Буратино
Серпы, перекрещенные молотами, на ситцевых занавесках веранды напоминали кривоватых птичек. Из-за них задувало мокрым деревом, июльским купанием, а Котя все макал и макал извазюканную во всех банках кисточку, проводил мохнатые линии, отжимал воду, сушил ползущие натеки, снова макал, и не было этому конца: сзади, немолчно поскрипывая суставами коленок, ходил Буратино.
Когда лучи вспрыгивали на картинку, было видно, какая она взбугренная и заплаканная. Листья яблонь сочувственно покрапывали грибной капелью.
– Котя! – вскрикнул Буратино. – Ты опять!
Мальчик съехал с отсиженной ноги и огорченно посмотрел на учителя.
– Котенька, я же просил, умолял, объяснял тебе! Что скажут теперь высокие товарищи? Ты помнишь девиз выставки?
Буратино схватился за жидкие стружки прически, растянув в нервной гримасе страдальческие тонкие губы. Котя посмотрел на рисунок.
– Девиз выставки «В каждом рисунке солнце!» А у тебя?!
Котя подумал. И снова посмотрел на Буратино, зеленая накидка которого колебалась в эту минуту особенно жалко и неприкаянно.
– Но ведь на улице идет дождь.
– Дождь, дождь, дождь!!! Но что это меняет? Солнце-то ты мог нарисовать?! Простое солнце! Смотри, куда ты теперь его поместишь, когда здесь град, буря, торнадо, геенна, ниагарские выкрутасы! Котенька, ты еще маленький, но я тебе скажу сразу, чтобы ты запомнил и никогда этого не повторял, – то, что ты сделал, называется не нашим, чуждым, хотя и понятным словом «формализм». А формализм есть не свойственное никому из нас, советских людей, видение действительности, и это в тот момент, когда каждому советскому мальчику даны от рождения краски, кисточки, личный руководитель, внимание высоких товарищей, светлая дорога в завтра! – Буратино щелкал напомаженными челюстями и носился по веранде, как заведенный золотым ключиком. – Пойми, нас сочтут нравственными диверсантами, и они будут правы, тысячу раз правы! Наша идейность не должна вставать между искусством и практикой, мы должны видеть мир солнечным и радостным, несмотря на отдельные перегибы и уклоны, пойми и усвой, пойми и усвой! Наше настроение не может быть мерилом исполнения! Все уже сказано не нами, мы оформители уже существующего – того, что дано нам в ощущениях! Что ты чувствуешь?
– Мне скучно.
Буратино расширил глаза на пол-лица.
– Тебе – скучно? Советскому мальчику – скучно?! Котенька, одумайся. Ты занимаешься прекрасным искусством изображения. Ты не любишь меня? Я слишком строг с тобой? Но я стараюсь… я же люблю тебя и хочу, чтобы у тебя было все хорошо, глупыш!
– А что такое «чуждый»? – спросил Котя. Ему было страшно видеть учителя таким растерянным, паникующим.
– А почему ты спросил об этом? Впрочем, детям свойственно спрашивать всякую всячину. Я быстро тебе объясню, но, если ты не поймешь, не переспрашивай меня. Это сложно, это почти непонятно, но я буду с тобой предельно честен. Котенька, «чуждый» – это не наш, чужой, не свойственный нам. Ты, наверно, знаешь, у меня есть брат. Старший брат по имени Пиноккио. Он родился давным-давно в Италии, капиталистической стране, далеко отсюда. Разумеется, я не знал о нем ничего, кроме того, что он тоже деревянный человечек, похож на меня, и вовсе не хотел видеться с ним. Мне достаточно было прочесть книгу, описывающую его похождения. Так вот, Котенька, я прочел и убедился – со стыдом и страхом! – насколько этот так называемый мой брат чужд мне. Как измучили и исказили его те условия бытия, которые предоставляются деревянному человечку там, за рубежом. Какой он разочарованный, усталый, циничный, в отличие от меня, несущего золотой ключик всем детям советской страны вот уже столько лет. Ты понимаешь, что я тебе говорю? Я не хочу встречаться со своим братом. Я презираю его. Я читал только некоторые выдержки из его жизни, которые мне были предоставлены, но там… – Буратино ткнул культей вверх, – знают, что мой старший брат, вместо того чтобы нести свет искусства итальянской детворе, попытался стать человеком и, кажется, даже стал им. Игрушка! Я не стану скрывать от тебя, что много думал о нем и понял, как все это мне чуждо. Я выбрал борьбу, я выбрал единственную свободу – быть собой и никуда больше… никуда, никем… забудь, забудь, заговариваюсь, а он! – он предал суть, он эгоист, он негодяй! Он мой брат, но он должен быть забыт и мной, и тобой, и всеми детишками на нашей земле. Нет Пиноккио, есть Буратино, я, его младший брат, свободен от ошибок и заблуждений раннего империализма, я живу честно, а он – подл, низок, себялюбив. Я не он! Он не я! Вот что такое чуждость, истинная чуждость отчуждения, понимаешь?
Котя честно попытался. Ему было жаль этого престарелого человечка, который учил его макать кисточки, проводить линии, но чаще сидел в огромном кресле и бормотал что-то вроде: «Мкккар ччуддра, ччудо рррафф-фаэлевск кррррыпт хаеш тугодрррр…»
Суставы прогибали фигурку почти независимо от произносимых мантр.
– Что мы будем делать, Котя? Что нам делать? – закружившись волчком на месте, вскричал учитель и внезапно рухнул на пол. Три колоссальные тени с топорами на плечах поднимались к ним из сада, сдавливая половицы рыбацкими безжалостными сапогами. Первый, в зюйдвестке и кричаще-желтом плаще, указал на Буратино кривым и шишковатым средним пальцем, гармонически соседствовавшим с отрубленным безымянным.
– Ты есть мальчик Котя? – послышались басовитые звуки с латышским акцентом.
Котя кивнул и сжался.
– А Он – есть твой наставник, Буратино? – указал он на грубо отлакированные веточки, накрытые накидкой, как саваном.
Котя хотел кивнуть, но не смог.
– ЗАБЕРИТЕ НАСТАВНИКА, ИБО ОН СОГРЕШИЛ. ЗАБЕРИТЕ МАЛЬЧИКА, ИБО ОН НАРУШИЛ. ЗАБЕРИТЕ ВЕРАНДУ, ИБО ОНА НАПАКОСТИЛА. ВЫРУБИТЕ САД, ИБО ОН НАГАДИЛ. СОЖГИТЕ ВСЕ, ОТМЕНИТЕ ВЫСТАВКУ, ВЫЧЕРКНИТЕ ИМЕНА ИЗ СКРИЖАЛИ, ОПУСТИТЕ НЕБО, ПРЕЗРЕЙТЕ СВЯТОЕ, ВЫПУСТИТЕ ЗЛО ИЗ СПИЧЕЧНОГО КОРОБКА, ЗАБУДЬТЕ О ПОДВИГАХ, ИБО ОНИ БОЛЕЕ НИЧЕГО НЕ ОЗНАЧАЮТ.
– ЫППЕР ХЫППЕР ТУМПС!!! – хором прокричали вошедшие, исполняя странную рыбацкую пляску с уханьем и притоптываньем об жалобно задребезжавший пол.
Котя, спрыгнув со стула, подбежал к учителю и взял в руку его горячий затылок. Буратино открыл заплаканные голубые глаза.
– Вот видишь, а все могло кончиться совершенно по-другому! Скорее нарисуй им солнце, пусть они уйдут!
Котя стремительно, на ватных ногах побежал и, оскалившись, прицелился в оранжевую гуашь. Вывернув содержимое банки одним рывком, он припечатал к бумаге огромное кляксовидное пятно, тут же брызнувшее в разные стороны вымпелами расплывающихся лучей.
Стало тихо.
Пришедшие довольно гаркнули: «Салют-привет!» – и, превратившись в серых цапель, спокойно сошли с веранды на подгибающихся мозолистых ногах и исчезли, оставив по себе запах болота.
Буратино, поскрипывая, проковылял к Коте и положил руку ему на макушку. Его жесткая ладонь с едва надпиленными пальцами была как никогда нежна и открыта. Учитель не мог рисовать, он мог лишь говорить, каким должно быть советское рисование.
– Милый мальчик, обещай мне, что никогда ничего не забудешь. А если захочешь нарисовать грозу, если захочешь нарисовать грозу… то рисуй ее. Кто знает, что будет, если ты действительно ее нарисуешь…
Наставник скрипнул шеей, поправил накидку и, опираясь на суковатую палку, сошел в сад плакать.
Чужая сторона
На похоронах Дуремара были Мальвина и Карабас. Лил дождь.
Пиявочник лежал спокойным, по длинному носу стекали капли.
– Да закрывайте же, вы его намочите! – крикнула прима.
Карабас попытался ее обнять, но она стряхнула его руки. Он сделал вид, что не заметил.
– В Пескарей?
– Ой, да. Пожалуй. Отвези меня.
Пролетка остановилась у старого трактира. Карабас подал руку. «Как она постарела, раньше выпархивала как птичка… Проклятье». Вошли. Потянуло дымом, сын старого Джованни вышел из-за занавеса, заслышав колокольчик. Заказали цыпленка, Мальвина взбила локоны, сняла перчатки.
– Ну, рассказывай. Я же ничего о тебе не знаю.
– Порядок, девочка. Что у тебя? Что Мальчишка?
– Он обезумел. Половина труппы в бегах. Интрижки. Я не могу, я не выдержу!
– Девочка моя, может быть, переедешь ко мне? Уверяю тебя…
– Ах оставь, пожалуйста. Ты всегда думал только о себе. Театр! Что я буду без него делать?
– И ты должна поэтому жить с этим деревянным параноиком, пьяницей? Он бьет тебя?
– Барби, я тебя умоляю…
– Бьет?
– Барби…
Она стала крутить ему пуговицу зеленого сюртука.
– Барби, я люблю его, я…
– О дорогая…
Принесли рыбу.
Через полчаса послышалось чихание. Карабас тревожно оглянулся на дверь. Пьеро вошел в таверну походкой истеричного прапорщика.
– Ты здесь! Отлично. И ты. Иного не ждал. Прекрасно. Удаляюсь. Прекрасно.
Мальвина побежала к нему.
– Сядь! Немедленно сядь! У нас…
– Прекрасно! Лучше не бывает.
– Сядь и выпей! Барби купил вина. Вы даже не поздоровались. Ну что ты…
Фраза о вине немедленно привела Пьеро в чувство.
– Тэкс, тэкс. Охотно. Я бы сказал… – Он стремительно занял место, напоминая спринтера на старте, и весь напрягся. – …охотнее охотного! О Барби, если бы ты знал!..
Три стакана, выпитые залпом, привели его в состояние опасливо-умиротворенное. Было видно, что за него часто платили, но и бивали тоже частенько.
– Барби, ты увезешь ее? Увезешь? А у нас все ни к черту, Барби, старина, ни к черту. Артемон воюет у Гарибальди, я вот… а, что говорить, Барби, ты все видишь сам… Барби, как же я рад, что…
– Он всегда так? – спросил Карабас.
– Каждый день, – выдохнула Мальвина.
– Едемте. Послушай, поэт, едем. Вместе. В Штаты. Я купил завод. Делаю кукол. Да не пугайся ты. Кукол! Вы давно уже люди: пьете, любите, изменяете, закатываете сцены. Очеловечились. Едемте, я куплю билеты. Это свободная страна. Там вечное лето. Вы слышали про Америку?
– Ед-д-дем! – Пьеро был глубоко пьян. – Ед-д-дем! Увези эту женщину, она разбила мне жизнь со своим дер-р-ревянным гадом. Он глуп, он пошл! Он – пошл, он извергает пошлости, он полон пошлости, и я… тоже полон. Я стар, мой шелк истрепался, она любила меня, но вышла за него, все кончено, но я живу, я живу! Зачем? Едем вдвоем!
Карабас поднялся, глядя на них заслезившимися глазами.
– Куклы мои… Люди… Я увезу вас, обязательно. Вы не будете пить, мы заживем, я буду заботиться о вас, мы уедем.
– Но театр! – закричала Мальвина.
– Вот театр! Вы сами театр, потому что давно играете без декораций и суфлеров! – выкрикнул Карабас и обвел помещение лопатоподобной ладонью. Осекся.
В дверях стоял потрескавшийся во многих местах Буратино, наводя ему в грудь забрызганный грязью, но от этого не менее грозный мушкет с винной пробкой вместо пули.
Полтора такта
Первое исполнение «Сантинейи» Чакраты обставлялось по классу «люкс».
Проезд к Консерватории зловеще отливал мигающе-фиолетовым, лимузины в сопровождении джипов на полной скорости сворачивали во внутренний дворик, кто-то выскакивал и открывал двери плотным сибаритским фигурам, сразу скрывавшимся в высоких боковых дверях…
Горовица нельзя было видеть. Он так и не раскрыл тайну симфонии и не мог жить с ней. Но надо было играть, и потому гениальный старик, упившись уничижением, юродиво щурился на лампионы наедине с початой бутылкой «Кьянти». Играть он мог в любом состоянии, хмель выбегал из него сразу, как только он вставал за пульт.
Тремя этажами ниже встречали Леню Сойфертиса (рояль). Плотные коричневые кудряшки стряхнули дождик на пол, встали дыбом и скачками понеслись наверх.
– Леня-Леня, Горовиц велел…
– Ах, бросьте, мне надо с ним срочно поговорить!
– Леня, он просил…
– А я вам говорю, что мне надо, и это будет штука!
Сойфертис вбежал к патрону и схватил его за огромную, уже отчасти пигментную кисть.
– Слушайте, Горовиц, ну мы что, так и будем в середине мямлить? Что вы там надумали?
«Сантинейю», посмертное сочинение, открыли по завещанию Чакраты через месяц после его кончины, набрав личный пароль в присутствии тридцати свидетелей, выбранных наугад по специальной и тоже насмерть запароленной программе. Партии гобоя и валторны были написаны отдельно и позднее, туда вел отдельный путь, проставленный в начале файла. Владея только голосовым способом нотной записи, Чакрата, страшная восковая кукла с черными, так и не поседевшими за двадцать лет искалеченного существования волосами, писал только в компьютер. Середина симфонии представляла собой столкновение рояля Сойфертиса (Человеческая Младость-Суетность) и последовательно вступающих духовых (Приговор Небесной Судьбы), но содержала некий разбаланс, что вполне объяснимо состоянием гения, и все же, все же… Горовиц посмотрел на Леню и беззубо улыбнулся, посылая разыгрываться. Оставалось полчаса, и он больше не мог думать, спорить, бороться. Он совсем состарился и скоро уйдет обсуждать это с самим Чакратой. Туда.
– Горовиц, может, мы выкинем эту лабуду куда-нибудь к матери, пропустим ее? – в отчаянии вскричал Леня, но, предвидя ответ, скрылся в артистической, где имел дело к первой скрипке.
У духовиков уже все собрались, и когда нежно прозвенел внутренний, поднялись и одернули фраки. Ермаков (гобой), попавший в исполнение полуслучайно, думал о Йоки, с которой у него началось две недели назад и – шутка ли! – продолжалось до сих пор. Он шел на сцену мимо охраны, открывал им футляр, а сам в это время продолжал обнимать ее, склоняться к ней. «Сантинейя» сопровождала все их движения, потому что репетиции Горовиц собирал по три раза на дню, пытаясь раскрыть какую-то невнятицу. Он достал даже Йоки, игравшую на ксилофоне (Ветерок Далеких Предчувствий), поскольку без полного состава отказывался даже вставать за пульт. Они выходили из разных концов оркестра и вечером еще не виделись.
Рассевшись, поставили ноты на пюпитры, кларнеты негромко выдули «ля» и по одной трели, скрипичники бочком пропустили выскочившего Леню, взмахнувшего круглым венчиком кудряшек и севшего, как вышел Горовиц и раздались аплодисменты. Старик с видимым трудом сделал шаг вверх и уже ястребом, как в юности, вскинул из-под бровей бешеные красные глаза на весь состав. Поднял руки. Леня обмер и начал.
Его тема, дребезжащая, не без пародийности, разрывалась духовиками, и казалось, что сам Леня взбирается к облакам вприпрыжку и неизвестно что о них думая, а на страже его щенячьих радостей и обид выстраивается гряда свернутых молний и громов такого масштаба, что они были едва намечены. К шестой цифре он понял, что Чакрата никогда не писал ничего более великого.
Ермаков, ожидая девятой, где был его первый мордент, предварявший соло, смотрел на короткий ежик Йоки, едва видневшийся из-за литавр… Прошла восьмая с холодным дуновением валторн (Смерть), и перед заученными наизусть пятью тактами чья-то рука легла ему на плечо. Он не мог обернуться, рядом стояли пюпитры, но то ли Йоки приблизилась и встала рядом, истекая белым вареньем, то ли Чакрата бросил его губы к фистуле, но он вступил. На полтора такта раньше.
Вступил и озарился от догадки, что это правильно. Горовиц побледнел и качнулся на пульте, почувствовав то же самое. Правильно, так и должно быть. Величественная тема вплелась в общий хор. Нота гобоя властно встала поперек Смерти и отстранила ее, а еще через три такта скрипичники вступили в замысел таким пронзительным ликованием, что с заднего ряда приподнялся Сотоманчес, удерживаемый женой в вуалетке, а на галерке повскакали классы Шамахяна и Антанези. Горовиц метнул взгляд Ермакову, они достали друг друга до донышка душ и поняли, что надо продолжать. Палочка дирижера заметалась, обозначая такты до двенадцатой. Спустя полчаса все было кончено. «Сантинейя» была исполнена.
Овация сотрясала зал, несли букеты. Горовиц смотрел вверх и около гигантских медальонов Баха видел Чакрату в грозном сиянии Того, Что Не Смерть. Смерти больше не было. Он вытер глаза платком и повернулся лицом к газетным строкам, где неназванные источники уже делились его догадкой, поставившей ошибившуюся программу записи на место, устранившую сбой в гениальном сочинении одним наитием…
Горовиц сошел с пульта и направился к гобою, вывел его вперед и поклонился вместе с ним.
Леня хлопал, как мальчишка, забыв о табели, очередности. Он был выше мелочей, когда речь шла о Музыке.
Как и весь зал, он чувствовал, что Смерти больше нет.
Пять Клеточек
Их показал мне Вадик, уехавший в Израиль.
На «Добрынинской» ограничительная полоса из кафельных плиток, и в начале платформы остановку первого вагона когда-то решили обозначить пятью клеточками, отходящими вбок от основной прямой линии. Очень смешно. Вадик, как ярый антисоветчик, показывал мне их, конечно, чтобы показать, что СССР состоит из смешных и злых глупостей.
Я посмеялся и забыл о Пяти Клеточках.
Вадик уехал.
Одной из осеней нас с Ядвигой занесло на «Добрынинскую». Ну или рядом, но очень близко, так что я вспомнил. Отношения наши были, что называется, накануне. Уже держались за руки, уже прижимались друг к другу на улице. Мне вдруг захотелось сделать Пять Клеточек свидетелями этого начала, мало ли чем оно кончится. Я тогда даже в церковь зашел. Один раз.
Мы остановились недалеко от Клеточек (я подмигнул им через ее плечо), я обнял ее, потом слегка толкнул на Них и поцеловал.
Ее волосы пахли дождем, слегка бензиновой гарью, простым каким-то шампунем, контрольными по алгебре, ластиком, прокрашенным деревом, тюлевыми занавесками, духами «Москва», мертвыми голубями и железом.
Поезд не пришел. Или мы его не заметили.
Через семь лет, осенью, я пришел к Серпуховской заставе в несильном подпитии, когда прожитое кажется легко толкаемым возом, блещут еще чуть в стороне какие-то зори, и машешь на них рукой скорее приветливо, чем отчаянно. Нормально так машешь…
И вдруг что-то защемило, я вспомнил Ядвигу, ее запах, ее цвет, превратившийся в отекшие утра. Ее незнаемое, но ощущаемое горе перетекло в меня, в уголках губ задрожало, и я направился к Пяти Клеточкам.
Еще на платформе увидел, что они заняты. На них стоял парень, очень похожий на меня. Кожанка, кепка, узкие джинсы, красы. Он явно стоял не просто так. Я сел на скамейку и сделал вид, что жду поезда. Он все не шел и не шел. Парень, скуластый, жесткий, стоял на Пяти Клеточках, трогал их носком кроссовки. Потом обернулся:
– Они тоже твои?
– Да.
– Извини. Я…
– Ты извини.
– Тоже когда-то?
– Давно.
– Иди. Постоим вместе.
Мы стояли на Клеточках вдвоем и знали, что Они помнят.
В Коломенском
Зима сияла и скалилась, продувая сокрушенно качающийся сад навылет, крошевом секло по отмороженным щекам, но впереди слышалась разухабистая гармоника, танцевали враскачку какие-то фольклорные бабы в шалях, плыл парок из пластиковых стаканчиков, и вообще гулялось.
Всем, кроме двоих, взявшихся выяснять отношения.
– У тебя сегодня последний день, Саркисик. Последний день, когда ты можешь мне что-то доказать.
Вера шла взвинченной сильной походкой, топча сугробы, будто не разбирая дороги. Он впервые не знал, чем ей помочь.
Впереди на снегу чернел помост с гирями, каркали вороны на шатровом куполе Вознесения Господня.
Словно эшафот, подумалось Саркису.
– Подожди меня.
– Ой, не надо, я не буду ждать.
– Почему? Будет здорово!
Он подбежал к помосту, где собиралась толпа. Затейник выкликал желающих дернуть. Верзила, с виду бывший морпех, протиснулся к помосту, поплевал на руки.
– Шесть! Семь! Восемь! – заорали в толпе. Многие были пьяны и слегка толкались, чтобы лучше видеть.
Морпех жал быстро, через минуту он выдохся, опустил на грудь и терял силы, хватая ртом воздух. Через два раза он грохнул гирю на помост, потирая плечо. «Двадцать семь». На правой. Левой он едва докачал до двадцати и был тут же нахлобучен шапкой. Румяная девица застегивала ему куртку, отряхивала брючину. Саркис оглянулся на Веру. Она стояла с безразличным видом. Он скинул бушлат в снег и вышел.
– Раз! Два! Три!
Ток крови напрягся в нем, ускоряясь до бешеного предела. Шло хорошо, то ли от отчаяния, то ли от мороза.
– Двадцать один! Двадцать два!
Еще десять, хотя бы десять.
– Двадцать восемь! Двадцать девять!
Трудно. Очень. Едва…
Саркис вырвал над головой и посмотрел на Веру.
Она улыбалась разорванной улыбкой, готовая повернуться. Она уходила.
– Тридцать три! Тридцать четыре!
– Вот молодец парень, а ну поддержим! – заорал массовик, бледный комсец с залысинами.
Толпа заорала так, что рука довела до тридцати шести и сдалась. Все.
– Реко-о-орд!
Веру передернуло. Она начала хохотать, бросаясь на колени, взмахивая руками.
Он сменил руку.
– Раз!
Вера закричала через ряды, пробиваясь к нему, расталкивая спины с брезгливым выражением, будто не она, а ее толкали.
– Пять! Шесть!
– Слышишь? Я все равно не люблю тебя! Слышишь, ты?
Голос толпы стал смолкать.
– Я знаю, что это гадко! С тобой я чувствую себя гадиной! Я никогда тебе этого не прощу! Слышишь? Животное! Брось свою железяку! Немедленно!
Толпа перестала считать. Массовик побледнел и закричал: «Двадцать один! Двадцать два!» Его снова подхватили.
– Ты думаешь, так можно что-то вернуть? Да мне все равно, Саркисик, давно все равно!
Вера стала пятиться. Позади расступались. Она улыбалась и с улыбкой опрокинулась в снег на невидимом бугорке. Упала, поднялась и побежала прочь.
– Тридцать пять! Тридцать шесть!
Саркис сдался на тридцать седьмом, чуть не упав вперед. К нему шла румяная девица. Оказалось, она вручала призы. Взяв у нее что-то легкое, он стоял на помосте. Она понеслась к его бушлату, села на корточки. Он смотрел. Кинулась к нему. Одела и принялась застегивать. Он дрожал.
– Ничего… – шептала она. – Ничего, ну ее, не надо, вы же такой, такой…
Встреча в Кремле
Президент вбежал в Георгиевский зал мгновенно и, избегая рукопожатий, прошел во главу длинного, как столовский транспортер, полированного стола. С гобеленов надменно взирали святые князья с бородатой хитрецой в породистых щеках.
Олимпионики вздохнули и уставились на бледные президентские пальцы, постукивающие по отсвечивающей поверхности.
– А я ведь предупреждал, да, Света? – Президент с легким нажимом кивнул Холкиной. – Предупреждал.
Повисло молчание. Президент полуобернулся, помощник выложил на стол финальный лист.
– «Афины-2044…» – прочел Президент. – Смотрим: прыжки с мячом, шестьдесят седьмое место. После Габона.
Поднялся долговязый парень, оглаживающий карманы пиджака. Президент досадливо скользнул по нему неузнавающим взглядом и спросил вполоборота:
– У вас дело в чем? Честно.
Парень помялся, развел несуразно длинными кистями и забубнил:
– Ну, мы что, мы путем: замены, отборочные, Пал Викеньич задолжал за аренду, суточные не выдают, сортир заперт, воды и то не допросишься. Да всегда одно и то же: друг друга валим, а спать по четыре часа, визы в последний день, на чемоданах ночуем, ничего не ясно, ну, так и получается, как закладывали…
– Спасибо, – перебил Президент. Парень осекся и упал на стул. Вбежавшие слуги споро унесли его за неряшливо облитые золотом двери. – Дальше смотрим: конное плавание, двадцать второе место…
С места вскочила молодая доярочного вида активистка.
– Четкое выполнение всех нормативов, командная поступь, взаимовыручка! Обязательства перед пославшим нас народом, святых, можно сказать, рубежей отвага, неукоснительное соблюдение режима… спать, спать, суки, отбой уже! – завизжала она. – Какой те рупь, падла, какой рупь, валюууты?! – набрала она воздуха в богатырские груди. Продолжила после паузы, хриплым дискантом непохмелившегося снабженца. – Твари вы все, не щадите никого, вам по-русски объясняют, а вы лезете, кто объясниловку будет писать, Терпищев, Ямкушев вам будет? Засранцы, да, ни стыда ни совести, после одиннадцати марш по номерам, и чтоб ни души мне здесь! За связь с иностранками будете отвечать лично! Из-под забора ж тянули, попомните…
Охранники вбежали и уволокли ее за портьеру, послышались звучные шлепки, напоминающие обуздание только что пойманного дюжего сома.
Президент устало поморщился и улыбнулся:
– Ну, а метание-то, а? Как же?
Олимпионики сунулись вперед. Метаний было восемь видов – холодильника, паяльника, чайника и греческой вазы. Мужское и женское. Избранный народом наклонился к сборной:
– Плачу я вам мало, да? Честно.
Президент трагически скривил рот. Начиналось самое ужасное. Седоватый лев с пробритым затылком a la Yashin храбро одернул френч, надетый на застиранную олимпийку.
– Докладываю, – фанфарно возгласил он. – На протяжении подготовки к играм Госкомспорт создал тяжелейшие условия. Оргкомитет неоднократно писал жалобы на действия товарищей Зазнобяна, Трилькентраулера, Круппенбаева и Щеколдуна. Однако…
Вбежавшие на согнутых ногах сотрудники внутренней службы заклеили тренеру рот скотчем и, подбив артритные культи, сунули в мешок, отвратительно вонявший запекшейся венозной кровью. По паркету забухало и неритмично и глухо застучало. Президент оглянулся на молодцевато захлопнувшуюся дверь и неторопливо встал.
– Предупреждал же, Свет, да? – сказал он, медленно и жутко идя вдоль опущенных, безвкусно примодненных стрижек. – Предупреждал. Обещали. Ждал. Ведь совсем урою, а? – улыбнулся он широко и бесцветно. – Ур-р-рою. Каждого.
Он подошел к Холкиной и, как бы резвяся и играя, по-отечески сдавил ей шею. Гимнастка растянула рот, зрачки ее съехались к переносице и застыли.
– Башлял же вам, а вы? Формы – завались, французы шили, чего еще, а? Чего нет? Кто запрос составлял? – вскинулся глава страны. – Вот же, твари, во-о-от. Кеды выписали, на оптовом рынке брали, Костик ездил, на стрельбу весь фонд израсходовали, спецов послали, колибри глаз выбьют, прикрыли, замазали, а вы? Лапотки вы чиненые, полторасты вы штопаные, фитильки купленые! – кричал невысокий человек в прекрасно сшитом костюме. – О! Читаю: валенки… а, это не то… Вот! Сумки с символикой – сорок четыре штуки, проигрыватель отечественный – один, флаги – девять, гербовые значки – шестьсот тридцать восемь, так вас и не так, лицензионные, по договору! Безлимитное распространение, дистрибуция, раззалупь вашу занозу через турник и в бассейн! Болельщики – двести девяносто голов, проверенные кадры, члены семей, следование расконвоированное, на довольствии Управления делами. База – охрененнейшая! Вы охренели, что ли, совсем? На кого работаете, хорьки? Выдал кто? Ты? Сдал нас – кто? Ты – говори – ты? – ткнул он в заваливающуюся набок повариху. – Ты? – Вызывающе краснокостюмная «командный доктор» из гостиничной обслуги резво полезла под стол. – Статью повешу, сгною, на холерные прииски, в говняные рудники закатаю ж, эх! Себя не щадите – страну пожалейте! Предупреждал же, советовал, спрашивал, наставлял, помогал!!! – Президент взвыл, закачался на каблуках, махнул белым платком с монограммой и скрылся посреди изукрашенного зала в прозвучавшей, как пощечина, фосфорной вспышке.
Спортсмены глубоко вздохнули и затряслись, увидев палачей, вбегающих к ним из распахнутого золотого жерла, с веревками, крючьями, плетями, дыбами… и упали в обморок. Пол тут же провалился, Кремль сложился внутрь, и только табло в уцелевшем для экскурсий коридоре упрямо мигало: «Вперед, Россия!»
Красные соколы






