Дочь Роксоланы Хелваджи Эмине
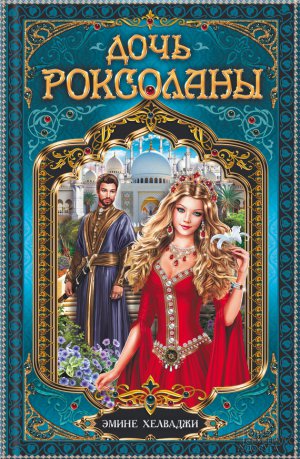
– Остров такой, если на карту смотреть. А если смотреть на самоцветные камни, тогда топаз.
– Ух ты! – воскликнула Михримах завороженно. – Топаз – под цвет глаз. Или у него не так?
– Так. В самом деле под цвет, – прошептала Орыся, чувствуя, как чаще забилось сердце.
2. По двое у двух бойниц
– Они не придут, – наконец-то Ежи произнес вслух то, что давно уже было ясно им обоим. – Что-то случилось.
Тарас ничего не ответил. В последнее время он вообще сам на себя стал не похож. Лежал ничком, размышлял о не сиюминутном, что, как раньше казалось, хорошо да правильно, но теперь уж слишком. Точно не об ужине ведь думает, не о коне, не о том, как сети в Днепр закидывал, при пане Байде казаковал или ходил в набег с атаманом Порохом, – а вот лучше бы об этом. Все лучше, чем черная тоска.
– Или ничего страшного? – Ежи сам не выдержал молчания. – Тут скорее впору удивляться, что они раньше к нам так часто добирались. Это, поди, нелегко…
– Не знаю… – без всякой охоты наконец ответил казак. – Может, просто раздумали они.
– С чего бы?
– А вот сам подумай. Скажем, помогут они нам бежать – не знаю уж как, но помогут. И сами, конечно, тоже с нами подадутся, не оставаться же им тут после этого. Но откуда им знать, что мы их потом, после побега, не продадим в рабство? Просто чтоб к себе не с пустыми руками добраться? Невольницы-то такие дорогого стоят…
– Что?!
– А вот то. Мы-то с тобой, понятное дело, скорее шкуру с себя позволим содрать, чем допустим такое. Но им про то откуда знать? Скажешь, не бывает иначе?
– Дурак буду, если такое скажу. – Шляхтич тяжело уронил голову.
– Во-от, – подтвердил казак. – Им-то неведомо, что мы оба за них головы положим, а если до дома доберемся, так не в рабыни, а в жены возьмем. Разве мы им об этом сказали? Так что не один ты дурень, я не умнее.
– А если скажем, думаешь, поверят? – Ежи смотрел не на товарища, а в вечернее небо за бойницей.
– Меня об этом спрашиваешь? Лучше свою спроси, безымянную. А я Михримах свою спрошу.
На сей раз промолчал уже Ежи. Задумался.
По всему выходило, что если он и был готов ломать свою прежнюю жизнь, то лишь наполовину, не до конца. Ну, полюбил юную турчанку, ну, важно это, конечно, ну, даже очень. Но ведь не любовь в жизни самое главное, так ведь?
А теперь, если рассудить, дело идет к тому, чтобы ту, прежнюю жизнь, забыть вовсе. И целиком посвятить себя жизни новой. В которой уже отвечать будешь не только за себя, защищать не только свою честь, но и жену свою, а потом и детей своих. Потому как сам ты, может, и прежний, вот только сердце уже не свободно. Отдано оно ясноглазой, младшей из близняшек, даже имени которой он до сих пор не знает…
Да что уж химерами себя тешить! Какой там побег – вот и Тарас об этом не всерьез, а для примера сказал. Их из неволи даже коронное войско не вызволит, не то что двое девчат.
И все равно… Что бы он только ни отдал, лишь бы не через решетку поговорить, а обнять по-настоящему, прижать к себе, приголубить, поцеловать. Ох!.. Все помыслы только о ней.
Что такое вообще бывает, Ежи понял с ослепительной ясностью лишь сейчас. Выходит, дважды он свободу потерял: один раз – угодивши в плен, а второй… Что до второго, так он ничуть не против.
Как тут говорят – кисмет. Потому что слова «провидение», а тем паче «рок» – не в ходу.
Значит, так тому и быть!
– …Вот и со мной тоже… – Ежи очнулся от голоса Тараса: тот, видать, без слов все понял. – Если вдруг выберемся, не жить мне без Михримах. Не смогу я уже по-старому, без нее. Хоть бранись последними словами, хоть в ладоши плещи, что случилось так. Правильно говорят: сердцу-то не прикажешь, оно само тебе прикажет. И уж никуда ты не денешься, будешь исполнять его волю. И знаешь что? А мне это по нраву! Отсеку старое одним ударом! Эх, Латинская Грамота, тебе и самому, поди, красивее не сказать! Как саблей по жилам. И начну по новой, с чистого листа.
– Вместе начнем, – кивнув, поддержал его Ежи. – Девы-близнецы уже у нас в сердце, у каждого своя, вот пусть так навсегда и останется! Верно?
Казак не ответил, молчал – но как-то иначе, чем в прошлые разы.
Шляхтич стремительно оглянулся.
«Девы-близнецы», замерев, смотрели на них из соседних бойниц. Каждая из своей.
– Вот слушали бы вас и слушали… – мечтательно произнесла одна из них.
Ежи кинулся не к ней, а ко второй, каким-то неведомым чутьем угадав, что это – младшая, его. Тарас, точно так же безошибочно определив, где старшая, рванулся к своей, к Михримах.
– Руку! Руку покажи! – жарким и быстрым шепотом сказала младшая, когда Ежи, змеей растянувшись в узком для него бойничном пространстве, первым делом сунулся было к ней лицом. И когда он, не понимая, но повинуясь, протянул ей руку, досадливо уточнила: – Да не эту! Левую!
Он снова повиновался. Девушка схватила его левую кисть своей узенькой, но твердой ладошкой, внимательно обследовала – и на ощупь, и навзрячь.
– Ну, что там? – Ежи, уже немного опомнившись, постарался пошутить. – Все пальцы на месте?
– Все, – с непонятным выражением ответила близняшка. И еще более загадочно продолжила: – Значит, не ты мне Хызр, а я тебе. Ну, не-Хызр, а теперь давай, хватайся-ка за шнур и тяни к себе. Я ведь тебе не Дэванэ, чтоб такую тяжесть по стене вверх таскать!
Шелковый шнур был тонкий, скользящий в руках, но прочный. Как раз чтобы выдержать вес небольшого, но и правда грузного мешка.
3. Сталь и камень
– А мы к вам – с загадками!
Эти слова произнесла старшая близняшка. Не сразу, понятно. Сперва были втянуты в каземат оба мешка, а потом еще многое говорено-переговорено. Очень многое.
Теперь вот можно и расслабиться, о загадках вспомнить.
– Это с какими ж еще? – Тарас, не в силах оторваться, жадно всматривался в бойницу.
Ежи, не в силах скрыть улыбку (благо, что Тарас сейчас ничего по сторонам не замечал), смотрел, как сразу просияло лицо товарища по несчастью, едва лишь тот снова услышал голос Михримах. «Интересно, – подумал он, – а мое лицо тоже загорается каждый раз, когда я слышу этот тонкий голосок моей, младшей?»
– Сами вы – две загадки, – засмеялся Ежи, помогая приладить сиденье-жердочку.
Тарас успел раньше, так что Михримах уже сидела на своих «качелях», а вот теперь и младшая перебралась. Ну точно пара синичек на ветке, которые ой как горазды пощебетать. Для чего-то имена выпытывают, обещают какие-то сказки, а что за сказки – непонятно…
– Сейчас все будет понятно, даже тебе, победитель змеюк, – уверенно сообщила младшая.
«Надо бы все же опять спросить ее имя, – мелькнуло в голове Ежи, – теперь, наверное, не откажется назвать…»
Надо – но позже. Не сейчас.
– Никакой я не победитель змеюк, – замотал головой Ежи. – Так уж вышло, что я в жизни ни одной змеи не убил, даже лягушки ни одной. Вот, может, комары да мошки мелкие считаются?
«Это если людей не считать», – добавил он про себя. Потому что людей-то убивать приходилось, как иначе. В бою. Это небось не считается. Ведь воинского же сословия род Ковынских, не пахотного…
– Тогда будешь победителем мошек, – фыркнула младшая. – Не спорь! Раз написано на роду побеждать, значит, придется.
– Договорились. – Ежи, уступая, поднял руки в шутливом жесте, но будто и правда отдавая себя на милость. – Если грянет какая-нибудь опасность на твоем пути, маленькая, то непременно зови меня – всех одолею!
– Я не маленькая, – свирепо прозвучало в ответ, но слышно было: предложение пришлось по нраву.
– А я нешто не победитель? – вмешался в беседу Тарас, на миг оторвавшийся от созерцания своей Михримах и тут же почти испуганно вновь прикипевший к ней взглядом: уж не исчезла ли? – Мне только дай в руки добрую саблю, так я всех гадов в округе порубаю, как человечьих, так и безногих!
Девочки, не сдержавшись, расхохотались в голос.
– Саблю тебе еще дай! Вот уж смутьян так смутьян! По-гречески правильнее всего выходит!
– И ничего не смутьян. – Тарас хоть и скорее только для виду, но все-таки обиделся. – Я ж сказал – только гадов рубать буду, значит, за дело, а не просто так. Где же тут смута? Разве ж она такая?
– Не сердись, – весело хихикнула Михримах и, откинувшись на своем сиденье назад, обменялась взглядом с сестрой. – Ну правда же, да? Прямой да упертый – как есть Тарасий!
– А что ж за загадки вы нам обещали? – спросил Ежи у младшей.
Та сразу подобралась на своей жердочке, пряча хитринку в глазах.
– Есть у нас для вас подарки, каждому по одному, да не просто так – со значением! Сейчас достану, и посмотрим, чему вы от нас научились. Если потянешься к своему, то его и получишь, а уж если на чужое глаз положишь, выходит, обманулся, и ни подарка тебе, ни доброго слова! Вот!
– Ух, сурово, – хмыкнул Тарас. – А ну-ка выкладывайте, что принесли. Уж Тарасий-то не ошибется!
Девушки переглянулись, и младшая просунула между прутьев решетки что-то продолговатое, плотно завернутое в тряпицу.
– Кому? – со значением спросила она.
Ежи не пошевелился. Казак мгновение помедлил – и протянул руку.
– Открывай, открывай! – зашептали сестры.
Тарас усмехнулся и развязал узелок. Затем снял обмотку – и чуть было не выронил подарок из рук.
Это был бебут, чуть изогнутый кинжал в костяных ножнах, длиной без малого в локоть. Клинок (казак, разумеется, первым делом обнажил его) – обоюдоострый, струйчатого булата. А рукоять, с серебряной оковкой и медового цвета прорезными накладками по бокам, будто бы горела изнутри своим собственным солнцем.
– Красота, – выдохнул казак, рассматривая оружие, так и этак примеряя прямым и обратным хватом, перебрасывая из руки в руку. – Сила!
– Вот, это тоже тебе. – Михримах подтолкнула ему по полу другой сверток, гораздо меньший. Но Тарас сейчас не обратил на него внимания.
Близняшки снова переглянулись.
– «Дать мужчине клинок…» – начала старшая, судя по тону, цитируя какое-то известное изречение.
– «…Все равно что дать женщине зеркало», – продолжила младшая.
– Почему? – полюбопытствовал Ежи, сам едва удерживаясь от того, чтобы не скосить глаза на бебут.
– Они ни на что больше не смотрят, – объяснила младшая, – даже на дарителя.
– Ну, вот я же смотрю на тебя…
– Так я тебе пока ничего не дарила. А сейчас подарю. На вот, держи.
Девушка протянула ему два свертка разом. В одном, Ежи это сразу понял, тоже был кинжал, чуть меньший размером и иной формы. Чудовищным усилием воли шляхтич заставил себя не разворачивать его сразу (иначе, несомненно, сбылась бы процитированная сестрами поговорка) – и первым делом потянулся к другой тряпице.
Там действительно было не оружие, а украшение: голубоватый топаз в оправе столь изящной, что в мужских руках она смотрелась совсем хрупкой. Ежи взял его бережно, как только что вылупившегося птенца, пропустил сквозь пальцы струящийся золотым блеском металлический шелк цепочки, огладил полупрозрачные грани камня.
– Да уж, девчушки, царские подарки вы нам сегодня сделали, – сказал он неожиданно охрипшим голосом и, посмотрев на Тараса, спросил: – Ну как, разгадали мы вашу загадку?
Сестры зачарованно кивнули, не сводя с них глаз.
4. У подножия Смерти
Вокруг все грохотало и пело. Даже через стены дворца это было слышно, хотя, впрочем, изнутри тоже доносилось.
Взмывали в сумеречное небо огни. И выше них, выше неба многоголосо взвивался ликующий крик.
Дворец Пушечных Врат не следует городской моде: он сам себе город. И законодатель мод, в том числе и на праздники.
Это ведь в честь одной из обитательниц дворца праздник. Орысина бабушка (или надо сказать – валиде Айше Хафса, мать султана, величайшая из женщин вселенной?) тогда жила не здесь, а в Манисе, под сенью прадедушкиного (или как сказать?) дворца. Давно-предавно, двадцать лет назад. Она тяжко захворала, а потом выздоровела – и вот это ее излечение теперь празднуют!
Так празднуют, что ночь превращается в день. А потом всю середину зимы (срок в девять месяцев лишь приблизителен) приходят в мир «дети сладости». Или «дети конфет и фейерверка» – тут уж кто как говорит.
Взвешен сейчас день, взвешена ночь, и сочтены они равными, как еще раз будет только осенью, на обратном круге годового обода. Время праздновать. Время ликовать по поводу чудесного исцеления валиде Айше.
И плывет над городом и над дворцом запах селитряного пламени, переслоенный ароматами имбиря, аниса, кардамона, кориандра, цикламена, корицы, гвоздики, перца всех сортов, лимонной цедры – и еще многого, из чего состоит маджуну.
К счастью, здесь, окрест Башни Лучников, как бы дальний пригород дворца, его захолустье, бедный, полузаброшенный район. Особенно по наступлении сумерек. Нет здесь празднующих.
И вообще никого нет, кроме тоненькой фигурки, склонившейся у подножия башни, темной, как смерть.
Девушка, паренек ли, поди разгляди сквозь полумрак. И чем она, фигурка эта, занята, тоже не разберешь.
А рядом с ней – еще одна тень. Четвероногая, беззвучная, а когда хочет – почти невидимая. Неуследимая в атаке. Из тех, чьи родичи, даже меньшие, ходят по всем мирам, с мурлыканьем трутся о ноги владык Жизни и Смерти и ни перед кем не держат отчета.
Странно, разумеется, особенно при взгляде со стороны: в такой вечер праздновать надо, а не шастать по безлюдным задворкам дворца, да еще в сопровождении хищного зверя. Но вот как раз потому, что вокруг бушует праздник, и некому на это глядеть со стороны.
…Тот, кто не желает своей дочери зла, снова пришел к ней прошлой ночью – и повел за собой. Брел сквозь мрак, не оглядываясь, уверенный, что девушка следует за ним. Что-то хотел подсказать – очень важное и срочное. Но заговорить не мог. Не всегда, как видно, ему это дано.
И лицо его было скрыто.
Должно быть, так положено в султанате Смерти. Трудно живым судить о его законах и обычаях, даже если улемы-веротолкователи говорят о них с полной уверенностью. Словно вот прямо сейчас явились они оттуда, где возлежали под пологом алмазных шатров на подушках из яхонта в объятиях прекрасных гурий – чернооких, большеглазых, подобных жемчугу хранимому, пили дозволенное там непьянящее вино и вкушали приготовленные там же, в небесных садах, сладости, о которых известно лишь, что они подобны маджуну, но на вкус во сто крат слаще. Или, наоборот, только что испытали на своей плоти, как жжет огонь Геенны из стручков дерева Заккум.
А вернее всего, надо думать, такое описание этого султаната: «…Там уготовано то, что не видел еще ни один глаз, и не слышало ни одно ухо, и не чуяло ни одно сердце, и не сможет описать ни один язык».
И лишь Аллаху ведомо, кто сейчас, покамест еще не проревел рог Последнего Суда, правит в султанате Смерти: сам султан, валиде-султан или хасеки-султан.
Под чадрой или воинским забралом скрыто лицо Смерти – кому ведомо? И даже если под забралом, поди угадай, мужской или женский это лик…
Лишь Аллах знает о том. Ну и еще те, кто не просто глянул Смерти в глаза, но и удостоился ответного взгляда. Однако они уже никому и ничего не расскажут.
Один поэт, живший в давнее время, утверждал, что Азраил – сильнейший из мужей, приходящий за лучшими воинами и одолевающий их с легкостью. Ему, этому поэту, виднее: он ведь уже несколько веков как удостоился взгляда Смерти. Но иные, не менее достойные, считают, что Азраил может представать и в женском облике. Однако стоит ли задаваться таким вопросом? Будь Азраил хоть султан, хоть хасеки – он в любом случае Смерть.
Так можно сказать – и сказать ошибочно. Ведь если Азраил мужского пола, долг воина – сопротивляться ему до конца, а если женского, то воин ему (ей!) может и уступить в конечном счете.
Помни главное: он или она совсем не таковы, как описывают в священных книгах и как рассказывают очевидцы.
Смерть порой ведет себя даже слишком по-мужски: всегда нападает и никогда не обороняется, даже в случае мастерского сопротивления противника. Против таких умело сопротивляющихся бойцов Азраил выступает с особой злобой, причем порой он неколебимо храбр, а порой празднует труса. Помни и это, оно тоже главное: Смерть может потерпеть поражение, случается ей (или ему) отступить.
Неправы те, кто утверждает, что Азраил побеждает всегда! Часто он (или она) обессилевает в схватках и уходит с поля брани, признав свое поражение.
А вот Жизни свойственно совсем иное. Жизнь может быть ранена, но никогда не сдается врагу, даже на грани Смерти.
В этом их разница. И так будет всегда.
IX. Пардовый крап
1. Искусство быть мостом
Шекер-байрам всегда праздновался в Истанбуле ярко и с размахом. На «праздник сахара», знаменующий окончание Рамадана, часто съезжались купцы из всей Блистательной Порты. И пусть говорят в народе, что «бедава сирке балдан татлыдыр» (бесплатный уксус слаще меда), но вовсе не от уксуса ломились прилавки Истанбула, совсем не от уксуса! Повара-кандалачи, те, что готовят сладости, расстарались на славу. Рахат-лукум, халва, пахлава, печенье шекерпаре, пончики с медом – все это изобильно изливалось на жителей Истанбула и гостей, спешащих полакомиться бесплатно: то тут, то там гостеприимные хозяева раздавали сласти прохожим.
Только в Шекер-байрам к тебе может обратиться незнакомец, хмельной не от запретного вина или дозволенного гашиша, а от праздника, и попросить простить ему обиды. И ты простишь, еще и сам о прощении попросишь. А затем вы оба угоститесь лукумом, разновидностей которого столько, сколько в прежние благодатные времена было наложниц в султанском гареме, а то и больше, и пойдете себе дальше со спокойным сердцем, не задумываясь, что нынче гарем не гарем, с наложницами творится ифрит знает что, да и прочие обитатели гарема ведут себя так, что у джиннов шерсть в семь кос заплетается.
Вот поэтому в галдящей праздничной толпе никто, разумеется, не обращал внимания на двух молоденьких евнухов, с любопытством осматривавшихся по сторонам.
– Совсем не как в гареме, – сдавленным от изумления и восхищения, смешанного с щепоткой ужаса, голосом сказал наконец один из мальчишек.
Другой кивнул, разглядывая неистово празднующих жителей Истанбула расширенными от тех же самых чувств глазами.
Действительно, в султанском гареме все совсем не так. Да, его обитательницы ждут праздников, ибо чем же еще, как не праздниками, порадовать душу, забыв о монотонных днях, в которых из развлечений – работа да по четвергам баня? Но мужчин на этих праздниках немного, если не сказать, что совсем нет, – султан, его сыновья да евнухи. И то в последнее время Сулейман и старшие шахзаде предпочитают женскому обществу охоту и дружеские посиделки в кругу особо преданных приближенных.
В гареме приготовления к празднику и короткий яркий миг выступления составляли счастье многих наложниц. Те, кто побогаче, шили себе новые наряды, остальные просто разучивали музыку и танцы, стараясь привлечь к себе внимание если не султана, то его сыновей, пусть даже старший из них покамест лишь подросток. А там, даст Аллах, будет новый праздник и новый шанс…
Гарем никогда не знал неистовства, свойственного народным гуляньям. Не видел зазывал, заманивающих случайных зевак на увеселения и предлагающих невиданные и неслыханные яства. Не слышал, как зычно хохочет янычар, пьяный то ли от веселья, то ли и вправду от запретного вина, которое в Истанбуле тоже продавали – из-под полы, чтоб не заметили бдительные стражи порядка. Но продавали, да. И опий тоже можно было достать, случись у кого желание. Все можно достать, только вынимай кошелек и плати! Таков Истанбул, и вряд ли даже Аллах может изменить его облик.
– Послушай, Михри… Мальва, мы и правда собираемся сделать то, что собираемся? – наконец пробормотал один из евнухов.
Второй хмыкнул и, стараясь, чтобы его голос звучал твердо, ответил:
– Разумеется, собираемся! Когда еще выпадет такая возможность, Одуванчик?
Тот, кого назвали Одуванчиком, лишь покачал головой. Точнее, следовало бы сказать «покачала», но Орыся и Михримах еще в самом начале своей отчаянной эскапады условились называть друг друга только так, как называли своих учеников евнухи.
Уже был случай, когда во время вылазки на рынок они себе совсем особые имена придумали, и та затея сестер чуть не завершилась горестно. А тут даже не рынок. Так что хватит, излишняя ложь не на пользу. Они сейчас представляют собой тех, кем действительно являются, – обитателей дворца, насельников гарема.
Кто скажет, что это неправда?
Поначалу их это развлекало. Ведь так здорово переодеться в самолично сшитые одежды – точную копию одеяний евнухов-учеников – и удрать с гаремного праздника, сославшись на головную боль, чтобы погрузиться в праздник настоящий, невыдуманный, разудалый и немножечко безумный!
Но постепенно пришел страх.
Все-таки ни Михримах, ни Орыся никогда так не углублялись в чрево Истанбула. Тут даже вылазка в Капалы Чарши кажется лодочной прогулкой по сравнению с галерным рейдом.
– Эй, зеваки! Эй, ротозеи! Эй, почтеннейшая публика и вы, беспутные гуляки!
Очередной зазывала, казалось, вынырнул из пустоты подобно шайтану и завопил прямо в уши «евнухов». Те испуганно шарахнулись, как и еще пара-другая горожан, но зазывалу это нисколечко не смутило.
– Эге-гей, ну-ка, все слушайте меня, да не вздумайте говорить, будто не слышали! – продолжал он кричать. – Прямо на соседней площади знаменитейший из знаменитых, великий Кер Хасан, чей язык подобен жалу змеи, чьи шутки острее смеси красного и черного перца и жгут сердца подобно адскому огню, дает представление! Театр теней ждет вас, да только глядите – вдруг не дождется? Это же сам Кер Хасан, чья матушка хохотала всю беременность, потому что ребенок щекотал ее утробу! Ну-ка, кому охота послушать историю цыгана Карагеза и его приятеля Хадживата, который оставил на распутника из распутников свою прекрасную жену, взяв с того слово стеречь ее честь? Кер Хасан так расскажет эту историю, что вы уползете с площади, держась за животы, потому что ходить не сможете, ведь хохотать будете до упаду!
Михримах и Орыся переглянулись. Они видели театр теней: султан Сулейман, желая развеселить супругу свою, Хюррем-хасеки, как-то раз повелел дать представление на одной из площадей Топкапы, там, где можно было выглядывать из зарешеченных окошек галереи второго этажа. Но речь в том представлении шла о великом султане, завоевавшем Египет. Никакого цыгана Карагеза не было и в помине.
Горожане тем временем валом повалили на площадь, в сторону которой указывал толстый палец зазывалы. Орыся заметила, что многие ведут с собой женщин, и шепнула сестре:
– Мальва, гляди! Может, ничего постыдного и нет в этом Карагезе?
Михримах с сомнением пожала плечами, но пошла за сестрой.
Они успели вовремя: возле сцены как раз оставалась пара неплохих мест, откуда открывался прекрасный вид на происходящее.
Сам театр теней был похож на тот, который Орыся видела, сидя рядом с матерью: большой кусок ткани, натянутый на шестифутовую раму. За ней горели масляные лампы, отбрасывающие на раму яркий свет. Во время представления именно там, между рамой и лампами, должны были появляться фигуры героев.
И представление началось.
Сперва появилась кукла, представившаяся Хадживатом, строителем мечети. Выглядел этот Хадживат словно какой-то обедневший бей, да и говорил похоже: под звуки флейты и мерные удары тамбурина декламировал газели о судьбе и предназначении мужчины: любить, воевать, вздыхать под луной о возлюбленной и умереть во славу родины. Все это шло вперемешку и звучало, по мнению Орыси, достаточно глупо. Михримах тоже морщилась временами. Привыкшие при дворе султана к лучшим образчикам изысканной поэзии, девочки находили декламацию Хадживата неуклюжей, плоской и лишенной всяческого смысла.
Как выяснилось, дурным поэтом и паршивым рассказчиком считали Хадживата не только Михримах с Орысей, но и новый персонаж театра теней, тот самый Карагез, о котором говорил зазывала. Выглядел Карагез, надо признать, презабавно: тощий, с огромной головой, на которой красовался величественный тюрбан. Время от времени тюрбан, к восторгу зрителей, сваливался с неистово машущего руками Карагеза, и тогда взору зевак открывалась внушительных размеров лысина. А еще у него был… хм… Нет, Орыся видела мужское достоинство в любом состоянии, когда читала трактаты, посвященные искусству любви. Но там оно было все же не таких огромных размеров.
Рядом охнула и покраснела Михримах.
Карагез с ходу вступил с Хадживатом в горячую перепалку. И в выражениях черноглазый цыган, обладатель величественного тюрбана и не менее величественного… хм… кое-чего другого, не стеснялся. Орыся почувствовала, как кровь жарко приливает к щекам. Но вместе с тем ее разбирал смех, уж больно хлесткими были реплики Карагеза!
– Знаешь… – все же выговорила она сквозь подступающий хохот, – нам нужно уйти отсюда. Я была… был неправ. Мальва… такое представление не для нас… ох!
Очередная меткая острота Карагеза заставила Орысю от души рассмеяться. У Михримах уже выступили слезы на глазах – так сильно она хохотала. Отсмеявшись, сестры переглянулись.
– Нет, – покачала головой Михримах, – нет, мы не уйдем. Я хочу досмотреть, чем же закончится дело. И оглянись, здесь полно женщин! Если им можно, значит, мы тоже вправе досмотреть спектакль.
Женщин и впрямь хватало, они все неистово смеялись и громко хлопали в ладоши, услышав очередную соленую шуточку Карагеза. Орыся начала понимать, почему Аллах устами Пророка – мир ему! – запрещает театр. Воистину, такое действо способно развратить даже лучшие натуры! И ведь не оторвешься от представления – слишком захватывает.
Тем временем Хадживат поручил Карагезу охранять невинность своей супруги, пока сам Хадживат должен был исполнить поручение муллы в Персии. Лично Орыся не согласилась бы доверить этому хитрому черноглазому цыгану даже дешевенькое медное колечко, но Хадживат, похоже, умом не отличался. Карагез, разумеется, согласился, объяснив это тем, что должен кормить собственную жену и детей, и долго совещался со зрителями о том, как бы ему выполнить данное обещание, ведь супруга Хадживата – женщина в самом расцвете сил и лет, удержаться и не соблазнить ее так сложно! Зрители, видимо уже знакомые с дальнейшим ходом пьесы, надавали Карагезу кучу скабрезных советов, причем в многоголосом хоре участвовали даже женщины!
Орыся прикусила губу и покачала головой. Действительно, Аллах сейчас должен рыдать над несовершенством мира. Да, Рамадан уже завершился, но это же не повод пускаться во все тяжкие!
Затем девочка тяжко вздохнула, вспомнив, что и сама не слишком-то хороша: переоделась в чужую одежду, открыла лицо перед сотнями, если не тысячами чужих мужчин, и это не в первый раз! Да еще и сестру подбила поглядеть на беспутное представление…
Которое, между прочим, шло своим чередом. Карагез, вопреки своей натуре и всем своим желаниям, честно старался сдержать слово и не посягнуть на честь жены Хадживата, но это оказалось ужасно нелегко, ведь женщина сама льнула к черноглазому цыгану. Как и муж, она была не слишком образована, но наизусть читала Карагезу любовные газели. Когда она прижималась к мужчине всем телом, его мужское достоинство решительно восставало против головы и требовало отпустить его на свободу.
В конце концов Карагезу пришлось спасаться бегством и притвориться мостом через реку. В этом месте у Орыси и Михримах от смеха выступили слезы на глазах.
Мост получился необычным, поскольку мужское достоинство вовсе не желало прекращать бунт против своего владельца, и проходящие по мосту дервиш и еврей вовсю гадали, отчего же какой-то глупый человек решил водрузить на переправе шест. Практичные женщины, появившиеся чуть позже, быстро прицепили к этому шесту несколько веревок и принялись развешивать белье. Карагез стонал, корчил уморительные рожи, но терпел – страх нарушить слово оказался сильнее боли. Затем караванщики привязали к достоинству Карагеза мулов, и одно из животных вздумало лягаться – тут уж цыгану пришлось вскочить и отлупить глупую скотину тем самым местом, к которому ее привязали…
Увидев Карагеза, возликовала жена Хадживата, но ей пришлось вступить в жаркую перепалку с распутной дочерью дервиша, тоже положившей глаз на мужчину. Пока женщины спорили, Карагез вскочил на мула и был таков. Но далеко уехать мешало данное Хадживату слово, ведь удерживать его супругу от любовных похождений вменялось Карагезу в обязанность…
2. Запретное деяние
– Клянусь Пророком, – выдохнула Михримах, очередной раз вытирая слезы, – выдумать такое… такую глупость способен далеко не каждый!
– Да уж, – кивнула Орыся. – Этот Кер Хасан – большой затейник, и, хотя его наверняка ожидает адское пламя, как же смешно все, о чем он рассказывает!
Увы, узнать, чем же закончились похождения Карагеза, Хадживата и похотливой жены, девочкам не удалось. Стоявший неподалеку от них мужчина перевел мутные глаза с театральной рамы на Михримах и решительно направился к ней. Подойдя, он наклонился и смачно поцеловал девочку в губы, а затем пьяно захохотал:
– Какая же красота, с ума сойти!
«Ты уже сошел», – неприязненно подумала Орыся, в то время как Михримах, вскрикнув, отшатнулась. От мужчины пахло чем-то странным, от этого запаха слегка кружилась голова. Зрачки этого человека были неестественно расширены, а тюрбан еле держался на голове.
– Бежим! – Михримах схватила сестру за руку и бросилась прочь. Позади некоторое время раздавался топот и неестественный смех, будто смеялся не человек, а какой-то гомункулус, о котором любили писать в гяурских книжках по алхимии. Словно бы в страшном сне мелькали лица, одежды, один лоток со сладостями сменялся другим… Наконец преследователь отстал.
– Мы больше никогда, никогда не станем ходить на праздники в город, – решительно сказала Михримах, когда девочки рискнули остановиться и отдышаться. Орыся молча кивнула.
Обе знали: они вряд ли сдержат это обещание.
– Как думаешь, что ему все-таки было нужно? – спросила старшая сестра, когда густой мрак впереди, все-таки озаряемый искрами факелов, еще более сгустился: на них надвигалась стена дворца Топкапы, а там факелы горели лишь поверху.
– Сама подумай, – ответила Орыся.
– Да я всю дорогу об этом только и думаю. Как, ну как он распознал во мне девушку?
– Ничего он не распознавал. Нужны мы кому-то как девушки, тощие недомерки…
– Да, я тоже каждый раз, глядя в зеркало, переживаю, – вздохнула Михримах. – Но у нас ведь еще есть пара лет, может, и округлимся к тому времени, как нас замуж выдадут. А пока действительно, для удовольствия таких не целуют.
Младшая сестра промолчала. Что-то царапнуло ее в этой речи, хотя старшая наверняка ничего такого не собиралась делать. Что же именно? Может, разговор о грядущем замужестве? Но ведь как иначе, не до седых же волос сидеть в гареме, как те несостоявшиеся наложницы, которые все ожидают и ожидают…
– А вот он для удовольствия, – неохотно сказала она, – как раз потому, что не распознал. Думал, что мы мальчики.
– Скажешь тоже! Почему же тогда…
– Потому. Дурой-то не будь, ладно?
Михримах даже остановилась.
– Но ведь это харам! – воскликнула она громовым, насколько это могло получиться при ее возрасте и поле, голосом. – За такое же камнями побивают, а потом сразу отправляешься в преисподнюю! Ведь сказано же: «Кто поцеловал мальчика с вожделением, тот подобен совершившему прелюбодеяние со своей матерью семьдесят раз».
– Ну да, харам, запретное деяние. Вот отыщи четырех совершеннолетних, полноправных и благочестивых мужчин, готовых засвидетельствовать, что все видели воочию – да не поцелуй, а именно все! – ну и будет тогда побитие камнями. А не найдешь таких, значит, этот… гомункулус понесет наказание от Аллаха. Который, конечно, все видит и неуклонно карает, но, в великой милости своей, потом, позже. И не всегда кара его понятна смертному.
– Грамотная какая… – надулась Михримах.
– Обе мы грамотные. Рядом сидели на уроках законоведения.
– Да уж, рядом… – Старшая сестра потупила взор.
На самом деле как-то частенько случалось, что во время особенно нудных уроков «госпожой Михримах» была Орыся. И слушала, и записи вела, и потом по ним отвечала. А до глаз закутанной в чадру служанке, которая сидит пусть не буквально рядом, но сразу за спиной своей госпожи, урок запоминать ни к чему. Ей и так благодарной быть следует, что дозволяют присутствовать в зале, где звучат слова мудрости.
Девочки вдруг встали как вкопанные: по темной улице впереди них кто-то шел, в ту же сторону, что и они. Угрозы от него не ощущалось – похоже, просто обычный горожанин, до дыр прогулявший содержимое своего кошелька и до горла набивший утробу праздничными лакомствами. Но пусть пройдет своей дорогой.
– Как вообще в таком деле четырех свидетелей найти можно? – задумчиво произнесла Михримах.
– Наверное, один из них кроватью притворяется, другой – подсвечником, – зачастила Орыся, обрадованная, что они с сестрой в очередной раз не поссорились (а то в последнее время у них что-то частенько начали случаться… может, и не размолвки, но на грани того), – а двое оставшихся, взявшись над головой за руки, дверные косяки вместе с притолокой изображают.
Девочки прыснули. Они не сказали друг другу ни слова, но обеим сразу вспомнилось, как Карагез пытался замаскироваться под мост.
– И вообще, о подобных грехах лучше не знать лишнего, честно, – примирительным тоном продолжила младшая сестра. – А то у нас во дворце по этому делу стольких камнями забить нужно, что на всех площадях мостовые придется разобрать.
– Точно знаешь? – В глазах Михримах загорелись насмешливые огоньки.
– Совсем не знаю! – Орыся постучала себя пальцем по лбу. – Как и не знаю, что мы с тобой, соблюдайся такие законы, точно на свет не родились бы. Потому что даже дедушка наш, Селим Жуткий, он, видишь ли, не только бабушку нашу любил и не только прочих наложниц. А уж прапрапрапрадедушка Баязид Йылдырым, Молниеносный, тот вообще, знаешь, как кукла Кер Хасана: все, что шевелится… Притом ведь столп веры был. И светоч закона.
– Эй… Ты такого не говори. Такого нам на уроках истории не рассказывали, это-то я бы мимо ушей не пропустила.
– Так и не говорю ведь! И, уж конечно, на уроках точно не рассказывали.
Говоря о дедушках и прадедушках, Орыся вдруг словно наяву увидела след кровавой ладони на изразцах колонны… услышала испуганное перешептывание евнухов, воинственный рык Пардино… Но все это существовало как бы отдельно от того, что она сейчас рассказывала сестре. Они – дочери султана. Да, есть у султана дочь по имени Михримах, пускай и в двух лицах.
– …То есть спокойнее думать, что сегодня тот сумасшедший просто ошибся, – по-прежнему примирительно заключила младшая. – Бывает. Даже Азраила ведь, случалось, узнать не умели!
– Ой, да!
Тут шаги впереди наконец стихли и девочки снова двинулись к дворцу. Вот она, Грозная башня: пара факелов наверху, возле угловых зубцов, а подножие тонет во мраке.
3. Как не узнать Азраила
Эту рукопись, сильно траченную временем, без начала и конца, девочки тоже в хранилище запретных книг нашли. Язык – арабский, но они-то на языке Пророка читали свободно, особенно в записи насх: над каллиграфически-изысканным сулюсом пришлось бы попотеть.
«…Однако Азраил – боец все же упрямый. Нескончаемо терпение его, абсолютна убежденность в своем конечном выигрыше, хотя порой и кажется противостоящим ему, что вот-вот последняя из Азраиловых шашек будет убрана с тавлейной доски. Воистину: за Смертью всегда есть право на ответный удар. Долго может быть Азраил в проигрыше, но пусть его противники, преисполнившись уверенности в себе, не впадают в грех беспечности, а паче того – не стремятся ввести его в обман. Ибо два облика у Азраила: премудрый хитрец, готовый отступить, чтобы потом вернее достичь своего, и могучий воин, исполин в черных доспехах. В каждом из них он полон решимости. В каждую минуту готов ее проявить. Какой же из этих обликов мужской, а какой женский?
Оставим уверенность древних, будто женщине мудрость не свойственна ровно в той же мере, что и сила. Во многом были уверены мудрецы, поэты и воители, жившие в глубокую старину; но всех их осилил Азраил, всех перехитрила Смерть.
Однако каждый, глядевший Азраилу в лицо, знает: не в разящих ударах сила Смерти, они-то как раз не всегда удачны. В ином ее (или его) сила, ибо тебя Азраил разит – а ты не можешь сразить его (или ее). Есть у Азраила ужаснейшее свойство – противостоять любым ударам, заживлять любые раны и снова возвращаться в любое сражение. Рано или поздно смертному не устоять.
Для смертных действовать в одиночку – слабость. Но Смерть ни с кем не вступает в союз. И в том сила ее (или его).
Сколько достойных стало ее жертвами: людей, не ждавших Смерти, беспечных и счастливых! Скольких унес он во сне, на ложе любви, на одре болезни! Азраил не слушает жалоб, не дает пощады, спрятан его аркан далеко в тороках, а вот клинок всегда обнажен. Никогда не услышит Смерть вас и ваши мольбы. Для нее не значимы ваши надежды и упования. Она забирает грудного ребенка у матери, исторгает из чрева беременной плод, уносит в ночь после свадьбы жениха или невесту. Или уносит отца и мать, превращая детей их в обездоленных сирот…
Не думай поэтому, что можешь обмануть Азраила, притвориться его слугой, ее рабом, его супругой, ее мужем, его сыном, ее дочерью. Всегда ты останешься для Смерти только заложником, куклой, подчиненной всецело. Куклу же, когда представление оканчивается, кладут в сундук, и не отбрасывает она там собственной тени; а когда она изнашивается – выбрасывают и берут другую.
Смерть – не герой из воинских преданий и не обязана соблюдать кодекс, подобающий такому герою. У мудрецов свой кодекс, определяемый весом полученных знаний, а не прочностью доспехов; но и ему Азраил не следует. Лжив он, изменчив, способен принять любой облик! Приходит в виде всадника в пресветлых латах на белом коне, готового сразиться с врагом лицом к лицу, могучей рукой заносит огромную саблю – и вдруг наносит тебе удар в спину коротким кинжалом. Приходит в виде пехотинца, отважно выставляет перед собой длинное копье – и, обернувшись юркой змеей, кусает тебя в пяту…
Упомянули мы ранее, что Смерть может проигрывать в битве и покидать поле сражения, но не испытывает Азраил стыда от неудачи и не чувствует сожаления, так как известно ему, что в его руках тавлейная доска, потому количество снятых шашек в счет не идет. Поэтому, даже потерпев поражение, Смерть все так же сильна и остается вблизи места прежней схватки, превратившись из воина в змею.
Те, кто не любят пол, носивший их девять месяцев в утробе своей, родивший на свет и выкормивший влагой сосцов своих, могут сказать: вот, только что Азраил поступал, как мужчина, а теперь поступает, как женщина. На это скажем, что, даже когда Смерть воплотилась в змею, противостоять ей надо так, как будто это все еще вражеский воин. Ядовитая змея – заклятый враг, и поскольку она враг, то, следовательно, имеет право быть уподоблена мужчине.






