Дочь Роксоланы Хелваджи Эмине
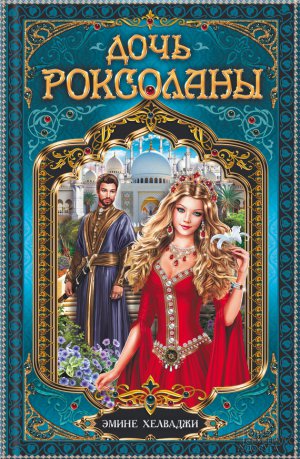
Действительно очень красивые серьги, жалко с такими расставаться. Но слезы евнухов нужно было осушить немедленно.
Что и удалось. При виде подарков Шафран и Маленький Тюльпан расцвели так, как настоящим цветкам даже не снилось. Пали на колени, облобызали ковер у ног Михримах (на ее служанку, чье лицо было скрыто чадрой, они внимания не обратили вовсе – ну и хвала Аллаху) и, счастливые, убежали наконец к себе.
3. Пятно на стене
А утром, болтаясь с Михримах по гарему и не смея выйти за его пределы (хватит, нагулялись уже!), Орыся услышала странный разговор и дернула сестру за рукав, чтобы та остановилась. Михримах подчинилась охотно: евнухи всегда слыли признанными собирателями сплетен, и если кто-то хотел узнать о последних происшествиях во Дворце Пушечных Врат, то спросить следовало именно стражей гарема.
Как звали евнуха, оживленно рассказывающего товарищам последние, с пылу с жару новости, Орыся не помнила. То ли Гюльбарге, то ли еще как-то; имя, связанное с розой. Наверное, прозвище осталось еще с тех времен, когда он числился «цветком». На розу этот смуглый полный парень со слегка оттопыренными ушами был, конечно, похож так же, как ишак на почтенного имама, ну да не в имени дело, а в том, что за сплетню Гюльбарге принес в гарем.
– …Он плохо умирал, – вещал евнух, размахивая большими, как две лопаты, руками, – очень плохо. Четыре палача, впущенные немой служанкой, не могли с ним справиться, и задушить Ибрагима-пашу им не удалось. Тогда они пустили в ход ножи. Долго возились, крики были слышны по всему дворцу. Жуткая смерть. Нет, ну все знали, конечно, что султан – да хранит его Аллах! – долго не потерпит выходок главного визиря, но вот так…
«Странное место – гарем», – подумала Орыся, чуть ли не впервые радуясь, что ее лицо закрыто чадрой и не приходится следить за тем, какие эмоции оно выражает. А уж бедняга Михримах поистине окаменела, пытаясь совладать с чувствами.
Воистину, странное место – наш гарем. И страшное тоже.
Здесь все знают, что произойдет с человеком, знают подчас за несколько месяцев до того, как карающая длань судьбы опустится на намеченную шею. Евнухи редко ошибаются, хотя вот с Хюррем случилась промашка, стоившая многим не только должности, но и жизни. Но, как правило, евнухи знают все – и молчат.
Подобная сдержанность считается добродетелью. Знать о чужой смерти и не предотвратить ее – добродетель; кичиться знанием, сидеть на нем, как магрибец на сокровищах, – единственно правильный выбор… да сохранит нас всех Аллах!
– Наш повелитель пытался спасти своего давнего любимчика, – пожал плечами чернокожий Кара, – он ежедневно ужинал с ним, полагая, что Ибрагим-паша найдет, чем смягчить сердце нашего султана.
Красавчик Дауд скорбно вздохнул.
– Я слышал от начальника дворцовой стражи, будто им было велено, – Дауд со значением ткнул пальцем куда-то в потолок, – велено не препятствовать Ибрагиму-паше, если тот решит покинуть Топкапы… или покинуть Истанбул. Милость султана безгранична, и если кто-то ею не пользуется…
«А когда судьба все же настигает человека, то все пауки вылезают из углов и начинают шептаться, – в сердцах подумала Орыся. – Мол, мы-то все знали, мы-то все давно предугадали, мы такие, сякие, немазаные! И так до следующего раза. Мерзость какая, нужно пойти совершить омовение. Как следует оттереть уши, которые слышали, и глаза, которые видели. Хорошо, что Доку-ага не таков! С ним не надо притворяться, играть в дурацкие игры, противные даже себе самой…»
«Какая жалость, что Доку-ага не таков, – размышляла тем временем Михримах. – Слова лишнего от него не допросишься. Ну, оно и понятно: человек Хюррем-хасеки, а не ее дочерей. С мамой он, небось, разговорчив…»
– Вы главного не слышали, – заторопился досказать сплетню Гюльбарге, раздосадованный тем, что Кара отвлек от него внимание. – Когда все закончилось, на одной из стен остался окровавленный отпечаток ладони Ибрагима-паши. Невольнице было велено его смыть, и она старалась всю ночь, но без толку: утром кровавый след оказался на том же самом месте, словно его и не трогали! Рабыню, само собой, высекли, но у присланных в спальню «цветков» тоже ничего не вышло!
Кара расхохотался, показывая белоснежные зубы:
– Вот ведь болтают же люди всякое! Скоро кто-нибудь увидит в спальне Ибрагима-паши Иблиса, а может, двурогого Искендера! Даже двух Искендеров, если болтавший переберет крепкого вина. Ты сам-то был там? Отпечаток этот, якобы несмываемый, видел?
Гюльбарге слегка побледнел, но ответил твердо:
– Был. И видел собственными глазами. Да покарает меня Аллах, если лгу!
Орыся и Михримах прекрасно поняли, отчего во внутреннем дворике, где обычно собирались поболтать евнухи, внезапно воцарилась тишина.
Не то чтобы девочки никогда в жизни не слышали о таинственных событиях, происходящих в старых зданиях. Аллах милостив, но Иблис не дремлет, строя правоверным козни. В старом дворце, например, всем показывали стонущий камень, в который превратилась ходившая к астрологу служанка, решившая разболтать тайны своей госпожи. Случилось это давно, но камень стоял до тех пор, пока Бирюзовые палаты не сгорели. А в Истанбуле, как перешептывались невольницы, подслушавшие приносивших дрова и воду слуг, есть дом, где ночами звучит нежная свирель. Там когда-то жил юноша, сгоравший от любви к соседке. Он не видел ее лица и не знал ее имени, но слышал голос неземной красоты, когда она напевала в саду. Чтобы понравиться ей, юноша начал играть на свирели, и девушка хлопала в ладоши, если музыка ей нравилась. Потом красавицу выдали замуж за богатого купца, а юноша зачах от тоски, и лишь ночами напевы свирели напоминают о нем…
Все эти истории были прекрасны и слушались с замиранием сердца, но чтобы подобное случилось во дворце Сулеймана – нет, такого Орыся и Михримах даже представить себе не могли! И потому внимали рассказу жадно, спрятавшись за пышно цветущими кустами роз, переглядывались и качали головами, пугаясь и удивляясь одновременно.
Евнухи в честности Гюльбарге не усомнились, и это было для султанских дочерей еще одним знаком того, что история правдива: не такие люди неусыпные стражи гарема, чтобы верить всяким досужим болтунам. Евнухи цокали языками, сочувствовали Гюльбарге и «цветкам», обсуждали, каким же образом шайтан устроил подобное. Кара, водя в воздухе пальцем и дико вращая глазами, говорил:
– У меня на родине старики рассказывают, что если у человека на виске родинка, то это дурной человек, быть беде у тех, кто с ним свяжется. А у Ибрагим-паши родинку все помнят?
– Действительно, на виске, – степенно кивнул Дауд.
– Дурная примета, дурной человек. При жизни нет ему покоя, а после смерти он другим покоя не даст, – продолжал вещать Кара. – Не к добру все это, вот увидите. Вот почему наши старики, если родится младенец с родинкой на виске, велят его убить или отнести колдунам-магенге…
Михримах, казалось, ничего не заметила, а вот Орысю словно всю жаром обдало. С трудом дождалась она, когда сестра закончит слушать евнухов (те, впрочем, скоро разошлись: появился лала-Мустафа, а при нем обсуждать сплетни мало кто рисковал), и опрометью бросилась в спальню, к зеркалу, и там, откинув наконец чадру, приподняла волосы с собственных висков.
Вот она, родинка. Та самая, которую Орысе велели закрывать еще с младенчества. Та, из-за которой ругалась и плакала тайком нянюшка, когда думала, что Орыся не услышит.
Что же это выходит – она, Орыся, дурной человек? Принесет беду всем, кого любит: Михримах, Доку-аге, матушке, дорогим сердцу служанкам? Вот так, ни с того ни с сего возьмет и накличет беду на султана и ближних его?
Или…
Додумывать вторую мысль – темную, опасную, от которой по телу шла дрожь и мучительно хотелось накрыться одеялом с головой, – Орыся не посмела. Молча опустила покрывало на голову, отвернулась от зеркала. Чего никто не видит – того как бы и нет.
Маленький Пардино-Бей подошел неслышно, мяукнул, ткнулся холодным мокрым носом в руку. Орыся наклонилась, погладила любимца. Хорошо ему – ни братьев, ни сестер, ни зловещих родинок, из-за которых обязательно кто-нибудь погибнет.
А ей-то что делать?
Эта мысль билась у нее в голове пойманной птицей весь день и следующее утро. Омовение, одевание, утренняя молитва… сооружение прически… О да – ОЧЕНЬ ТЩАТЕЛЬНОЕ сооружение прически, с по-настоящему большим вниманием к тому, чтобы виски были закрыты.
Что еще? Завтрак. Но есть не хотелось совершенно, все помыслы были о другом. Лишь выпила наскоро холодного шербета, даже не почувствовав вкуса. И кусочек халвы проглотила. Хватит, не до еды, есть куда более важные дела.
Затем она выскочила из покоев и припустила по коридору, на ходу придумывая тысячи причин не видеться сегодня с Доку. Вообще-то, ей одной и не надо бы к нему ходить, разве что вместе с сестрой… Но, с другой стороны, молочная сестра и ближайшая служанка дочери султана – даже в четырнадцать лет достаточно важная персона, чтобы у нее были свои дела. Разумеется, когда госпоже не требуется ее присутствие. А оно сейчас не требуется.
Ну что, право слово, она скажет Доку? И почему именно ему? Не няне, не кормилице?
Или… Или им всем и не надо ничего говорить?
Они ведь знают ее и Михримах с рождения. Им ли не ведать, какие метки на теле у каждой из сестер…
Аллах всемогущ и милосерден, не оставит, поможет, выручит. Но только ему ведомо, почему возможная встреча именно с Доку-агой тревожила сейчас девочку сильнее всего. Может быть, потому что Узкоглазый Ага всегда все понимает. А глаза его и вправду будто узкие бойницы в той пустующей башне, куда они с Михримах недавно присмотрели ход. Глаза-бойницы, за которыми сидят лучники, видящие твое сердце сквозь броню тела, высвечивающие тебя до самого донышка, до глубинных недр души.
Орыся поежилась, словно наяву попала под этот прищур.
В следующее мгновение она выскочила во двор – и буквально нос к носу столкнулась с Доку-агой. Словно на каменную стену налетела.
– Ох!..
– И куда же мы это так спешим, милая? Уж не посоветоваться ли со мной? То-то я жду-жду, а моих девочек как нет, так и нет, пришлось вот старику самому идти узнавать, в чем дело, уж не случилось ли чего?
Последние слова Доку-ага произнес с неким потаенным смыслом, будто между прочим, как только он один и умел делать. Орыся до сих пор иногда терялась от такого.
Доку-ага. Нугами-сан. Так его, кажется, называла только она, и то лишь изредка, а Михримах это имя отчего-то и вовсе не пришлось по душе. Человек, посвященный почти во все их тайны. Легко представить, что он даже знает об их вылазках за пределы дворца, хотя эту тайну они с сестрой от него таили пуще, чем от кого-либо другого: никогда Узкоглазый Ага не позволил бы им совершать столь рискованные прогулки.
– Я… я… Ничего не случилось. Я сейчас не могу!
– Что именно не можешь?
Она подняла голову и посмотрела на Доку. Слугу и учителя. Прямо в глаза посмотрела, в эти щелочки, повидавшие на своем веку ох как много.
Сказать?.. Не сказать?.. Он ведь в любом случае знает многое, а о еще большем догадывается. И, о Аллах, если не ему задать этот вопрос, то кому? Кормилице? Няне?
Может, вообще никому? Так навсегда и похоронить в себе эту нераскрытую тайну…
Доку чуть заметно улыбнулся:
– Давай-ка отойдем в сторонку, присядем вон там, в беседке. И поговорим. Ведь тебе есть что сказать и о чем спросить, верно?
Орыся, прерывисто вздохнув, кивнула и покорно направилась за евнухом в сторону сада. Мощенная красным мрамором дорожка, словно путеводная нить, вела из неизвестности в спокойную гавань, представшую сейчас в виде ажурной беседки. Спокойную… надолго ли?
Хоть на время. А там посмотрим…
Что ж, пусть будет так.
IV. Время прокаженного
1. В чем лгут поэты
Михримах отчаянно нервничала. Сегодня она должна была встретиться с будущим мужем, Рустемом-пашой. И все ее отговорки самой себе, что никогда и ни за что, что можно презреть родительскую волю, что можно… всякое… все они разбивались об одно: если Аллах предначертал судьбу, то она исполнится. И если Аллах решил, что ее выдадут замуж за будущего великого визиря, то так и случится.
Кисмет.
Всем сердцем, всей душой девушка противилась этому. Тем более что и было кому поселиться в сердце, было кому сниться жаркими ночами, улыбаться в этих снах так ласково, что дух захватывало и хотелось полететь за любимым на край света. Свить там гнездо, аки горлице, и жить вдвоем в вишневом саду, в маленькой хате…
Но Михримах была не какой-то сельской девчонкой, растрепанной, босоногой и жаждущей лишь проводить с любимым дни и ночи. Она уже выросла и многое понимала. Знала, что привыкла к роскоши, что от жены голодранца (а по меркам Михримах-султан любой, не сравнившийся в богатстве хотя бы с младшим визирем, был именно голодранцем) требуется совсем не то, что от супруги паши, имеющего влияние в султанском дворце, пользующегося одобрением и султана, и султанши, – а последнее очень немаловажно! Михримах знала все это, и от знаний болела голова и колотилось сердце.
«Да, – сердито говорила себе девушка, – да, я корыстна, ну так и что? У меня будут дети, и кто о них позаботится, кроме меня? Моих детей не убьют, если что, будущему султану они племянники, а не братья… О Аллах, но я ведь не желаю выходить за этого презренного, так какая разница, кем будут мои сыновья и дочери будущему султану?»
Виски ныли, и Михримах устало помассировала их. Затем, отчаявшись совладать с головной болью, кивнула евнуху, и тот, угадав печали госпожи, быстро подошел и принялся сам успокаивать боль: достал мазь, втер ее в девичью кожу. Немного полегчало.
Евнух был молод и ранее прозывался Лютиком, но нынче носил имя Мустафа – да сколько же их в гареме и по всей империи, людей с таким именем? Впрочем, в новом евнухе Михримах не устраивало только это. Лютик, точнее Мустафа, похоже, был предан новой хозяйке, а в нынешние времена такое редко встречается.
Доку-агой ему не стать, ну да ничего подобного Михримах от своего нового любимца и не требовала.
Хаппа подошла и настойчиво ткнулась девушке в ногу, недвусмысленно намекая, что ей тоже причитается порция ласки, причем именно сейчас, немедленно. Мустафа легко подхватил любимицу хозяйки и водрузил ее на колени Михримах. Нет, определенно, евнух свое дело знал!
Именно он собрал и предоставил госпоже все слухи о ее будущем муже. Разумеется, Михримах и без того уже знала, что жениха ее в народе прозвали «вшивым», что повсюду распространяются хулительные стихи наподобие таких:
- Сильным и счастливым сделает народ
- Тот, кто вошь в рубахе вовремя найдет!
Девушка, хихикнув, призналась себе, что за такое она тоже, возможно, недолюбливала бы поэтов. Язык поэта иногда похож на раздвоенное жало змеи, а иногда на плеть. Но ненависть Рустема-паши к сочинителям газелей и бродячим дервишам возникла гораздо раньше того дня и часа, когда неведомый остряк принес на базар эти строки. Причин ее никто не знал, но поэтам от того было не легче.
Рустему-паше, впрочем, тоже. Сочинители и впрямь сторицей платили ему за нелюбовь к изящным строфам и тонким рифмам.
Знала Михримах и о том, что в армии Рустема-пашу тоже не любят. Пусть и был он в свое время мирахуром, распорядителем султанских конюшен, пусть и назначили его ричаб-агой, обязанностью которого являлось держать стремя, когда Сулейман Кануни запрыгивал в седло, но в армии упорно ходили слухи, что не ратными подвигами заработал себе место хитрый чужестранец. Ибо Рустем-паша, как и Ибрагим-паша, родился не у тех людей и не в то время, родители его не приняли ислама до конца жизни, пускай сам он и обучался в медресе.
– Люди завистливы, – пожал плечами евнух Мустафа, бывший Лютик, рассказав госпоже о битве при Мохаче, где Рустем-паша проявил себя в качестве силатхара, султанского оруженосца. – Людям хочется думать, что если человек дурен в чем-то, то он плох во всем. Тогда они чувствуют себя умнее и благороднее.
– Но разве Рустем-паша хороший воин? – Михримах требовательно поглядела на своего шпиона.
Мустафа хмыкнул:
– Скорее нет, чем да, моя госпожа. Но в битвах он участвовал.
– Ничем себя не проявив?
Мустафа смотрел на хозяйку с непроницаемым выражением лица – у Доку-аги, что ли, научился?
– Не проявив себя как воин, это верно. Однако чем-то ведь Рустем-паша приглянулся твоему отцу, госпожа, раз великий султан отправил потом своего силатхара управлять своими личными конюшнями?
– Ясно, – фыркнула Михримах, – он был хорош в обращении с лошадьми. Действительно, хорошему конюху место на конюшне!
– А хорошему советнику – у султанского стремени, чтобы вовремя шепнуть султану на ухо мудрую мысль, – парировал Мустафа, и девушка нехотя кивнула. Евнух, как ни крути, прав: что-то было в Рустеме-паше, что-то, заставившее Сулеймана взглянуть на бедового оруженосца попристальнее.
Знала Михримах и о том, что великого визиря обвиняют в чрезмерной жадности и скупости. Правда, как тут же отметил Мустафа, Рустем-паша свято чтил предписания Корана и оказывал щедрую помощь нищим и нуждающимся. Странно все это… Неужели можно одновременно быть жадным и великодушным?
Одним словом, будущий муж представлялся Михримах чем-то вроде порождения самого шайтана: хитрый, изворотливый, ежесекундно меняющий на лице тысячу масок. Девушка могла размышлять лишь об одном: почему Аллах допустил, чтобы этот мужчина произвел на матушку и отца столь сильное впечатление? Почему случилось то, что случилось – вшивый скупец будет ее мужем?
Впрочем, может, и не будет. Все еще у Аллаха на ладонях…
Мать уже показывала Михримах суженого, но только издалека, и султанская дочь заметила разве что статных охранников женишка. Сам Рустем-паша потерялся за рослыми, широкоплечими молодцами. Поговаривали, будто набрал он себе телохранителей на родине, откуда уехал давным-давно, велел принять ислам и щедро вознаградил их семьи, плюнувшие предателям родины вослед. Будто больше у людей Рустема-паши никого не осталось ни в Османской империи, ни за ее пределами, и потому они слепо, безоглядно преданы господину. В общем, это соответствовало представлениям девушки о шайтане. Разве не служат ему легионы мелких пакостников, гули и ифриты, могучие статью и сильные, пока Аллах не обратит на них свой огненный взор?
А теперь вот Хюррем-хасеки велела дочери встретиться с будущим мужем лично. Зачем? Кто знает матушку… Скорее всего, она считала, что разговор по душам поможет Михримах примириться с вшивым скрягой.
Разумеется, в одиночестве им остаться не придется. По углам будут сидеть служанки, Мустафа расположится за ширмой, да и Доку-ага – Михримах точно это знала – в нужный момент окажется где-то неподалеку. Придет ли матушка подслушивать лично, Михримах не знала. Может, и нет – у Хюррем-хасеки повсюду много ушей. Ранее подобная встреча в гареме казалась немыслимой, и Михримах терялась в догадках, как же матери удалось получить согласие султана. Или… У девушки перехватило дыхание. Или матушка не спрашивала вовсе? В конце концов, не к Хюррем же придет Рустем-паша, а если так, то Сулейман вполне может посмотреть на такое нарушение правил приличий сквозь пальцы. Он ведь и карнавал для матушки устраивал, и послов она, сидя за решетчатой перегородкой, принимала, и даже где-то в глубинах дворца скрывался ее портрет – без чадры, с открытым лицом! Если уж Сулейман пошел на такое, разве не простит он столь небольшого прегрешения?
С другой стороны, Сулейман тогда и разрешить встречу дочери с Рустемом-пашой способен. А почему нет? Не с хасеки же тот встречается без решетчатой перегородки…
– Пора, госпожа, – напомнил Мустафа, и Михримах набросила на голову покрывало. Тщательно проверила, выглядит ли она пристойно: жених чтит Коран, негоже показываться ему в неподобающем виде, и неважно, собирается ли она за него замуж, не собирается ли… В любом случае не стоит вызывать подозрений.
Рустем-паша начал свой визит с подношения даров. Их принесли евнухи и разложили перед Михримах. Девушка с некоторым презрением подумала, что вряд ли большую их часть жених купил сам, – скорее всего, подарили иностранные послы или беи, жаждущие получить ту или иную должность. Мустафа рассказывал со смехом, как паша Эрзерума направил визирю лошадь и пять тысяч дукатов в благодарность за свое назначение. Лошадь и три тысячи дукатов Рустем-паша оставил себе, а остальное отослал назад со словами: «Твое назначение в такую бедную провинцию не стоит тех денег, которые ты мне прислал. Я взял себе должное». Должное, ха! В былые времена за любые подобные подношения сажали на кол! И немного жаль, что времена изменились…
Впрочем, драгоценности все-таки заинтересовали Михримах. Она как раз любовалась великолепным ожерельем из гранатов и рубинов, когда Рустем-паша зашел и присел на ковер напротив. Походка у него была почти неслышной, словно у Пардино-Бея: вроде и нет никого, а поднимешь взгляд – и жених прямо перед тобой. Михримах ахнула и выпустила ожерелье из рук.
– Я напугал тебя? Прости, – склонил голову Рустем-паша.
– Нет, – отозвалась девушка, приглядываясь к суженому, – вовсе нет. Я лишь огорчена собственной невнимательностью.
– Женщинам свойственно любить украшения, – пожал плечами Рустем-паша, не выказывая ни раздражения, ни дружелюбия.
Это слегка раздосадовало Михримах, но она лишь склонилась в вежливом поклоне.
Девушка сама не знала, кого или что она ожидала увидеть. Возможно, безумно прекрасного юношу, похожего на Меджнуна из великой поэмы «Лейли и Меджнун»: шайтан ведь может принять любое обличье, так почему не такое, в котором легче всего очаровать женщину? Михримах также не исключала, что Рустем-паша покажется в истинном виде, то есть воняя серой и изрыгая пламя, дабы напугать будущую невесту. Реальность оказалась… разочаровывающей.
Рустем-паша выглядел как обычный, ничем не примечательный человечек, полноватый, неброский, осторожный в движениях. Таких пруд пруди на всех базарах Истанбула, разве что одеждой не вышли: жених обрядился в богатый парчовый халат глубокого синего цвета, расшитый золотыми нитями, а на высоком тюрбане красовался огромный сапфир в золотой оправе. Роста санджак-бей (впрочем, он ведь уже третий визирь, казначей – большая разница!) был небольшого, и, когда присел, его голова оказалась вровень с головой невесты. Лицо красное, немного опухшее, кое-где изрытое оспинами. Немудрено, что его было сочли прокаженным! Михримах не нравилось это лицо, но ничего дьявольского она в нем не усмотрела.
Глядел будущий муж угрюмо и подозрительно. Поэты писали, будто Рустем-паша никогда не улыбается, а с уст его слетают только приказы. Что ж, в одном поэты уже солгали: сейчас великий визирь ничего не велел своей невесте. Просто сидел рядом и вёл неторопливую беседу, а то и помалкивал, словно предлагая Михримах высказаться самой. Это не походило на поведение отца девушки, не говоря уже о братьях, которые из кожи вон лезли, лишь бы оказаться первыми в разговоре и первыми в крике. Возможно, шахзаде Мустафа был другим, ну так на то он и шахзаде Мустафа, враг Хюррем-хасеки и, следовательно, ее дочери.
Михримах терялась в догадках: о чем же говорить с этим странным человеком? Он не воспевал красоту ее глаз и грациозность движений, что, впрочем, немудрено, учитывая его отношение к поэзии, но ведь подобное поведение идет вразрез со всеми правилами этикета! Мужчины любят говорить о своих ратных подвигах – но какие же подвиги мог совершить этот маленький толстенький человечек? Спрашивать его о таком – лишь раздражать!
Отчаявшись, девушка спросила о первом, что пришло в голову:
– Правда ли, что, как говорят, ты ежедневно раздаешь еду беднякам и вдовам с сиротами?
И случилось невероятное: мрачное лицо Рустема-паши озарилось улыбкой! Была эта улыбка мимолетной, и лицо будущего великого визиря после нее стало еще более насупленным, а брови почти сошлись на переносице, но ведь не показалось Михримах, вовсе не показалось! Что ж, если так, то Аллах и впрямь позволил ей совершить чудо, которое, по словам поэтов, не могли устроить даже в райских кущах, где летают прекрасные пери.
Однако стоит ли верить этим поэтам? Они уже дважды солгали!
– Это правда, – заговорил тем временем Рустем-паша, – правда, клянусь Аллахом, всемилостивым и милосердным! Но этого мало, и слабость моя, присущая всем людям, не дает мне исполнить предписанное Кораном в полной мере.
– Чего же ты, сделавший столь много, желаешь? – удивленно спросила Михримах.
– Я, ничтожный, возвышенный лишь благодаря милости великого султана, да хранит его Аллах, в сердце своем жажду сделать так, чтобы у каждого жителя Истанбула была лепешка на завтрак, похлебка на обед и хотя бы кусок хлеба на ужин. У каждого, и да поможет мне моя вера устроить все согласно моим замыслам!
В этот момент низкорослый визирь (не великий визирь, а всего лишь третий, ну так ведь не зима еще!) показался Михримах по-настоящему возвышенным. Верно говорят, что Аллах посылает каждому по способностям его!
– Каковы же эти замыслы? – спросила она с замиранием сердца.
– Я хочу разделить богатство свое на несколько частей, и из каждой этой части пусть кормится народ в Истанбуле и Эдирне, а также в местностях между Эстергомом и Мединой, Ваном и Скопье. Вдовам и сиротам хочу назначить пособие, а беднякам дать работу, дабы трудились они ради пропитания и во славу султана Сулеймана. Хочу, чтобы у всех была работа. Хочу, чтобы процветала великая наша империя!
– Это прекрасно, клянусь Аллахом! Но действительно невероятно сложно. Надеюсь, Аллах даст тебе силы справиться!
– Один я и не справлюсь, – пожав плечами, ответил Рустем-паша. – Без поддержки великого султана я похож на пушинку, которую несет ветер, и на песчинку, которую перекатывает море. Но если султан станет ветром и морем, то ветер наполнит мои паруса, а море принесет меня к берегу моей мечты. Пока великий султан, да хранит его Аллах, меня поддерживает. Снискали мои планы одобрение и у Хюррем-хасеки, женщины, отмеченной небесами для великих дел. Но мне нужна жена, которая разделяла бы мои мечты, шла со мною рука об руку и давала сил на свершения. А когда я умру, продолжила бы мое дело. Вот отчего супруга моя должна быть много моложе меня самого.
Последние слова он произнес вообще безо всяких чувств, как нечто само собой разумеющееся.
– Я понимаю… – почти неслышно прошептала Михримах.
Некоторое время оба молчали, но теперь молчание это не было напряженным, таким, в котором оба собеседника судорожно подыскивали бы тему для разговора. Нет, оно казалось Михримах уютным, в чем-то даже почти семейным. И в самом деле, сидят двое друг напротив друга, каждый думает о своем, а служанки подносят им кофе и сласти.
– Я понимаю, – наконец произнесла Михримах погромче и чуть тверже. – Меня учили… разному, однако в науку эту вовсе не входило управлять разными частями казны, направленной на добрые дела.
На миг сердце кольнула былая обида: матушка, Хюррем-хасеки, неплохо ориентировалась во всем этом странном и пугающем мире цифр. Султаншу обучали хотя бы понимать, как денежные ручейки, сливаясь в одну реку, двигают могучие жернова империи. Султаншу, но не султанскую дочь. О нет, Михримах казалась родителям просто развлечением для их избранника, призом для того, кто сумеет завоевать султанскую благосклонность! Ее учили призывно улыбаться и принимать соблазнительные позы, а настоящая власть доставалась другим – тем, кому предстояло завоевать сердце одного из ее братьев. Будущим султаншам.
И вот Рустем-паша сам, добровольно, предлагает поделиться частичкой этой сладкой, манящей власти. Да полно, бывает ли такое? Не происки ли это шайтана?
– Я не смогу тебе помочь, – тихо призналась наконец Михримах. – Я не умею.
Лицо Рустема-паши было непроницаемым, брови по-прежнему оставались сдвинутыми на переносице, когда он важно кивнул:
– Да, ты не умеешь. Но я научу тебя. Обучать жену входит в обязанности мужа. Ты увидишь, что это не так сложно, как поначалу кажется.
И Михримах сдалась. Да, она по-прежнему не видела себя супругой этого человека, ворвавшегося в ее жизнь негаданно, непрошено, только волей отца и матери. По-прежнему испытывала если не отвращение, то неприязнь. Но здесь и сейчас ей внезапно захотелось стать частью великого замысла, еще одним орудием Аллаха.
Захотелось научиться управлять людьми и деньгами.
Рустем-паша обещал научить.
– Если ты обучишь меня, то я, как послушная жена, свято выполню твою волю, – выдохнула Михримах, и Рустем-паша снова улыбнулся. Второй раз за встречу.
– Я знаю, – сказал он.
Вскоре после этого прозвучал гонг и визирь (или он все-таки еще не визирь? Станет таковым только после свадьбы, по праву брака на дочери султана?) засобирался, сказав на прощание, что вторую часть даров доставят Михримах завтра. Среди них, он обещал, будут и нужные книги.
Когда он ушел, девушка обессиленно опустилась на ковер. Служанки засуетились, обмахивая госпожу веерами и пальмовыми ветвями, предлагая прохладные напитки, только что доставленные из погреба, но Михримах отослала прислугу утомленным жестом.
– Как ты думаешь, – спросила она Доку-агу, по обыкновению вынырнувшего из ниоткуда, – можно ли одновременно быть скаредным и щедрым?
– Быть – нет, – твердо ответил евнух. – Казаться – запросто. Кроме того, разные вещи вызывают разные чувства, и человек, великий в великом, может стать умаленным в малом.
– Как это?
– У меня на родине, – задумчиво начал Доку-ага, – был один… бей. Да, до паши он, пожалуй, не дотягивал. Этот бей был весьма храбр на поле боя. Противники боялись его… а он боялся своей матери, шлепавшей его бумажным веером. А еще – больших пауков одного вида.
Михримах, не удержавшись, хихикнула. Байка подействовала, задумчивое настроение как рукой сняло.
Но Рустем-паша все равно не перестал бередить ее душу. Не вспоминать о нем Михримах не могла.
2. Если рыба захочет, вода уступит
В покои матери Орысю звали редко. Хюррем-хасеки искренне не понимала, о чем разговаривать с младшей дочерью. С Михримах все понятно: старшей нужно передавать материнский опыт, объяснять, как жить дальше, когда один из ее братьев станет султаном, как с помощью брата возвеличить мужа и проследить, чтобы тот не лишился головы, а если все же лишится, так хоть второй раз замуж выйти с пользой, а не окончить годы жизни в ссылке, в глухомани… Еще потихоньку готовила к неизбежному – к тому, что старший брат велит убить младших. От жизни не скроешься ни под чадрой, ни за стенами гарема, так пусть же старшенькая встретит судьбу во всеоружии! А младшая… этот ребенок…
Зачем ей здесь быть? Зачем ей вообще быть?
Впрочем, второе не обсуждалось. Милостью Аллаха ребенок появился на свет, стало быть, о ребенке следует позаботиться. А привязываться вовсе не обязательно и даже вредно. И для самой Хюррем, и для этой девочки.
Орыся о мыслях матери, разумеется, не ведала, зато знала твердо: к хасеки-cултан можно приходить, лишь сопровождая Михримах, изображая служанку Михримах, и никак иначе. В остальное время мать, если Орыся ей понадобится, сама придет. Или велит Доку-аге отыскать непутевую девчонку.
Иногда Орысе казалось, что все идет как-то не так. Что стоит постараться, и грозная Хюррем-хасеки посмотрит на нее ласково, как глядела иногда на Михримах. Но девочка тут же одергивала себя: что уж тут поделаешь, никто не виноват, просто судьба выпала родиться второй, как часто говорила кормилица. Младших любят меньше, поскольку именно старшие радуют родительское сердце. Старшие сыновья – наследники и продолжение рода, а за старших дочерей положен самый большой калым. Судьба же младших – в ладонях у Аллаха, и он не торопится ее явить. Так зачем же родителям волноваться о том, что может и вообще не сбыться?
Любят меньше, зато меньше и спрашивают. «Судьба есть судьба, спорят с ней только глупцы да безумцы, – говорила кормилица. – Выбирай, девочка, ты кем хочешь стать?» Орыся кивала, соглашалась: да, глупо, да, следует быть покорнее, голову склонить пониже… А сердце рвалось из груди, жаждало иной доли. Может, это кровь говорила в ней, горячая кровь, когда-то сделавшая молодую полонянку любимицей султана, а сейчас толкавшая на безумства дочь этой полонянки? Остепенившейся, заматеревшей, но в душе прежней: страстной и порывистой, как горячий степной ветер… Кровь упрямо твердила: да, ты живешь хорошо, да, ешь сладко и спишь на мягком, но разве этого достаточно? Разве счастье прячется под чадрой, скрывается стыдливо, стоит кому-то поглядеть на него? Разве не вольное оно, разве не летает, словно птица?
О мыслях своих Орыся помалкивала. Усвоила с детства, что в гареме лишний раз рот лучше не разевать, а сидеть себе в стороночке да держать открытыми уши. Но мать все же тревожилась, глядя порой на эту девочку: ох, не натворила бы бед, ох, не погубила бы!
А теперь еще свадьба Михримах: дело уже решенное, верное и сулящее Хюррем-хасеки немалую выгоду. Так не стоит оттягивать и решение судьбы младшей дочери. В провинцию, какому-нибудь пограничному беку отдать в награду за верную службу. Беречь будет, холить и лелеять: это здесь, в Истанбуле, наложницы из султанского гарема, отданные в жены, – честь, но не редкость, а там она небось одна такая случится на все окрестные земли. Прислать с ней какое-никакое приданое, чтобы бек уж совсем растаял и осознал важность подарка; заодно в письме намекнуть на скорую мучительную смерть, ежели с Разией что-нибудь случится… Да девчонка там как сыр в масле кататься будет!
Улыбаясь своим мыслям, Хюррем позвала Узкоглазого Агу и велела:
– Найди Разию, приведи ко мне. Разговор есть.
Евнух понятливо кивнул и без лишних слов закрыл за собой дверь. «Он тоже прекрасно понимает, что девчонке не место в султанском гареме, – мелькнула в голове Хюррем мысль, и она удовлетворенно улыбнулась. – Понимает и не спорит – ну так о чем же тут спорить?»
Самого Доку-агу обуревали чувства, далекие от радостных. Впрочем, все чувства, какими бы они ни были, бывший самурай давно научился скрывать под маской абсолютного бесстрастия. Он шел по гарему, привычно кивая встречным евнухам в ответ на их уважительные поклоны; некоторым даже улыбался короткой сумеречной улыбкой, знакомой здесь уже всем. Но что там под этой улыбкой прячет Узкоглазый Ага, ведают только он и Аллах, а остальным незачем.
Долг. Снова, как и в далекие времена давно умерший самурай по имени Нугами, Доку-ага разрывался между долгом и… иным стремлением. Но тогда им двигали стыд и гнев, бессилие и ненависть. Сейчас же с долгом, с преданностью присяге, которую он принес, властно вступила в спор любовь.
Не плотская, это действительно в прошлом, об этом Доку-ага больше не беспокоился. Совсем иное чувство – желание оградить от бед, уберечь, защитить маленькую глупую девочку, такую беззащитную перед коварством этого мира. А вот не выходило: мир уже нельзя было разрубить пополам мечом, да и госпожа, которой клялся в верности, требовала заботы и внимания. И упал бы ей в ноги Узкоглазый Ага, и попросил бы отправить с Орысей на край света, но понимал – не отпустит, а доверять, как прежде, перестанет. Да и сам уже не сможет спокойно жить, понимая, что предал еще раз.
Но если ничего не делать, то предашь уже свою девочку. Ту, которая тоже доверяет тебе безоговорочно.
Орысю Доку-ага нашел в спальне, где та играла с Пардино-Беем. Зверь покосился, дернул ухом, но других знаков внимания евнуху не оказал, всецело занятый переливающейся рыбкой из прочного шелка, которую Орыся катала по полу с помощью тонкой веревки. Зато девочка моментально оторвалась от игры, разулыбалась, отчего на сердце Узкоглазого Аги стало еще горше.
– Собирайся, – велел он, – и чадру надень. Хюррем-хасеки зовет.
– Меня? – Орыся поначалу не поверила, замерла, а затем ойкнула: недовольный Пардино-Бей чувствительно царапнул ее по ноге, требуя продолжить игру.
Доку-ага внимательно посмотрел на рысь: Пардино, конечно, и виду не подал, что чувствует этот холодный волчий взгляд, но неохотно отошел, презрительно фыркнув.
– Тебя, тебя зовет. Идем уже поскорее.
Девочка кивнула, засуетилась. Ожидать хасеки, конечно, умела – даром, что ли, прожила в гареме столько лет и достигла таких высот? – но не любила, и каждого, кто рискнул бы огорчить великую султаншу промедлением, особенно если сам не являлся человеком великим, ожидало наказание.
Поговаривали, будто сам Сулейман Великий, да хранит его Аллах, порой заканчивает встречи с визирями пораньше, лишь бы не опоздать к Хюррем в назначенный час. Врали, конечно. И Орыся и тем более Доку-ага хорошо знали, насколько можно доверять подобным сплетням. Но вот прочим гневать хасеки не следовало.
– Все, я готова.
Орыся бросила последний взгляд в зеркало – все в порядке, обычная служанка госпожи Михримах, одетая пристойно, никто не придерется.
К покоям матушки шли через сад. Дурманяще пахли розы, чирикали посаженные в клетку птицы, вертя головами и временами чистя пёрышки. Пробегавшие мимо две служанки окинули Доку-агу и Орысю любопытствующими взглядами, зашептались за спиной. У-у-у, злыдни, сплетницы, все-то им знать надо! Орыся, пользуясь тем, что под чадрой ничего не видать, высунула язык и скорчила противную рожицу. Но Доку-ага, казалось, мог видеть сквозь плотную материю, да и на макушке у него Аллах устроил парочку глаз: евнух обернулся, посмотрел укоризненно на воспитанницу. Девушка вспыхнула. Хотела было извиниться, но Узкоглазый Ага лишь вздохнул, отвернулся да ускорил шаг. Теперь приходилось бежать за ним чуть ли не вприпрыжку.
Хюррем сидела у кофейного столика – строгая и неприступная: губы поджаты, глаза глядят пристально и въедливо. Человеку, не привычному к порядкам в султанском гареме, хасеки показалась бы совсем молодой, едва ли не ровесницей тех юных невольниц, что по углам о ней шепчутся. Но Орыся родилась здесь, и воспитывали ее лучшие мастерицы своего дела, так что она не могла пропустить едва заметные паутинки морщин вокруг глаз матери, уже начавшую увядать кожу на ее шее и груди… И девушка от всего сердца, чисто и искренне пожалела Хюррем-хасеки, которая каждый день ведет бой против молодых и наглых, стремящихся завладеть сердцем султана. А еще каждый день бережет своих сыновей. Ведь там, в Манисе, сидит Мустафа, наследник престола, который убьет братьев Орыси, не задумываясь, едва взойдет на престол. Может, и не захочет убить, но убьет, ведь маячит за ним тень некогда грозной Махидевран…
– Здравствуй, – спокойно произнесла Хюррем, когда дочь грациозно поклонилась, – садись, выпей со мной кофе.
Орыся опустилась на ковер рядом с матерью. На миг показалось, что вот оно, признание – сейчас хасеки улыбнется и погладит ее по голове, как делала не раз с Михримах… Мысль промелькнула в глубине сознания – и ушла, растворилась в пропитанной жасминовым ароматом комнате, оставив после себя лишь легкое сожаление, словно послевкусие кофе на языке. Мать не станет делать того, чего не станет делать, и о чем тут говорить? Вот этот вопрос, кстати, и должен бы тревожить душу: о чем говорить-то будут?
Чашки опустели, и мать спросила без лишних предисловий:
– Скажи мне, Разия, ты уже знаешь, что Михримах выходит замуж?
Орыся кивнула, забыв, как дышать, боясь выдать себя случайным взглядом или жестом. И ладно бы себя, но ведь подвести можно было и сестру! Михримах говорила об этом браке не иначе как со слезами, а уж какими словами она называла жениха… Разумеется, когда никто не слышал.
Поэты, коих среди евнухов водилось с избытком, пытались возвеличить Рустема-пашу в глазах невесты, но то ли таланта не хватало, то ли материал для воспевания попался исключительно неблагодарный. Так что слова «мудрость» и «государственный ум» в посвященных Рустему-паше касыдах звучали куда чаще, чем «красота», «доблесть» и «благородство». А разве государственным умом очаруешь девушку? Нет конечно! Только ее отца и мать, что воистину ужасно!
– Хорошо. – Хасеки явно была удовлетворена покорным видом дочери и ее быстрым ответом, даже улыбнулась милостиво. – Тогда ты должна понимать, что и сама не можешь больше оставаться в султанском гареме.
А вот об этом Орыся до сих пор не думала. Да что там – и в голову не приходило! И ведь могла догадаться, глупая, но замечталась, забегалась, все свое время отдавая встречам с пригожими пленниками! А беда стояла на пороге, выжидала и вот бросилась хищным барсом на плечи.
Воистину, кого Аллах хочет покарать за недостойное поведение, тех он лишает разума.
Девушка в панике бросила умоляющий взгляд на Доку-агу, но тот стоял, скрестив руки на груди, и лицо его ничего не выражало. Непроницаемая каменная стена, а какие планы за той стеной строятся, то неведомо никому, кроме самого Узкоглазого Аги.
Может быть, даже и Аллаху неведомо. Вряд ли Нугами-сан ему все поверяет.
Вот уж точно лишняя мысль. Лишняя и несвоевременная.
– У меня есть планы насчет тебя, – продолжала мать. – Ты можешь уехать, уехать далеко отсюда, туда, где никто не узнает, насколько ты похожа на Михримах…
«Или… на Ибрагима-пашу?» – чуть не вырвалось у Орыси, но она сдержалась. К чему накликать на себя гибель? И без того уже тучи заволокли ее небо и вот-вот разразится буря с градом, безжалостно уничтожая все ростки светлого и прекрасного в ее сердце.
Мать тем временем продолжала рассказывать, как же хорошо и безмятежно будет жить «ее Разия» вдали от дома и родных ей людей. Да уж, ничего не скажешь, будущее у Орыси безмятежно, словно у погребенной заживо в могиле! Хорошо, как у неверного, горящего заживо в аду!
Узкоглазый Ага переступил с ноги на ногу, взгляд его на мгновение утратил неподвижность, словно евнух пытался сказать любимице: «Не бузи. Что-нибудь придумаем». Сделал это евнух, надо признать, вовремя – Орыся уже готова была безутешно разрыдаться. Но ничего, сдержалась, склонила голову, будто бы из вежливости, а на деле – чтобы скрыть слезы, и спросила:
– Ты говорила, почтеннейшая матушка, что это один из твоих планов в отношении меня. Разрешено ли мне будет узнать, каков другой план? Я, разумеется, исполню любую твою волю, просто…
Орыся не договорила – горло сжало спазмом. Но Хюррем благосклонно кивнула дочери:
– Твои слова разумны, и мне нравится слышать их. Ты уже убедилась, что я вовсе не желаю тебе зла, более того, дам тебе право выбирать. Возможно, звезды сложатся так, что ты сумеешь остаться в Истанбуле, даже иногда видеться с сестрой. В этом нет ничего особенного…
Орыся затаила дыхание. Но следующие слова матери повергли ее в ужас.
– Доку-аге пора занять подобающее ему место при дворе султана, – сказала Хюррем. – Довольно ему прозябать, обучая тех, кто недостоин целовать его сапоги. Я думаю, что султан поддержит мои планы, о которых с тобой, Доку, я поговорю попозже. Пока же мы держим совет о будущем Разии. Тебе нужна жена, Доку-ага, и я полагаю, что моя дочь подойдет как нельзя лучше.
Наверное, если бы небо в этот момент не падало на землю, а жизнь не раскалывалась на две половины, одна из которых казалась черной, как душа Иблиса, – если б это не случилось тогда, Орыся, пожалуй, посмеялась бы, увидев лицо Узкоглазого Аги. Изумление пробилось сквозь вечную маску безразличия подобно тому, как сель с гор пробивает себе дорогу, снося ветхие людские жилища, и течет, свободный и неукротимый, подхватывая и топя все, что попадается на его пути. На несколько мгновений лицо Доку-аги стало бесконечно удивленным и даже испуганным, и хотя Орыся не могла в полной мере насладиться невиданным зрелищем, именно оно помогло ей удержать себя в руках.
– Подумай над этим, Доку-ага, – не оборачиваясь, велела Хюррем, и евнух овладел собой, вновь став привычным до зевоты Узкоглазым Агой. Он поклонился и ровным голосом ответил:
– Слушаю и повинуюсь, моя госпожа.
– И ты тоже подумай над этим, Разия. – Мать пристально посмотрела на дочь. – Не торопись принимать решения, время еще есть, хотя его и немного. Но тщательно все взвесь.
Настала очередь Орыси низко кланяться.
– Слова великой хасеки-султан – путеводная звезда, ведущая меня в ночи, – отчеканила девушка привычные слова. А что еще ей оставалось ответить? – Я сделаю все так, как ты велишь, госпожа.
Хюррем снова снисходительно улыбнулась и жестом отпустила дочь. Не словами, не кивком даже – небрежным взмахом руки, как служанку, как простую рабыню…
А кто она еще для матери, если подумать? Обуза, вечное напоминание о той тайне, о которой сама Орыся упорно не желала вспоминать… Спасибо, что в живых оставили!
Но обидно-то как…
Орыся сама не помнила, как покинула матушкины покои. «Нет, – зло поправила себя девушка, – не матушкины вовсе. Покои великой хасеки-султан. Знай свое место, чернавка! У Хюррем есть одна дочь, и звать ее не Разия, а Михримах. Второй дочери нет и никогда не было, никогда, никогда!»
Сильные руки обхватили плечи девушки, и Доку-ага втиснул подопечную в один из неприметных коридоров. Затем властно прижал к себе.
– Плачь, – коротко приказал он, – полегчает.
И Орыся наконец-то разрыдалась – горько, взахлеб, как и положено плакать брошенным детям. А Доку-ага гладил ее по голове, как должна была гладить мать, вот только никогда не делала этого. С уст евнуха слетали странные слова – гортанные, с придыханием, каких никогда раньше не слышали стены Топкапы.
– Что это? – удивилась Орыся, более-менее придя в себя, и всхлипнула напоследок.
– Язык моей родины, – тихо ответил Узкоглазый Ага. – Вот послушай: там, где восходит солнце, есть удивительные острова, на которых живут похожие на меня люди. Правит ими император, который, как гласят предания, ведет свой род напрямую от великой богини…
Голос Доку-аги завораживал и успокаивал. Орыся слушала, и боль постепенно отступала. Не уходила, нет – просто прекращала терзать каждый уголок души острыми когтями, сворачивалась клубочком, как наигравшийся Пардино-Бей, и устраивалась поуютнее, смежив веки.
– Как же нам быть теперь? – совсем успокоившись, спросила девушка у наставника.
– В моем родном краю есть такая пословица: «Если рыба захочет, вода уступит», – отвечал тот.
– Ты хочешь сказать…






