Дочь Роксоланы Хелваджи Эмине
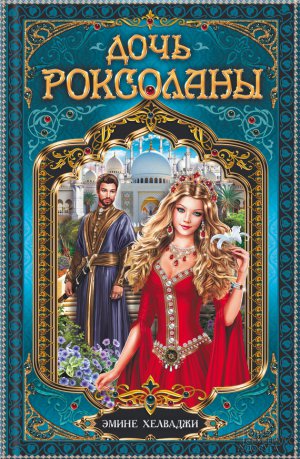
Оттуда этот ход и шел, нырял из внешней стены под землю, продолжался в каменном теле куртины и тянулся еще на десяток шагов за тем оконцем, которое открыли Орыся с Михримах. А дальше он был завален. Ну так ведь примерно там и куртина завершалась – сейчас. Двести или сколько там лет назад она в византийской крепости к чему-то примыкала. Однако Дворец Пушечных Врат – давно уже не та крепость, даже если включает в себя часть ее стен.
Как бы там ни было, обнаруженное ими оконце как вход не замышлялось. Маловато оно. Сам лаз вполне проходим для взрослого мужчины, воина, пускай и без доспехов: где пригнувшись, где боком, где на четвереньках, но – проходим. А вот оконце – разве что для четырнадцатилетних девчонок. В крайнем случае для семнадцатилетних, но очень худеньких и гибких. Вот как они сейчас.
Орыся подумала о Ежи – и вдруг вспыхнула, осознав, что никогда не видела его в полный рост. Только лицо и руки. И часть плеча сквозь прорезь бойницы.
Но у воина, а они с Тарасом, конечно, воины, плечи точно не девичьи. Если бы удалось войти в тот внутристенный ход, тогда все было бы просто…
Очень правильно поступает Михримах. Умница она. И отвагу проявляет сейчас подлинно воинскую: вытерпеть общество Рустема-паши – это, наверное, потяжелее, чем в двух сражениях побывать.
Конечно, в карете и вовсе бы не было нужды, окажись то окошко с поворотным камнем пошире… Но воистину, раз уж верблюд не идет за верблюжонком, значит, верблюжонок должен идти за верблюдом.
А окошко – оно, скорее всего, служило для того, чтобы подавать что-нибудь. Со стены, сверху, в ход: колчаны стрел, сабли в связках, сложенные по нескольку штук кольчуги, чтобы пронести их по лазу и надеть уже за его пределами. Из хода вниз: тайные записки, кошельки с золотом. Может быть, отсеченные головы, если именно за ними посылали в город. А возможно, что бутыли с вином… Хотя последнее – вряд ли. У греков же не было в их Библии такой суры, в которой Пророк равняет винопийство и игру в кости с употреблением в пищу мертвечины, крови, свиного мяса и прочего, что было зарезано не ради Аллаха, – а потом, объяснив, что Иблис при помощи всего этого хочет посеять меж правоверными рознь, отвратить их от поминания Аллаха и намаза, грозно вопрошает: «Неужели вы не прекратите?!» Греков, которые гяуры-машаякчи, верующие в пророка Ису и мать его Марьям как в богов, все это не касалось, вино они могли доставлять в крепость открыто.
А Ежи с Тарасом – кто?
Вот Ежи с Тарасом они и есть. Думать о них как о гяурах не получается совсем. Пусть мулла Омар о подобных вещах думает, на то у него и чалма большая, и джуббэ до пят зеленая.
Чалма. Джуббэ.
Свободная джуббэ скроет многое, но ноги-то в любом случае из-под нее видны. А без чалмы обойдемся, и шапок хватит.
Но прочая одежда точно нужна. И обувь. Сапоги, пожалуй, так просто не достать и не спрятать, а вот туфли на босу ногу – да, обязательно.
Надо будет навестить пленников. Сегодня же. И бечеву им передать, несколько отрезков. Чтобы они отметили узелками свой рост, ширину плеч и бедер, а также длину стопы.
Все это нужно сделать загодя. Потому что можно сделать.
Было еще одно, что сделать никак нельзя. То есть ясно, как этот вопрос надо решать, но пока не было похоже, что взаправду получится.
Но об этом Орыся сейчас намеренно не позволила себе думать.
V. Пардовый крап
1. То, что есть на виске
Тот, кто стремится к возвышению, должен, конечно, глядеть в небесные выси, но не стоит игнорировать камушки, валяющиеся возле носков туфель. Иногда, неудачно подвернувшись под ногу, такой камень может повалить даже великого воина. А иногда – оказаться бриллиантом, достойным самого султана, и тогда уже задача нашедшего сделать так, чтобы за подобную драгоценность его осыпали милостями, а не перерезали глотку.
Все это чернокожий евнух Кара прекрасно знал. Слышал, когда еще был «цветком», от мудрого наставника, щедрого и на поучения, и на подзатыльники. Сам внушал молоденьким «цветкам», которые были слишком беспечны, чтобы всерьез относиться к словам, и науку воспринимали лишь через затрещины. Но одно дело – знать, а совсем другое – когда судьба дает тебе прекраснейшую возможность выделиться. И следует вовремя понять, от Аллаха тебе подарок или очередная пакость от шайтана.
Разумеется, Кара видел родинку на виске Ибрагима-паши. Еще до его смерти видел: потомок гяуров до последних дней не любил носить тюрбаны, снимая свой собственный по поводу и без повода, словно и не правоверным он был, а отродьем самого Иблиса. Впрочем, может, и был, кто его сейчас разберет? Выбился в любимчики султана, а что у него на уме – никто не знал. Об одном все во дворце знали точно, хотя и шептались о таком лишь вполголоса: даже после смерти дух Ибрагима-паши продолжает смущать сердце Сулеймана. И ходит султан сам не свой, и пишет письма мертвому визирю, по его приказу убитому, в которых умоляет о прощении. Разве подобает такое правителю? Но никого не слушает Сулейман, даже Хюррем-хасеки, тоже ту еще ведьму. Вот уж кто не горюет об Ибрагиме-паше, так это она! Наоборот, радостная ходит едва ли не порхает по гарему, осыпает служанок милостями и смеется веселее иной девчонки. И сейчас Кара был уверен, что знает причину этой радости.
Родинка. Проклятая родинка, приносящая всем несчастья, чудесным образом перекочевавшая с виска главного визиря на висок султанской дочери. Впрочем…
Кара хитро прищурился и недобро ухмыльнулся. Кому как не ему известно было, каким образом происходят подобные «чудеса»? Для того и нужны евнухи в гаремах, чтобы чудеса эти творились как можно реже.
И, стало быть, не султанской дочерью нужно звать Михримах, но гнусным, вонючим иблисовым отродьем. А как звать изменившую великому султану женщину, Кара и думать не хотел.
Для подобных чудес всего одно наказание имелось в гареме: зашить проклятую изменницу в мешок с кошкой и змеей, а затем сбросить в море с высоких стен султанского дворца. Ибрагим-паша избежал злой судьбы, смерть его была легкой по сравнению с причитающейся ему, но уж Хюррем-то должна быть покарана за свое злодеяние! И сердце султана исцелится от двух злосчастных привязанностей, терзающих его подобно ядовитым змеям.
А там, глядишь, и Махидевран, несравненная Госпожа века Гюльбахар, вернется в столицу и щедро отблагодарит человека, уничтожившего ее блистательную соперницу.
Но даже если султан в скорби своей и не вспомнит о Махидевран-султан, так есть же еще красотки в гареме! То есть сейчас стараниями Хюррем их, можно сказать, и нет. Но если все получится – то, стараниями Кары, снова будут.
И, возможно, зажжется сердце Сулеймана новой страстью, а уж Кара будет настороже…
Евнух успокаивал себя этими рассуждениями, торопясь в султанские покои. Подать прошение о личной встрече было делом невероятным, практически дерзостью, но Кара справился. И Сулейман согласился его принять. То ли из любопытства, то ли посмотреть захотел на слишком наглого евнуха, перед тем как отправить того на плаху… Нет-нет, вот об этом думать нельзя, глупые мысли, плохие. Лучше поразмыслить о том, какую же награду попросить, когда вскроется заговор Хюррем и Ибрагима-паши.
Встретил Сулейман евнуха, впрочем, неласково: брови сдвинуты, голос сердит. Но стоило Каре заговорить, как султан встрепенулся, затем застыл неловко, будто не зная, бежать куда-то, топать ногами или же просто отвернуться, предоставив судьбе вершить правосудие. Даже глаза руками закрыл, то ли не желая видеть евнуха, то ли скрывая слезы – частые спутники султана в эти дни. Спросил глухо, не отрывая ладоней от лица:
– Доказать сумеешь?
– Сумею, – ответил Кара твердо. – Пусть великий султан поглядит на висок дочери своей, Михримах, и тогда уже решает, верить мне или нет. Я же всецело отдаю себя в руки моего султана, да живет он тысячу лет и здравствует!
– Отдаешь, значит? – Губы Сулеймана искривились в недоброй усмешке. – Это хорошо. Что ж, пусть так и будет. Приведи ко мне Михримах. Возьми евнухов, сколько нужно, и приведи. Только не из тех, которые служат Хюррем.
Сердце Кары радостно встрепенулось.
– Слушаю и повинуюсь, – низко поклонился он, и Сулейман вяло махнул рукой: дескать, ступай. Кара попятился и покинул султанские покои.
Не брать с собой евнухов проклятой Хюррем он бы и сам догадался, не вчера был рожден, но слова султана имели под собой приятную для Кары подоплеку: Сулейман поверил. Может, не окончательно, может, сомневался еще, но готов был поверить. А когда увидит родинку, убедится, что он, Кара, прав. И тогда гарем ждут приятные перемены…
Михримах отыскалась на очередном занятии. Молоденький евнух-сандала старался усердно, и обнаженная девочка, принимавшая предписанные томные позы, казалась неуклюжей по сравнению с ним. В другое время Кара сказал бы: ничего, подрастет, выровняется, появятся грудь и бедра… Но вряд ли Михримах суждено вырасти, если Сулейман поймет, как жестоко поступила с ним его возлюбленная Хюррем.
– Одевайся, – коротко приказал Кара, жестом отправляя сандалу из комнаты, – отец ждет тебя.
Девчонка строптиво вскинулась, наткнулась на безжалостно-холодный взгляд, отпрянула и кивнула закутанной в чадру служанке:
– Позови Доку-агу…
– Нет, – отрезал Кара, – останешься здесь. С места не сдвинешься, Гюльбарге за тобой присмотрит.
Гюльбарге, волей судьбы оказавшемуся под началом Кары, явно было не по себе, однако ослушаться он не посмел. Михримах же топнула ножкой:
– Никуда без Доку-аги не пойду! Он за мной присматривает! Что вообще происходит?
– Тебя отец зовет, – спокойно отозвался Кара, хотя едва сдерживал внутреннее ликование: волна волос откинулась назад, когда девчонка мотнула головой, и на миг родинка показалась вполне отчетливо. – Ты оденешься и пойдешь. Или я поволоку тебя голой, на потеху всем охранникам Топкапы.
– Султан тебя не простит!
– Простит. Сама выбирай, как идти.
Маленькая строптивица зашипела, будто разъяренная кошка, и эхом откликнулся тихо лежавший до сих пор в углу один из двух любимчиков Михримах – рысенок, подаренный гяурами-кастильцами. «Вот еще одно доказательство развращенности девчонки, – сердито подумал Кара. – Разве дозволяет Коран правоверной мотаться где ни попадя с диким зверьем на руках? Да и второй питомец этой негодницы – собака, существо нечистое, проклятое Аллахом. В общем, все доказательства налицо, странно, что никто раньше не разглядел происки шайтана. Глаза всем отвела ведьма – ее мать, не иначе».
Михримах тем временем торопливо оделась: хоть какой-то ум у девчонки остался, поняла, что евнух не шутит. Прежде чем она закуталась в покрывало, Кара подошел к ней, еще раз отвел волосы со лба, поглядел – родинка была на месте. Вот так-то! Посмотрим, что запоет Хюррем-хасеки, столкнувшись с неистовым султанским гневом!
Впрочем, как бы ни оправдывалась Хюррем, а придется ей закончить свои дни в зашитом мешке, на дне моря. В качестве кошки, кстати, можно использовать эту мерзкую рысь. Наверняка она сильно царапается, хоть и маленькая. Впрочем, уже побольше домашней кошки. Так что самое то.
Девчонка вздрогнула, но не отступила ни на шаг, лишь головой мотнула недовольно. Характером в матушку пошла, не иначе. «Что ж, – пожав плечами, подумал Кара, – может, и не убьют ее, султан иногда не карает невиновных. Продадут где-нибудь на истанбульском базаре…»
Может, новый хозяин даже научит Михримах послушанию. Если правильно работать плеткой, можно много чему научить.
Когда Михримах наконец-то покрыла голову, Кара довольно улыбнулся, взял девчонку под локоть и повел ее к выходу. Рысенок, увязавшийся за ними, временами сердито шипел. Ну да ладно, в крайнем случае можно будет попросить кого-нибудь из дворцовой охраны потренироваться с ятаганом на диком звере. Вряд ли евнуху откажут.
Ухмылка не сходила с лица Кары.
Дверь за Орысей и чернокожим евнухом закрылась, и взгляд Михримах растерянно заметался по комнате.
Дернул же ее шайтан поспорить на занятие любовными делами! Знала ведь, что Аллах не одобряет азартные игры! И вот выигрыш обернулся проигрышем, а Кара, раздери его гиены, куда-то увел сестру, при этом удостоверившись, что родинка у той на месте…
Родинка, все дело в ней! Не зря матушка велела прятать ее от всех, ох, не зря!
Гюльбарге неловко топтался возле двери. Михримах почти кожей чувствовала, как евнух разрывается между страхом и… страхом. Кого же он боится? Ну не Кару же!
Маму! Гюльбарге по-прежнему боится Хюррем-хасеки!
Михримах постаралась придать своему голосу как можно больше почтения в сочетании со спокойной уверенностью в собственной правоте. Так учил их с Орысей Доку-ага: любой, услышавший «мягкую твердость», склонится на твою сторону. Что ж, пришло время держать экзамен!
– Послушай, многоуважаемый, – девушка подошла к Гюльбарге поближе, заглянула в глаза, – я не оспариваю твое право удерживать меня здесь. Раз ты говоришь «надо», стало быть, так оно и есть. Но не мог бы ты послать «цветка» к госпоже Хюррем-хасеки? Все-таки ее дочь ведут к султану, и она…
– Помолчи, женщина! – Гюльбарге вскинул руки, будто отталкивая что-то невидимое, но тут же бессильно опустил их. – Кара ведет свою игру, а я всего лишь хочу спокойно жить!
– Так ты не знаешь, что стряслось? – Михримах постаралась выразить голосом величайшее изумление. – И не знаешь, чем грозит сделанное?
– Молчи, – повторил Гюльбарге, кусая губы. Но, похоже, он не слишком-то сам верил в собственные слова.
– Хасеки может пасть, – голос Михримах снизился до шепота, – но что, если нет? Она мстительна, мне ли не знать? Помнишь, как сцепилась она с Махидевран-султан? И кто из тогдашних всесильных евнухов, вставших на сторону Госпожи века, остался нынче в гареме? А ведь Махидевран-султан была любимицей султана, да хранит его небо! Где она сейчас? Вдруг Кара ошибается?
– Женщина, – воскликнул Гюльбарге в отчаянии, – ты хочешь моей смерти!
– Вовсе нет! Я хочу, чтобы ты жил, жил долго, осыпаемый милостями султана и его супруги! Разве тебе поручено скрывать от хасеки происходящее? Что сказал тебе Кара?
– Что это дело государственной важности, – наконец сдался Гюльбарге, – что его следует держать в тайне от Хюррем-хасеки и ничего не говорить ей.
– Аллах всемилостивый и милосердный, так и не говори ей! Предоставь это мне. Ну ведь можешь же ты отвернуться от двери, верно? А я могу сбежать. Поверь, хасеки не забудет твоей услуги!
Гюльбарге ничего не ответил, но, поколебавшись минуту, отошел к кровати, словно бы заинтересовавшись занавесями. Михримах ужом выскользнула наружу.
Куда же бежать? К матушке – только зря терять время. Кара что-то сказал о покоях султана… Ладно, попробуем перехватить Орысю там.
Михримах понятия не имела, что делать дальше. Она знала лишь, что тайна, роковая тайна, будучи раскрыта, повлечет за собой ужасные последствия.
А еще она знала короткий путь к покоям султана.
2. То, чего нет на виске
Путь по лабиринтам коридоров Топкапы казался Орысе бесконечным.
Одна комната, вторая, третья… Виноградные грозди на изразцовых плитках, которыми были покрыты колонны, сменялись кленовыми листьями, затем бутонами роз, среди которых пели птицы. Парчовые занавеси на окнах тоже были разных цветов, и Орыся мимоходом считала: красные, зеленые, багрово-алые, снова красные, а теперь фиолетовые…
Кара молчал. Покарай его Аллах, этого Кару, что он возомнил о себе? Неужели всерьез решил потягаться с Хюррем-хасеки?
А может, и решил. Проклятая родинка на виске, казалось, жгла Орысе кожу – или это просто заболела голова от тревоги? Зачем ее ведут, что Кара хочет показать султану? И чем это грозит ей, сестре, матушке?
Пардино-Бей упрямо шел за ней, угрожающе ворча на евнухов, которые время от времени пытались сначала подхватить его на руки, а позже – пнуть. Один раз рысенок зашипел, выпустив когти. Кара отпрянул, пробормотал что-то про иблисово отродье. Сам он иблисово отродье, а еще – шакалья отрыжка!
Орыся развлекалась, мрачно придумывая чернокожему евнуху прозвища, одно оскорбительнее другого. И не заметила, как постепенно стемнело вокруг. Спохватилась, лишь когда один из сопровождающих спросил Кару, не зажечь ли лампы. Тот буркнул:
– Некогда. Торопиться надо, султан ждет.
Оглядевшись, Орыся поняла, что солнце, еще недавно светившее вовсю, теперь скрылось за тучами. Позже говорили, что гроза налетела на Истанбул внезапно, словно гнев Аллаха. Говорили, что текущими по улицам потоками смыло в море нескольких дервишей. И еще многое говорили люди, глупое и не очень, но сходились в одном: дождь в основном пролился на султанский дворец, а уж гневался Аллах или, напротив, решил явить свою милость, о том толковали вкривь и вкось.
Орыся видела край тучи, из-за которого прорывались алые, будто окрашенные кровью ятаганы, лучи закатного солнца. Затем потемнело так резко, словно на Истанбул упала ночь, только звезды не светили в этой ночи с небосклона. Заполошно вскрикнула и умолкла какая-то птица. Ей никто не ответил: пернатые обитатели гарема, обычно горластые и вовсю распевающие, теперь торопились укрыться где-нибудь, забиться в дуплянки и под навесы. По саду бегали евнухи, унося в комнаты испуганно притихших канареек, сворачивая навесы и забирая подносы с ароматным кофе.
Пардино-Бей топорщил усы и гудел. То ли был испуган, то ли злился, то ли все это вместе. Орыся хотела взять любимца на руки, даром что рысенок весил уже изрядно, но Кара грубо дернул ее за рукав, и ей пришлось подчиниться.
Как оказалось позже, сделал это евнух себе на беду.
На одном из поворотов коридора Пардино одним прыжком выскочил вперед, встал перед процессией, выпустив когти, угрожающе зашипев и распушившись, словно цветок. Кара свирепо оскалился, занес было ногу для удара, но за окном сверкнула молния и оглушительно, раскатисто зарокотал гром. Кто-то пробормотал: «О Аллах!», кто-то тайком перекрестился – Орыся мстительно запомнила, кто именно. Может, удастся потом рассказать матушке или Доку-аге. На том карьера мерзавца, помогающего Каре ее погубить, и завершится: все евнухи должны исповедовать ислам, и закон этот строг!
Молния ударила еще раз, казалось, совсем рядом с окном, и не успел заглохнуть гром, как Пардино завопил. «Наверное, именно так кричат ифриты, когда восходит солнце и Аллах разрешает ангелам метать в них огненные стрелы», – мелькнуло в голове у Орыси. Но сейчас солнца не было, все вокруг окутала тьма, лишь изредка прорезаемая очередной молнией. Кто-то из младших евнухов все же достал из тайников объемистого халата маленькую лампу и чиркнул кресалом, зажигая ее. Одинокий огонек заплясал в руках евнуха, заметался по стенам, отбрасывая изгибающиеся, причудливые тени… но внезапно лампа выпала из пухлых рук и потухла, а комнату огласили вопли ужаса.
– Свет! Зажгите свет, шакальи дети! – завопил Кара, но евнухи сгрудились у выхода из комнаты, возбужденно и испуганно перешептываясь, не решаясь подойти к двери, возле которой они увидали то, что увидали.
Орыся замерла, не в силах сделать и шага. Она тоже увидела это.
Отпечаток окровавленной ладони на изразцовой плитке возле двери.
Ладонь явно была мужской – большая, широкая, а кровь – свежей. Орыся смотрела, как красная капля стекает по голубому изразцу, и ее замутило.
В этот момент девочку дернули за руку. От неожиданности Орыся чуть не закричала, но знакомая с детства ладошка крепко зажала ей рот.
– Ш-ш-ш, – прямо в ухо прошептала сестре Михримах. – Переодевайся, живо! Давай, снимай свое!
– Ты… ты видела? – попыталась было спросить у близняшки Орыся, но Михримах, не слушая сестру, ловко расстегивала многочисленные пуговички, стягивала с нее чадру… Сама она уже почти полностью обнажилась, и одежда ее валялась неопрятной грудой за колонной, по которой вились нескончаемые зеленые ветки плюща, изображенные художником с превеликим мастерством.
Кара был занят: одновременно пытался успокоить евнухов и отмахнуться от наскакивающего на него Пардино-Бея. Рысенок разошелся не на шутку, и вопли чернокожего евнуха доставляли Орысе ни с чем не сравнимое наслаждение.
Но времени действительно оставалось мало. Орыся сбросила наконец верхнюю одежду, и Михримах тут же принялась натягивать ее на себя, прошипев:
– Остальное оставь. Помоги мне! Потом сама оденешься, я важнее…
Сестра, разумеется, была права, и Орыся безропотно подчинилась: застегивала в темноте пуговицы, стараясь попасть в нужные петли, поправляла пояс, цепляла браслеты, безжалостно, с кожей вместе, сдирая их со своей руки… Михримах жарким шепотом давала последние указания:
– Как оденешься, сразу беги к матери. Или найди Доку-агу, сама поглядишь, что быстрее. Ну поторопись же, дура!
Орыся кивала, в глубине души завидуя сестре: душевный покой Михримах, занятой делом, никакие иблисовы шутки поколебать не могли. Старшая дочь Хюррем-хасеки не могла похвастаться долготерпением или мудростью, но если ей что-либо было нужно, то Михримах шла к цели напролом. Орыся так не могла – увиденное терзало ее душу так же, как молнии сейчас терзали небо и тучи.
– Все, готово, я пошла. – Михримах деловито поправила наспех накинутое покрывало. – Сразу к матери, поняла? Или к Доку-аге.
Ответом ей был молчаливый кивок.
Кара тем временем кое-как успокоил евнухов. Лампу нашли и зажгли снова: в ее свете кровавый отпечаток ладони по-прежнему казался жутким, но к нему уже немного привыкли. Пардино-Бея общими усилиями отогнали, и теперь рысенок обиженно фыркал в углу.
– Где эта дочь шайтана? – Чернокожий евнух нетерпеливо огляделся.
Михримах молча сделала шаг ему навстречу.
– Ага, не сбежала? Ну вот и славно. Идем, идем, не следует заставлять султана томиться в ожидании! – Кара мерзко захихикал, и Орыся снова припомнила все прозвища, которыми успела в мыслях наградить своего врага.
Процессия удалилась. Проходя мимо отпечатка, кровь на котором уже успела свернуться и побуреть, евнухи делали знаки, отгоняющие шайтана, или держались за амулеты. Молоденький парнишка снова перекрестился.
Орыся осталась одна. Разумеется, если не считать рысенка, который в темноте подкрался к хозяйке и начал, урча, тереться о ее голые ноги, заставив девушку нервно вздрогнуть.
Тайна мучила младшую дочь великой султанши, тайна жгла ей сердце. Эта родинка… и помощь Ибрагима-паши, помощь той, с которой его связывал тайный знак… Умерший великий визирь не просто так явил свое присутствие именно здесь и сейчас, Орыся твердо была в этом убеждена. Но следовало остановить караван этих мыслей и заняться другими делами.
Уже одетая, проходя мимо колонны с отпечатком, Орыся остановилась на секунду, низко поклонилась и пробормотала слова благодарности. Показалось или в свете молний действительно увидела она мелькнувшую в воздухе и растаявшую бесследно призрачную улыбку Ибрагима-паши? Думать об этом времени не было. Орыся глубоко вдохнула пахнущий грозой воздух и опрометью бросилась по тайному ходу к покоям матушки.
Хюррем-хасеки слушала быстро тараторящую девчонку молча. В мягком колеблющемся свете зажженных служанками ламп, в дыму курящихся благовоний, среди мятущихся теней лицо любимой супруги султана казалось высеченной из алебастра маской, какие носят на карнавалах гяуры-венецианцы. Иногда они рисуют на этих масках грустные или веселые рожицы, но чаще всего оставляют их такими – белыми, ничего не выражающими, с черными провалами для глаз.
То и дело вспыхивали молнии, и тогда Орыся явственно видела в глазах матери белые светящиеся точки. Но страх не приходил – уже отбоялась свое там, в комнате с перепуганными евнухами и одиноким отпечатком ладони, с которого сползала вниз капля крови.
Явление Ибрагима-паши хасеки не заинтересовало. Ее, как и Михримах получасом ранее, куда больше заботили дела земные. А великий визирь… что ж, кому и помочь дочерям Хюррем, как не ему? Но эту мысль султанша тоже быстро отбросила за ненадобностью.
Значит, Кара затеял бунт… Что ж, время и место он выбрал точно, тут ничего не скажешь. Но сейчас в его руках Михримах, а у старшей дочери родинки на виске нет. Поглядим, как евнух выкрутится.
Гнев мужа Хюррем знала очень хорошо. Умела использовать его в своих целях, иногда, ничего не стыдясь и ничем не брезгуя, убирала врагов руками султана. Жаль, что Сулейман не отправил на тот свет злодейку Махидевран, ну да тут пока ничего не поделаешь. Нужно ждать и плести новую паутину.
А вот Кара и его гнусный поступок…
– Принесите одежду, я иду к мужу, – бросила Хюррем служанкам.
Те забегали, засуетились. Дверь скрипнула, и хасеки гневно обернулась, но тут же улыбнулась одними губами: это вошел Доку-ага, свой, готовый помочь чем угодно. Взгляд Хюррем, впрочем, оставался мрачным.
– Уже все знаю, – сказал Узкоглазый Ага, почтительно кланяясь, – поболтал с Гюльбарге.
– Кто это? А впрочем, неважно. – Хюррем величественно позволила надеть на себя ожерелье. – Что скажешь?
– Он не знает, что девочек двое. – Доку-ага подошел к повелительнице, мимоходом погладив Орысю по голове. Та подалась навстречу ласке, и Хюррем поморщилась. – Видел Разию, подумал, что это Михримах. Видел родинку, само собой, вот и решил рискнуть, чтобы возвыситься. А про близнецов ему неведомо.
Султанша задумчиво кивнула. Взгляд ее снова упал на девчонку, беспомощно рассматривавшую собственные руки, и Хюррем привычно подавила гнев.
Да, надо было решить вопрос, как только этот ребенок родился. Но теперь-то зачем суетиться, собирать в разбитый кувшин пролитое молоко?
– Тебя не виню, – хасеки заставила себя произнести эти слова, обращаясь к Орысе, и девочка вздрогнула, с надеждой глядя на мать. – Но в будущем не потакай Михримах. Любит она лениться… а ты не потакай, поняла?
– Да, госпожа. – Девчонка быстро поклонилась.
Хюррем надменно кивнула.
– Хорошо. Теперь вот что: я иду к мужу моему и повелителю. Ты останешься здесь. Что бы ни случилось, из моих покоев не выходи. Заночевать можешь в комнате моих служанок, тебе покажут где. Сиди здесь, это приказ.
Еще один поклон. Что ж, с этим покончено: девчонка будет делать то, что ей приказали.
– Доку-ага, ты идешь со мной. Можешь взять этого… Гюльбарге, если хочешь. Или еще кого-нибудь.
– Гюльбарге подойдет, – спокойно ответил Узкоглазый Ага.
Они оба понимали: негоже супруге султана поздним вечером расхаживать по дворцу в сопровождении всего одного евнуха. Даже если она идет к мужу своему и повелителю. Султанше положена соответствующая свита.
А еще нелишне будет напомнить всем в гареме, что Хюррем-хасеки должным образом вознаграждает тех, кто ей верно служит. Тех же, кто идет против нее… тоже вознаграждает. Должным образом. И да смилуется над ними Аллах!
Повезло Гюльбарге. Впрочем, парень он, судя по всему, неглупый, умеющий понимать свою пользу – можно и взять его под крыло. Пускай порадуется.
…Шла Хюррем вроде бы и неторопливо, но комнаты мелькали перед глазами нескончаемой вереницей. Впереди бежал Гюльбарге, освещая дорогу. Гроза немного утихла, но молнии все еще указывали сияющими перстами на Топкапы; вдобавок окончательно стемнело, а лампы зажигали далеко не во всех переходах.
Когда перед покоями Сулеймана великую султаншу остановила стража, она подчинилась. Стояла, молчаливая и спокойная, и лишь глаза по-прежнему казались двумя черными провалами на алебастровой маске.
И молнии зажигали в каждом из этих провалов по маленькому огоньку.
Сулейман Великолепный не спал. Мерил шагами ковры в своих покоях и остановился, лишь когда Кара втолкнул в комнату Михримах. Та скромно опустила глаза, бросилась перед султаном на колени.
– Ну, ну, – Сулейман в мгновение ока оказался рядом, приподнял подбородок девушки, поглядел пытливо, – встань. Ты передо мною ни в чем не провинилась.
Михримах подчинилась. Рядом с отцом она всегда робела. А великий султан никогда не обращал на дочь внимания, весь отдаваясь беседам с сыновьями и женой. Даже для помощника визиря находил он доброе слово, но не для дочери. Жесткий дворцовый этикет не позволял султану проявлять на людях особое внимание к Михримах, но это же не значит, что он не должен замечать ее вовсе! Впрочем, никакой обиды у девочки не возникало. До сей поры.
Теперь, только теперь Сулейман Великолепный изволил внимательно поглядеть на дочь! Теперь, когда решался вопрос о том, дочь ли она ему!
Дурочкой Михримах не была и, хотя ее и душила обида, вела себя безукоризненно. Понимать все понимала и впервые ощутила злую, клокочущую где-то в глубине сердца радость от того, что Аллах, бывает, позволяет обманываться и султанам. Дурная это была радость, что да, то да, но грех замолить всегда успеется – вот хотя бы рубиновый браслет пожертвовать на строительство мечети! А сейчас важно не сфальшивить, не допустить и малейших сомнений в себе. Ибо хоть и не виновата ни в чем перед великим султаном Михримах, а ей достанется, если вскроются старые дела, о коих всем бы забыть, да вот только вспоминают некоторые… Выколоть бы этим некоторым бесстыжие глаза да повырезать языки! И когда отошлют из гарема Михримах, предварительно казнив ее мать, хасеки Хюррем, то неважно уже будет, виновата девица, не виновата…
О делах матушкиных Михримах старалась не задумываться. Было там что-то, не было – разве ее, почтительной дочери, это забота? Она живет в гареме, как подобает султанской дочери, обучается всяческим наукам, ест сладко, спит мягко – уж кто-кто, а Михримах знала, каково приходится даже наложницам, к которым Сулейман давно потерял интерес. Что же тогда творят с женщинами там, за стенами султанского гарема? Она так не хотела. Мало ли, отчего мать пошла на этот страшный, смертный риск! Значит, были причины, а если и не было – все равно не Михримах судить. И не Михримах болтать о таком. Аллах свидетель, чтобы о подобных делах раскрывать рот, надо самой себе быть злейшим врагом!
А Сулейман Великолепный действительно глядел на девочку, словно бы впервые в жизни, хотя показывали ему дочь и в день ее рождения, и потом видел он ее в толпе служанок. Видел, но не обращал никакого внимания. Михримах была одной из многих, удел ее – замужество, она награда для кого-то, кто предан османскому престолу настолько, что султан пожелал выделить этого человека. Верным и преданным дарят племенных кобылиц, драгоценности, оружие… бывает, дарят и дочерей. А каков он, этот подарок, – дело уже десятое, главное – внимание султана.
И лишь сейчас, когда чернокожий евнух пробудил страшные сомнения, когда ядовитая змея ревности тысячей голов жалила сердце султана, наполняя его ядом сомнений и болью страдания, Сулейман Великолепный решил наконец взглянуть на свою дочь.
Свою ли?
Даже странно, как дорога султану стала Михримах именно в эту минуту, на пороге, возможно, непоправимого. Это дитя, пока еще угловатое, не налившееся женской прелестью, плод любви его и Хюррем… или любви Хюррем и кого-то другого.
Довольно, решил Сулейман. Хватит. Пускай потом его ждут ночи, исполненные адского пламени, пускай по пятам ходят две тени – Хюррем и Ибрагима-паши, самого дорогого сердцу друга, самого больно ранившего предателя, верного себе, но не султану, даже после смерти, – пускай так. Пускай. Но он должен узнать правду.
– Открой лицо, – попросил Сулейман мягко.
Михримах все равно вздрогнула, затрепетала. Не только как учили, – от страха тоже. И немного еще от стыда: пускай отцом был ей султан, но еще и первым мужчиной, перед которым она должна была откинуть чадру. А если не отцом, тогда тем более стыдно!
Она, конечно, привыкла к тому, что когда они вдвоем с сестрой, то чадру носит лишь одна из них, та, которая сейчас «служанка»… И, конечно, чаще всего ею была младшая, Орыся. Но ведь это в гареме, там мужчин нет. Есть евнухи – и есть иногда мальчики, которые к тому же братья. Причем старшим из них теперь в гареме тоже делать нечего.
Но отказать султану, повелителю Блистательной Порты, было нельзя. Не в человеческих это силах, и уж тем более не в силах слабой женщины.
Михримах повиновалась. Стояла молча, глядя в пол, кусала губы, хотя должна была улыбаться. Но стыд и страх оказались сильнее науки.
Сулейман вглядывался в черты дочери. Вот этот разрез глаз – наследство от Хюррем, несомненно. Нос с горбинкой вроде бы его… но у Ибрагима горбинка тоже имелась! Кто сейчас разберет? Губы… чьи это губы? Изгиб чьих уст они повторяют? Кто целовал Хюррем в ту ночь, когда была зачата Михримах?
Фигура у нее будет материнской, султан видел это уже сейчас. И рост тоже такой, как у матери. Что ни говори, а похожа Михримах была на ту, которая для Сулеймана сейчас казалась драгоценнее всех сокровищ. На ту, которую, возможно, он скоро отправит на смерть, ибо нет преступления для женщины горше, нежели измена мужу. А если муж твой правит империей, то вина тяжелее втройне.
Томительно текли секунды, все реже звучали раскаты грома за окном и вскоре вовсе затихли, сменившись монотонным шумом дождя, а Сулейман все стоял, вглядываясь в напряженное девичье личико, не в силах заставить себя осуществить то, что должно. Наконец медленно, будто сам себе подписывал смертный приговор, откинул с висков Михримах тяжелую волну русых волос.
И замер, веря и не веря собственным глазам, в состоянии лишь мысленно благодарить Аллаха за милость, за то, что приговор отменили в последний момент, что все теперь будут живы и счастливы. Стоял так, сам не ведая сколько, уставившись на гладкую девичью кожу на висках, – никакой проклятой родинки, благодарение небесам! – и, может, простоял бы всю ночь, если б Михримах не покачнулась и не вздохнула судорожно, прикрыв глаза. Тогда Сулейман спохватился, отпустил дочь, и Михримах тут же тяжело осела на ковер.
– Что с тобой? Здорова ли? – В голосе отца звучало искреннее участие и, может быть, даже нечто большее. Радость? Разочарование? Михримах не знала. Знала лишь, что сейчас пришло ее время.
– Наверное… здорова… великий султан, я… – Рыдания прорвались, и были они совершенно искренними: девочка слишком много пережила за этот вечер. – Я была совсем не одета! Он схватил меня за руку и потащил! Я не знаю, что… чем я виновата… я упражнялась…
Горло перехватило, и Михримах начала беспомощно раскачиваться, сидя на ковре, тяжко, со всхлипами хватая ртом воздух. Сулейман бросился на колени сам, держал дочь за плечи, успокаивал, говорил, что виновный обязательно понесет тяжкое наказание.
– Не надо наказания! Просто разреши мне… ты султан… разреши надеть чадру! – И Михримах снова горько расплакалась.
– О, Аллах! Прости меня, дочь. Конечно, ты можешь надеть чадру. И я подумаю, чем вознаградить тебя за этот день, клянусь Пророком, мир ему! Ты будешь довольна.
Михримах прижималась к плечу отца и радовалась, что лицо ее привычно скрыто. Из глаз лились слезы, а губы сами собой складывались в довольную улыбку.
Чуть позже, когда стражи раз и навсегда увели визжащего, лепечущего что-то про ведьм Кару, когда султан лично, своим платком вытер дочери слезы, стража робко доложила, что султанша ждет у дверей.
Сулейман вздрогнул. Да, он сам запретил пускать к себе Хюррем-хасеки. Но было это, казалось, вечность назад. С тех пор все изменилось. Он сам изменился.
Он встал и вышел, чтобы встретить свою любовь, свою жизнь, свою хасеки.
– Прости меня, – сказал при всех, демонстративно не замечая, как округлились глаза стражей. И точно знал: Хюррем его поймет.
– Мой султан вправе проверять слова людей, говорящих ему об измене. – О да, Хюррем всегда была смелой и умела называть вещи своими именами. – Пусть молит о прощении тот, кто потревожил покой моего султана лживыми речами.
– Скоро он ни о чем не сможет умолять, – небрежно махнул рукой Сулейман и улыбнулся супруге. А его хасеки подалась ему навстречу. Как обычно.
Когда Михримах уходила обратно в гарем, мать обернулась к ней и одними губами произнесла:
– С тобой мы поговорим позже.
Михримах послушно кивнула. Она понимала, что разговор не будет ни легким, ни приятным. Хюррем-хасеки терпеть не могла, когда кто-либо нарушал ее приказы, а Михримах, честно скажем, напроказничала вдоволь.
Но понимала Михримах и другое.
Гроза в этот раз обошла стороной ее и ее семью.
3. Те, кто помогает
Орыся пришла в себя на кушетке.
Как-то медленно возвращалась она в этот мир, не сразу, странно и в то же время привычно: сквозь тягостный мрак, сквозь сладостную истому… желание снова закрыть глаза и забыться, чтобы в том забытьи увидеть что-то, от нее ускользнувшее… или вовсе ничего не увидеть…
А потом мутная пелена вдруг разом соскользнула с ее глаз и сознания.
Изразцовый потолок, белый с зеленым. Тень от оконного переплета в левом углу, обрамляющие стекла контуры сетчатых рам – восьми-, а не шестигранные.
Внутренние палаты, комната благовоний и притираний – вот она где сейчас.
Это не покои хасеки, где Орыся только что (или не только что?) находилась, а соседнее крыло. То, где расположены их с Михримах комнаты.
Девочка сначала сообразила это (зрение проснулось раньше, чем иные чувства), а потом уже почуяла «толстый аромат». Так они с сестрой шутили, потому что если сплетается целый ворох «тонких ароматов»: амбра, жасмин, мускус, фиалковый корень, розовое масло, – то получается… что? Правильно. Благовоние, которое уместно назвать «запах тяжело навьюченного верблюда в жакий день после трех фарсангов пути».
С сестрой…
Где Михримах?!
Спокойно. Не спешить, не выдавать тревоги. Еще раз оглядеться, прислушаться.
Да, Орыся лежит на кушетке, застеленной атласным покрывалом. И она полностью одета, лишь туфелек нет на ногах, а еще… еще нет головной повязки вместе с чадрой.
Откинуты ли волосы на виске? Так сразу не понять, но голова Орыси покоится на чьей-то руке. И пальцы этой руки – под волосами, нет ли – касаются того места, где родинка.
Медлить больше нечего, таиться бессмысленно. Орыся пружинисто повернулась на бок – и тут же всхлипнула от облегчения. Оказывается, она лежала на руке Доку, сидящего рядом с кушеткой.
Заметив, что девочка пришла в себя, евнух осторожно высвободил свою ладонь из-под ее головы, столь же осторожно, каким-то несвойственным ему замедленным движением встал, отступил на пару шагов. Это было странно, но, кажется, не свидетельствовало об опасности. Орыся вновь оглядела комнату: никого, кроме нее, Доку и «толстого аромата».
– Как я здесь оказалась?
– Я принес.
– Почему?
– А ты как думаешь? – Доку пальцами левой руки разминал предплечье правой. – Уже не таковы мои девочки, чтобы няня или кормилица на руках их носили. Да еще так далеко, через весь гарем.
– Далеко? – Орыся все еще не могла понять. – Откуда меня нести пришлось?
– Из Блистательного крыла в Младшее. Через два павильона и один двор.
Да, так и есть: последнее, что она помнила, это палаты хасеки, тревожное щебетание служанок вокруг… Значит, приказ хасеки никуда оттуда не выходить отменен?
Хотя в любом случае она сама его не нарушала…
Узкоглазый Ага закончил массировать руку, сделал круговое движение запястьем, придирчиво пронаблюдал за ним и, видимо, остался удовлетворен результатом. Затем осторожно пошевелил лопатками.
Тут только девочка сообразила: у наставника просто все тело затекло. Он, судя по всему, не шевелился с тех пор, как принес ее в покои, опустил на кушетку и сел рядом, держа руку у нее под головой.
– Я… Я что, потеряла сознание? – жарко покраснев, спросила она опасным от стыда голосом.
– Нет, что ты! – Доку-ага даже удивился. – Просто заснула. Так бывает.
– Никогда не слышала о таком, – возразила Орыся. В ее памяти уже снова было все, что предшествовало тому… тому моменту, как потемнело в глазах. Приход черного евнуха, путь через дворец… шипение Пардино… кровавый отпечаток на стене… странные и страшные огоньки в глазах матери… После такого не то что заснуть вот прямо там на месте, наоборот, неделю глаз не сомкнешь!






