Дочь Роксоланы Хелваджи Эмине
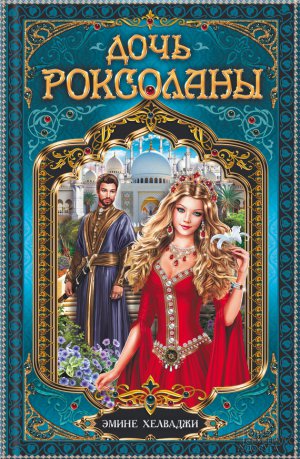
– Придумаем что-нибудь.
Орысе оставалось лишь поверить.
3. Что можно и чего нельзя
Огонек ночника тлел ровно, почти не мерцая, – ночь была безветренной.
Они лежали на соседних тюфяках. Как бы ни сложилась судьба, сестрам совсем немного ночей было суждено провести рядом, в их девичьей спальне, и они теперь каждый раз ощущали близость лихих перемен. Словно бы вся прежняя судьба утекала сквозь пальцы.
Орыся сегодня вечером была сама не своя. Михримах впервые почувствовала себя старшей. Позволила сестренке рыдать у себя на плече, вдумчиво гладила ее по волосам, шептала слова утешения и с угрызением совести вспоминала, что у нее-то самой все дневные мысли были лишь о собственном счастье или несчастье.
А они ведь с Орысей близняшки. С первого дня жизни ни на день не разлучавшиеся. Сейчас сказать про себя «Я важнее» не получится, во всяком случае, честно, ведь младшая (но старшая духом, что там им перед собой притворяться) никогда бы при таких обстоятельствах не думала только о себе. То есть без всяких «бы»: она ведь все это время только и заботилась о том, как бы спасти старшую, Михримах, от проклятого замужества…
Проклятого?..
Да, да, проклятого, если из-за него Орысе суждены такие испытания…
А какие, собственно?
…И если им из-за этого предстоит навсегда расстаться. Они сестры, они двойняшки, их нельзя разлучать! И если все – кисмет, то и борьба против судьбы – кисмет тоже. Тут уж какая судьба пересилит.
Будь она проклята, эта Иблисова метка! Она сама – а также их с сестрой абсолютное сходство во всем, кроме этой родинки. Насколько было бы все проще, родись они с разными лицами… Ведь бывают же и непохожие близнецы!
Орыся понемногу успокоилась, только всхлипывала изредка. Михримах продолжала гладить ее по голове и рассказывать о своей встрече с Рустемом. Разумеется, сейчас она говорила о том, какой он страшный, глупый, уродливый и старый, в отцы ей годится, и как хорошо, что они с Орысей и пленниками смогут от него убежать.
– В отцы… – Младшая в последний раз шмыгнула носом и задумалась. – А знаешь, у гяуров-машаякчи, тех, которые соблюдают обряд крещения, есть… как это называется… крестные отцы. И матери тоже.
– Слышала, конечно, – с удивлением ответила старшая. – Это ты к чему?
Они бывшими машаякчи окружены со всех сторон, такова уж Блистательная Порта: «турок» в ней – почти ругательство, обозначение деревенского простолюдина, предки которого по мужской линии во всех поколениях были слишком бедны, чтобы держать хотя бы маленький гарем и детьми от иноземных наложниц обзаводиться. Ну и служанки, рабы и рабыни, многие евнухи, янычары, добрая половина чиновников – кто они, как не в семьях машаякчи рожденные?
Няня с кормилицей таковы. Да и Рустем тоже. Не говоря уж о матушке, Хюррем-хасеки.
И не говоря об отце…
При этой мысли Михримах больно ущипнула себя за руку. Они с сестрой – дочери султана, а о чем-то ином точно не следует говорить, даже про себя!
– К тому, что за крестного отца, пускай он и совершенно чужой по крови человек, замуж выходить не положено. Так же, как и за родного. Что-то равное кровосмешению получается.
– Так ведь мы с тобой не гяурки, даже по рождению, – рассудительно заметила Михримах. – У нас с тобой нет никаких крестных. Даже Доку нам не таков. Он, кстати, и не из машаякчи вообще, а из каких-то совсем других гяуров.
– Да. Но все равно нельзя. – Орыся снова всхлипнула.
Так вот о чем она, оказывается, все это время продолжает думать…
– Да уж. От Доку у нас никаких секретов нет, – сухо заметила старшая сестра.
– С первого дня рождения… – подтвердила младшая. И вдруг отстранилась в ужасе: – Ты что?! Ты, значит, все-таки думаешь…
– Нет, что ты, сумасшедшая!!! – Михримах сама пришла в ужас. – Это будет совсем уж против всех правил, земных и небесных!
– Мама так не считает… – горестно сказала Орыся.
– Мама, – осторожно возразила Михримах, – считает порой так, что вообще ничего не понять. Вот и насчет меня с Рустемом она, не спросясь, посчитала.
– Наверное, она думает о своих внуках, – помедлив, предположила Орыся. – Решила так, что мне – ради безопасности всех нас – детей лучше не иметь, а вот о твоих детях… кто о них сейчас, загодя, позаботится лучше ее?
Михримах вздрогнула – так эта мысль совпала с ее собственной.
– Но ведь она может и ошибиться… – задумчиво продолжила младшая. – Рустем, он же наверх лезет, на самый гребень; а ну как сорвется? Может ведь! Наш… я хотела сказать, Ибрагим-паша… ты ведь помнишь, что с ним случилось? Поди угадай, что будет в таком случае с семьей изгнанника, даже если жена его с султаном в родстве. Может все же не поздоровиться и ей, и детям, будь они султану внуки или племянники…
Михримах вздрогнула снова.
– Говорят, как-то раз отец наш султан, узнав, насколько Рустем поднял налоги в подвластной ему провинции, приказал их снизить, а тот искренне удивился: как же это можно снижать уже назначенный налог? И народ, мол, не поймет, и казне урон… Отец наш султан стукнул кулаком по колену и подтвердил приказ, Рустем, низко кланяясь, заверил его в своем полном повиновении, – но потом все равно как-то так устроил, что налог снижен не был.
– Не слышала. – Михримах с трудом подавила желание язвительно ответить: «Мы-то с тобой налоги назначили бы куда разумнее, так ведь?»
– Зато он, как верноподданный, получивши в жены девицу от семени султана, «ритуал вползания» будет исполнять неукоснительно. – Орыся, только что лившая слезы, уже стала собой прежней, беззаботной и бесстрашной насмешницей. – Иной паша-воитель, пожалуй, и пренебрег бы: кто на него донесет, не жена же – а вот паша-казначей этот обряд станет соблюдать с особой скрупулезностью, гордясь оказанным доверием. Не только во время первой брачной ночи, но и потом, все те годы, что длится супружеская жизнь. Представляешь, ты ждешь его, томно раскинувшись на ложе, облаченная только в красоту свою, а он, войдя в опочивальню, каждый раз становится сперва на колени, потом на четвереньки, затем и вовсе ложится на брюхо – и так доползает к постели и вползает к тебе в объятия. Первый год это тебе даже лестно будет, второй – забавно, на третий ты про себя браниться начнешь, а все следующие – уже и вслух… Но бесполезно: достойный супруг каждый день, то есть ночь, год за годом, с гордым выражением всего себя все ползет и ползет, как клоп постельный.
– Веселее не придумаешь, – коротко согласилась Михримах. Ее прямо-таки передернуло.
– Ты что? – Орыся, почувствовав неладное, придвинулась к сестре вплотную, погладила ее по щеке. – Ты только не бойся… У нас все получится!
– Хорошо бы… – пробормотала Михримах, к которой вновь вернулось ощущение, что она перестает быть старшей. – Я боюсь только одного – не оказались бы наши ребята, мой и твой, в делах постельных еще более диковатыми. Мы, сокровища гаремной выучки, им не в коня корм будем… Ведь в их краях, кормилица рассказывала, после первой ночи, представляешь, кровь не на простыне надо показывать, а на рубахе!
– А я не боюсь. Научим… – Орыся махнула рукой, – наши ведь ребята, ты все верно сказала! Твой и мой!
– Тогда я тоже не боюсь… – вздохнула Михримах.
И опустила взгляд.
4. Визит госпожи
Михримах встала рано. Босиком и на цыпочках, чтобы не разбудить все еще спящую сестру, вышла в соседнюю комнату. Но не разбудить ночевавшую там кормилицу ей, конечно, не удалось.
– Что-то случилось? Куда ты в такую рань? – не на шутку встревожилась Эмине. И привычно начала ворчать, в четверть голоса, потому что тоже помнила о дремлющей через стену Орысе. – С ума я от этого ребенка сойду… Возраст невесты уже, а все равно что маленькая девочка, за которой нужен глаз да глаз. И все бегает куда-то, где-то носится. И секреты у них с сестрой, все-то сплошные секреты… с сестрой да с Узкоглазым, шайтан его побери… Совсем голову потеряла. Знать бы, от чего, да ведь, поди, и сама не знает…
Михримах лишь отмахнулась:
– Ничего не потеряла я голову! Есть кое-какие дела, о которых я, да, тебе не все рассказываю, ну так ведь я уже и вправду не маленькая девочка… Так, умываться, причесываться, одеваться и завтракать, только тихо. А после утреннего намаза съездим к одному человеку.
Кормилица только рот разинула. Девушка лукаво прищурилась и тоном ниже добавила:
– К Рустему-паше.
Эмине лишь руками всплеснула и одобрительно закивала:
– Вот и правильно, милая, так и надо. Хороший человек, на заслуженном месте. И жених видный, и ничего, что старше, пусть, это только хорошо, зато не обидит, всегда приласкает, лелеять будет, такой-то цветочек! Ведь какой подарок-то уже сделал, загляденье одно.
– Вот уж кстати напомнила! А я бы и забыла надеть…
– Ну да, так я и поверила тебе, детка. Непременно надень это ожерелье. Оно и правда очень красивое.
– Тебе нравится?
– А как же!
– Вот и мне…
Она не вернулась в спальню: зеркала были и здесь, а шкатулке с драгоценностями здесь даже полагалось храниться, ну а то, что они с Орысей ее иной раз к себе брали, так это как раз нарушение дворцовых правил. Порхнула к шкафчику, вытащила ларец, с нетерпением открыла. Достала тот подарок паши, о котором шла речь, – золотое ожерелье в три цепочки, с изумрудами и рубинами вдоль орнамента.
Подошла к зеркалу, примерила. Смотрелось украшение потрясающе, в тон глаз и в тон волос. Кто бы мог подумать, что мужчина сумел оценить, насколько это важно…
Еще бы наряд к нему соответствующий, но это они сейчас непременно подберут.
– Красиво-то как… – вздохнула кормилица. И засуетилась вокруг, причесывая свою ненаглядную и такую взбалмошную питомицу. – Я и говорю, знающий человек паша, понимает толк и в золоте, и в каменьях, не случайно же он всеми денежными делами заправляет у твоего батюшки, да уж и во всей стране. Вы прекрасно подходите друг другу, прекрасно! И детей у вас будет много, да снизошлет Аллах вам их столько, сколько пожелаете.
Михримах слушала и загадочно улыбалась. Да, дети. Только вот не от Рустема-паши она бы их желала, а от… кое-кого другого. Усатого, чубатого и кареглазого.
Почему-то все мысли только о нем. И снится постоянно. И будто рядом всегда, руку только протяни и дотронешься. Неужели вот это и называется любовью?
Гарем есть гарем. Михримах не раз приходилось слышать, как девицы и женщины – юные, постарше и вовсе пожилые, уже под тридцать, – именно так эти чувства и описывали, закатывая глаза и хватаясь за грудь. Только вот сердце у Михримах бьется лихорадочно от той самой любви или все же от страха?
От страха. За будущее. Чего уж перед собой таиться…
Но если и так, то за их ли с чубатым возлюбленным будущее? Или за собственное прежде всего?
Поди угадай…
Ей ли, дочери самого султана, не знать, что бывает с теми, кто султана ослушается, не выполнит его наказ, а уж тем более предаст. Тут пощады не жди.
А не ввязались ли они с Орысей в заведомо проигрышное дело? Не потеряют ли они все, ничего взамен не приобретя? Не погубят ли себя этими чувствами?
И если уж на то пошло, то не погубят ли заодно Тараса и Ежи? Ведь это еще то ли правда, то ли нет, что им на параде пленных кораблей грозит хоть какая-то опасность. Вполне возможно, что их для другого в башне держат. А даже если и так, то, может быть, лучше спасать узников, будучи не беглянкой, а молодой госпожой, которой даже сейчас кое-что подвластно, а вскоре будет еще больше?
С некоторых пор такие мысли все чаще посещали Михримах. Не поторопилась ли она?
Однако пока еще эти мысли просто приходили, чтобы тут же исчезнуть, не задерживаясь. А потом опять все думы, дневные и ночные, были про Тараса, только про него, не про Рустема, старого, толстого.
Или…
Или.
Зерна, что называется, были вброшены, а зверек сомнения перестал дремать, но временами поднимал голову и оглядывался в поисках выхода. Себе это Михримах объясняла так: будущая женщина, пробуждаясь в ней, ищет выход из сложившегося лабиринта. Такой выход, который ей нынешней, девчонке, покамест не распознать.
Наверное, задуманная на сегодня поездка к Рустему-паше тоже являлась, по сути, этим поиском. Только об этом толком не было ведомо даже самой Михримах. Лишь о чем-то она догадывалась, но совсем смутно.
Не знала она и того, что такое безошибочное женское чутье не раз и не два спасало ее мать, с ведома и по воле которой для Михримах сейчас откроется возможность утренней поездки. Видно, правда, когда говорят, что виноградинка к виноградинке…
А пока она отложила ожерелье: не поверх же рубахи его носить. Напоследок, едва в силах расстаться даже на короткий срок, провела пальчиком по изумрудам, которые всегда считала самыми прекрасными среди драгоценных камней (янтарь – это совсем отдельно, сейчас он не в счет). И откуда только Рустем-паша прознал о ее страсти именно к ним?
Хотя, конечно, это только для непосвященных дворец султана – тайна за семью печатями, сад запутанных тропок. Сведущий же человек, а в особенности человек статуса и возможностей Рустема-паши, может узнать все необходимое буквально за один день. Золото еще никого не заставляло молчать, скорее уж наоборот.
А хватка у паши, все знают, железная. Вернее, позолоченная, с оттенком благородного металла.
– Завтракать и одеваться! – Михримах опять повеселела. Она даже приобняла кормилицу, чмокнула в щеку (та аж оторопела) и просеменила к дальней двери, чтобы отдать приказания служанкам. «Внешним» служанкам: сюда, в эту часть покоев, им доступа не было. Запрет накладывала сама хасеки-султан, и не ее дочери такие запреты отменять.
Покамест.
Тревожные мысли и неясные предчувствия куда-то улетучились, на смену им пришло ощущение перемен. Это было здорово, трогательно. Это было, в конце концов, просто восхитительно!
Какие именно перемены ожидаются в ее жизни, девушка пока не особенно задумывалась. Цену плаща узнают в дождь.
За завтраком (жареные перепелки, кунжутная паста, ароматные лепешки, пирожки, зелень, фрукты и шербет со сладостями) Эмине рассказывала последние сплетни из жизни гарема, и не только. Михримах от души хохотала, слушая про вражду Сумбюль-аги с новым евнухом. Все это происходило под эгидой Хюррем-хасеки, но узнать, кому именно она покровительствует больше, никак не удавалось – что, собственно, и породило соперничество. А вот недавно Сумбюль с помощью своих подручных в бане устроил противнику такой сеанс персидского массажа, что тот после этого два дня ни встать, ни лечь не мог. Забавная история, как раз для завтрака и хорошего настроения.
Потом кормилица поведала, как город готовится к Месир Маджуну и карнавалу, и тут Михримах опять заулыбалась – очень уж многое было намечено на этот праздник, многое, если не главное в ее… в их с сестрой грядущей жизни. Однако следующая мысль эту улыбку стерла.
Вздохнув, взяла пирожок с курагой, надкусила – и отложила. Аппетит куда-то пропал. Словно добавляя грусти, Эмине рассказала историю о трагически завершившейся любви одного из янычарских командиров, бейлербея Малкоч-оглы, к Армин, дочери лекаря-еврея. Михримах на миг отвлеклась, а может, кормилица упустила суть, за ней такое водилось, – в общем, из ее рассказа так и не удалось понять, отчего невеста, уже готовая к переходу в истинную веру, вдруг умерла на руках янычара. Но все же получалось, что она, наверное, счастливой умерла.
«Мне бы так! – подумала девушка. И тут же оборвала себя: – Нет, хватит! Жизнь продолжается, и в ней еще многое нужно успеть».
Она решительно встала, оборвав на полуслове верную кормилицу:
– Все, пора ехать! Что только надеть к ожерелью, Эмине? Давай посмотрим.
Хлопоты с выбором наряда заняли продолжительное время. То одно Михримах не нравилось, то другое. То цвет не соответствовал, то покрой, то все вместе. Наконец остановились на платье из светлого бархата с длинными рукавами, зеленых шальварах и изящных туфельках с острым носиком. Тщательно уложенные волосы с серебряной диадемой и то самое ожерелье дополнили и преобразили Михримах неузнаваемо. Девушка-подросток словно исчезла, и из зеркала вместо нее взглянула Юная Госпожа, полная пленительного достоинства, знающая себе цену.
– Красавица! – восхищенно приговаривала Эмине. – Истинная дочь султана! Михримах-хатун, Михримах-султан!
– Не торопись, кормилица… А впрочем – да! – Михримах гордо подняла голову. – Именно!
И отправилась на выход, где уже давно ждал поданный экипаж. В дверях к ней присоединились охранники-чауши, а за каретой пристроились шестеро всадников в полном боевом облачении – дочь султана следовало охранять как подобает. На то она и дочь султана.
Две служанки и два евнуха – те и другие «дальние», «внешние» – следовали за девушкой, как счетверенная тень.
Уже садясь в карету, Михримах вдруг поняла, что гложет ее сердце: Орыся так и не вышла из спальни.
Нет, она, конечно, не собиралась брать младшую сестру, под чадрой, как служанку, к своему жениху… к тому, кого матушка-хасеки прочит ей в женихи, – пока все же лучше так сказать. Это было бы слишком жестоко.
Но… разве менее жестоко было вот так взять и ни разу не вспомнить о сестре в это утро?!
Михримах до боли прикусила губу.
Узкоглазый Ага видел все: и готовящуюся к выезду процессию, и сам выезд. Что ж, девочка в своем праве. Михримах – тоже его девочка, а это – ее кисмет, судьба. Его же кисмет – служить и защищать. А вдобавок все замечать, все видеть. И не верить в совпадения.
Особенно в такие, накануне праздника Месир Маджуну…
Доку лишь чуть покачал головой. Осуждения в этом жесте не было. Он слишком многое повидал на свете. Многое и разное.
У городской резиденции Рустема-паши в это утро почти никого не было, но карету Михримах встретили как подобает. Сам софраджи-баши, старший дворецкий, подскочил к экипажу и услужливо открыл дверцу.
– Госпожа, рады тебя видеть! Господин у себя, такая честь, такая честь…
Слуги уже разворачивали перед каретой ковер, чтобы дочери султана не пришлось сделать по непокрытой земле даже один шаг. Служанки выскользнули из кареты и, не наступив на ковровую дорожку, просеменили по обе ее стороны. Евнухи, спрыгнув с запяток, последовали за ними.
Навстречу уже шел сам Рустем-паша, ослепительно, хотя, кажется, чуть растерянно улыбаясь и почтительно склоняя голову.
«Какой же он все-таки толстый и маленький», – вдруг с неприязнью подумала Михримах, глядя на жениха, но сама тоже улыбнулась. Этикет прежде всего, особенно в таких случаях, когда он позволяет улыбаться не просто так, а снисходительно. Глядя на хозяина дома сверху вниз. Впрочем, оно бы в любом случае только так и получилось, не подпрыгивать же ему все время.
– Госпожа? О, госпожа! Госпожа Михримах! Чем обязан столь волнующей встрече? Не желаешь ли пройти в сад? Или шербету?
– Благодарю, лучше в сад.
От паши не ускользнуло, какое украшение, помимо диадемы, было надето на Михримах-султан. Его украшение, его подарок. Именно его. И ей оно очень шло, было к лицу, о чем паша не преминул тут же сказать.
– Спасибо, это изысканный дар, я буду носить его с радостью.
Беседуя ни о чем, прошли в сад, присели на скамейку у фонтана. Журчание воды успокаивало, умиротворяло, к тому же веяло от нее прохладой. В перенаселенном и жарком Истанбуле такие дворики – высшая драгоценность, даже у тех, кто имеет счастье лично служить султану. Между тем Рустем здесь почти не живет: то в разъездах, то днюет и ночует прямо в дворцовой канцелярии… А вот, надо отдать ему должное, не пожалел средств и внимания, чтобы содержать уютный дом.
Рустем-паша взмахом руки отослал своего дворецкого: скорее по привычке, нежели по необходимости. Восьминогую тень – двух евнухов и двух служанок – он отослать, разумеется, был не вправе: это обязательное сопровождение дочери султана, когда она вне дворца и пока она не замужем.
– Чем обязан, моя госпожа? – Рустем-паша чуть понизил голос. – День воистину будет удачным, коли начинается с такой встречи!
А Михримах вдруг растерялась. По пути сюда хотелось сказать о многом, сейчас же совершенно неожиданно она поняла, что кое о чем говорить рано, а о иных вещах и вовсе не стоит.
Едва лишь она осознала это, как перед глазами опять, словно наяву, возник Тарас. Глаза его. Руки. Улыбка и восхищение во взгляде. Наваждение какое-то! Но наваждение приятное, пусть и не к месту.
Она искоса глянула на хозяина дома, напряженного, чего-то ждущего. Казначей, человек опытный и искушенный, но сейчас толком не понимающий, как себя вести в обществе дочери султана, был смешон и сам чувствовал это. Да еще вдруг навалилась усталость.
Проще одной рукой держать за шкирку тигра, другой ловить блоху, а зубами стиснуть хвост шайтана, чем блюсти финансы Блистательной Порты. Михримах-султан считается его невестой, но свадьба и все, что ей сопутствует, пока еще в отдаленном будущем, чересчур туманном. Мы же живем здесь и сейчас. А сейчас такое время, что малейший просчет может обойтись дорого, очень дорого. Это даже если не говорить о серьезных ошибках, за которые и вовсе расплачиваются головой. И не чьей-либо, а собственной.
– Я… Я просто заехала узнать, как идут твои дела, многодостойный Рустем, – сказала Михримах. Никакого другого ответа ей в голову не пришло.
– Благодарю, госпожа, Аллах не оставляет раба своего в его стремлении служить султану, да славится имя его, в радость!
И так далее, в том же духе. Разговор по-прежнему шел ни о чем – пожалуй, к облегчению обоих собеседников. Со стороны казалось, что беседуют брат с сестрой, беседуют чинно, благородно, не повышая голоса и не делая ни единого лишнего движения, как и положено в хорошо воспитанных семьях. А что брат намного старше молоденькой сестры, так ведь подобное не редкость.
Лишь под конец беседы, уже вставая, Михримах вдруг решилась.
– Я еще заеду к тебе на днях, многодостойный Рустем, ты не против? На праздник Месир Маджуну, – произнесла она, словно бросаясь вниз головой с обрыва.
– Почту за величайшую честь, госпожа. Если же меня в тот вечер вызовут во дворец – дела ведь не знают ни будней, ни праздника, – то я поспешу известить тебя о том. Тогда тебе даже не придется утруждать себя поездкой.
Густо покраснев, Михримах заспешила из сада прочь, оставив Рустема-пашу в полном недоумении.
5. Слово о двух обителях
Солнце в их каземат заглядывало дважды в день, но через противоположные бойницы.
Сейчас как раз было время его вечернего посещения: солнцу-то никто не указ и не помеха. А вот девчонок не было уже вторые сутки.
Узники, казак и шляхтич, само собой, никакой тревоги не выказывали. Еще чего! Не мальчишки они, даже не такие уж и юнцы: вместе, на двоих, им за сорок. Можно сказать, старость скоро. И вообще, истовому рубаке до столь немолодых лет жить зазорно, да и тревожиться о чем-то невместно. А они рубаки как раз такие.
Ведь о том, что их ждет – да уж, наверное, скоро, когда турки наконец соберут достодолжное число пленных кораблей, чтобы отметить торжество, – они оба думали без трепета. Так им ли о бабах беспокоиться?!
Во всяком случае, на их лицах было написано именно это. Да только нет здесь, в каземате, стороннего, чтобы такие знаки читать. А самих себя Тарас и Ежи обмануть не могли. За время совместного плена они друг к другу слишком хорошо присмотрелись.
– Как думаешь, что такого они нам хотели поведать? – шляхтич не выдержал первым.
– Об именах наших? – тут же отозвался казак.
– Да.
– Вот уж не знаю… Мой-то заступник – он из здешних. Небось и церковь его тут должна быть. Даже не одна, наверное.
– Если ее в мечеть не переделали. Или все их.
– Это османы могут, – вздохнул Тарас. – Хорошо, хоть…
– Что «хорошо»? – поинтересовался Ежи, когда понял, что продолжать казак вроде как раздумал.
– Хорошо, что место его упокоения они в свою басурманскую церковь не переделали, – неохотно сказал Тарас. – До сих пор монастырь там. Православный, наш. Ну, греческий то есть.
– Ты там был? – Ежи приподнялся на локте.
– Да, – коротко ответил казак. – Почти.
– Как это «почти»?
– Рядом был.
– Ладно, не хочешь рассказывать – твоя воля. – Ежи сел, подобрав под себя ноги (тут, в застенке, или учись сидеть по-османски, или вовсе никак: лавок никаких нет, стульев тем паче). – А только странно это, согласись. Не всякому и не каждый день доводится бывать рядом с монастырем, где погребен его святой покровитель. А уж быть рядом и не побывать в самой обители, не поставить в ней свечку, над могилой не помолиться – это вообще мало кому удается.
Будь они хуже знакомы, не миновать бы стычки. Но в плену люди отлично понимают, что можно друг другу говорить, а что никак. Этот вопрос задать было можно. Все-таки да.
– С борта чайки я видел, когда мы по-над берегом подгребали, – по-прежнему без охоты сказал Тарас. – Мне еще Котовлас Расстрига пальцем ткнул: мол, видишь? А что именно, не сказал. Ну, я вижу, само собой: золотые маковки, кресты на них наши… Так ведь по Босфору много монастырей.
– А-а, – понимающе кивнул Ежи, – так ты, значит, по земле там и не ходил. Ну, такое случается. Я вот…
– Ходил я там по земле, – голос казака сделался совсем мрачным. – Мы ведь не только подгребли, но и причалили. А как стемнело, атаман Порох и скомандовал: село с двух сторон зажигай, кто с оружием выскочит, тушить вздумает или вообще слишком резвый – в сабли, а посад – дувань быстро, тяжелого не хватай… И отгребаем. И чтоб девок на каждую чайку больше полудюжины не тащили: не бездонные, мол, для прочей добычи место тоже потребно. Только атаманская, наибольшая, ладно, еще десяток примет, кроме добычи. А когда дуванили уже, Котовлас мне сквозь пламя снова показал: дескать, видишь монастырскую стену, слышишь набат? Это монастырь твоего небесного заступника, Тарасия Константинопольского. Помни сам и внукам, если доживешь до них, рассказывай, как близко ты от него был.
– Да… – Ежи не знал, куда глаза девать. Дернул же его нечистый с этими расспросами! – Село хоть османское было?
– То-то и оно, что греческое… – вздохнул Тарас. – И набат – он не только от монастыря доносился. С сельской звонницы тоже.
Луч вечернего солнца протянулся через восточную бойницу, вспыхнул пятном на стене. Казак дотронулся до него пальцем, потом осторожно ввел в поток света – пылинки кружились в нем – всю ладонь, будто в струю ручья. Медленно зачерпнул оттуда горстью. И, продолжая держать пальцы ковшиком, поднес к лицу по-прежнему пустую руку: свет, он все же не вода…
– Эй! Эй, ты того, опомнись все же. – Ежи потряс товарища за плечо. – Вины на самом тебе такой уж большой нет: святой Тарасий, думаю, точно тебя простит. Это вот атаману Пороху небось придется узнать, какого цвета огонь в геенне…
– Да он и при жизни узнать успел, – ответил Тарас все так же мрачно. – Все ж ему, умнику, говорили: не ходи ты за добычей в Босфор, гололобые этого, может, и вправду совсем не ждут, проспят сам набег, однако, когда обратно суда будешь вести, наверняка десять раз проснутся… Вот и проснулись. Нас-то, позади шедших, перехватили, зажали галерами, а атаманская чайка, головная, на прорыв пошла – да сразу и вспыхнула, как смоляной факел. Вместе с людьми, дуваном и полоном, девками то есть. Все видели…
Тарас опрокинул ладонь, которую все еще держал ковшиком, над своим лицом, будто и правда солнечным лучом, как водой, омывшись. И вдруг встряхнулся, точно сбросил тягостные воспоминания.
– Ладно, что было, то было. Прогребли мимо. Теперь твой черед.
– Да я уж и начал… – сказал Ежи. – Мне ведь тоже монастырь моего небесного покровителя с моря видеть довелось, а причалить и молебен там заказать или хоть свечку поставить не было никакой возможности. И в том моей вины тоже нет. Хотя бы потому, что был я на борту османской галеры. В цепях. Это та святая обитель, что на острове Принкипо. Совсем уж рядом, только что отсюда, из нашей башни, ее не рассмотреть, а так-то из Царьграда видно. Иначе бы мне про то и не узнать. А вот как нас на царьградском рейде вывели из трюма на палубу, так мне… пусть не расстрига, но бывший ксендз указал: глянь-ка, мол, вон туда… напоследок.
– Так что же, Егорий Храбрый там погребен? – заинтересовался Тарас.
– Не там, – коротко ответил Ежи. – Но если рассудить, то усыпальница его, выходит, в нынешней Турции. Как и место рождения.
– Да ну, скажешь… – недоверчиво протянул казак, – чего Егорию у турок делать было?
– А Тарасию твоему чего?
– Сравнил! Он же не в Турции, а в Греции жил. На то и Константинополь.
– Вот и Георгий. Он и вовсе в Риме как жил, так и муки принял. И погребен там. Не в том Риме, который город, а том, что страна.
– Да… Мы ведь, получается, тоже в Риме муки примем. Во втором который. Царьград.
– Точно. А вот забавно вышло, что нам сюда такими разными путями попасть довелось, из одной-то службы у кнеж Ивана.
– Я у кнеж Дмитрия в войске был, – набычился Тарас.
– Ладно тебе, мы ведь с тобой это в пустой ступе толкли, в порожний ушат переливали… Кабы не был жив кнеж Иван Вишневецкий, то и служил бы ты у того Вишневецкого, который Дмитрий Иванович. А при живом отце сыну не служат.
– А вот и такое случается. Ты моего Байду не замай!
– Да будет тебе… Еще нам подраться из-за этого не хватало. Здесь да сейчас…
Драться они, разумеется, не стали, но посмотрели друг на друга угрюмо. Затем Тарас первым хмыкнул.
– И точно забавно, прав ты. Наши головы с соседних пик еще вдосталь друг другу наухмыляются.
Они оба рассмеялись: весело, беззаботно, как удачной шутке. Таковой она для них и была.
– Эх, да что уж об этом гадать… – отсмеявшись, вздохнул Тарас. – Давай лучше о свободе помечтаем. О ковыльной степи, о широком Днепре, о верном коне и острой сабле, о звездных ночах, о диком ветре и боевых товарищах – вот мои думы!
– А как же Михримах твоя? О ней совсем не думаешь? – поинтересовался Ежи. Хотя тоже сейчас вспоминал и широкие реки, и дикие ветра, и коня верного.
– Моя? А впрочем, опять прав ты, – помолчав, ответил Тарас. – Думаю. Только это уже другое. Люба она мне, верно. Сам и не заметил, как так вышло. Но… Но не умею понять, что ж я буду без вольницы-то делать?! Без товарищей, без ночевок под небом, без седла и сабли… К тому же товариство наше не очень-то и дозволяет такое: чтоб у кого жинка, дом и хозяйство… Скажут – обабился казак, сам собой быть перестал!
– А товариство тебе во всем указ? – Ежи не оспаривал, а именно спрашивал, ему и вправду любопытно было: на службе у Ивана Вишневецкого он о казачьих отрядах только и знал, что есть такие. – Больше, чем ты сам? И больше, чем кнеж Иван? Ну ладно, не горячись, пусть будет кнеж Иван с кнежем Дмитрием-Байдой вместе.
– Не знаю… – признался казак. – Может, и не во всем, но во многом точно. Ведь без него, без товариства, и я сам уже буду не я, а кто-то другой. С таким же чубом, усами, с тем же нравом, но другой…
Он помолчал. Снова протянул ладонь к лучу, зачерпнул из него горсть солнечного света, омыл им лицо и продолжил:
– Или, может, все же нет? Как разумеешь, друже?
Ежи в сомнении покачал головой.
– Вот уж нашел у кого спрашивать. Я в таком деле точно не мудрее тебя. Да и вообще, о чем мы говорим… Будто девчонкам нашим по силам усыпить стражу, разомкнуть засовы или уж просто пройти сквозь каменную стену, а потом еще и нас за собой провести. Им самим бы…
– Стой! – Тарас предостерегающе вскинул ладонь. – Не говори. Накличешь.
И вплоть до темноты они больше не сказали друг другу ни слова. Да и когда на башню опустилась ночь, тоже молчали.
Только бы все ладно у девушек было, пусть даже они и не сумеют больше прийти. Только бы не накликать на них беду. Только бы…
6. Греческий лаз
Орыся, выйдя из покоев, сестру уже не застала. Басак-ханум, слегка встревоженная, рассказала младшей из своих питомиц, когда уехала старшая, с кем и, главное, куда.
Уже к концу рассказа стало ясно: няня на самом-то деле была очень встревожена – не за себя, а за Орысю. Басак не сомневалась, что для той эта весть окажется тяжким ударом.
Девушка только улыбнулась про себя – впервые после вчерашнего разговора с матерью, перевернувшего душу.
Ни кормилица, ни нянюшка не понимают: Михримах ведет игру. А ей-то даже незачем с сестрой говорить, чтобы понять это. Они, слава Аллаху, близняшки.
Старшая все правильно делает. Нечего шарахаться от Рустема: теперь, наоборот, надо усыпить его подозрения. Ну и возможностью свободного выезда из дворца тоже нужно воспользоваться. Пусть это та еще свобода: с конными стражами вокруг кареты и евнухами на запятках… ну ладно, служанок, что внутри, считать не будем. Но раньше и такой не было.
Беда в том, что они с Михримах слишком поздно сообразили: путь, которым они выбираются из дворца, кажется, только для них и доступен. Причем им, четырнадцатилетним, пройти по этому пути было просто, а им нынешним – не так уж.
Подземный ход. Даже не просто подземный, а внутристенный большей частью. Благо наружная стена, превращающая дворец в боевую крепость, по-настоящему толстая. Ее, как видно, и сооружали так, чтобы внутри оставалась узенькая тропка-лаз. Давно это было, еще до того, как Мехмед Завоеватель взял Истанбул, тогда Константинополис, под руку правоверных. Потому и не значится этот ход ни в одном из дворцовых планов.
Сестры наткнулись на него случайно, упражняясь в лазании. Это было одной из положенных гаремных наук, то есть не лазание как таковое, а гибкость, растяжка сухожилий, мягкая пластика мышц, способность обвить, охватить, прогнуться или выгнуться…
Ладно, не стоит об этом сейчас. Почему-то Орысе вдруг стало неловко об этой науке думать. Хотя без нее они бы ни на башню не вскарабкались, ни…
При мысли о башне девушке сделалось вдвойне неприятно, и она отбросила мысли о гаремных упражнениях.
Раньше такого не было. Собственно, лазить их с сестрой приохотил Доку, когда они пожаловались ему, что по этой дисциплине отстают и вызывают неудовольствие наставниц. Тогда-то Узкоглазый Ага и показал им кое-какие упражнения: карабканье на стену, спуск по веревке, – причем показал с какой-то неожиданной страстью. Видно, этими боевыми знаниями (о чем они много позже догадались) у него доселе не было возможности с кем-то делиться. То ли не требовалось этого от янычарского наставника, то ли, что скорее, он сам предпочел держать их в тайне.
Далеко не сразу Доку спросил, для какого именно из преподаваемых им искусств эти навыки требуются, ведь и вправду же не для того, чтобы подобраться к часовому на вражеском бастионе. А они, дурехи малолетние, все ему простодушно объяснили. Так, мол, и так, это для услады будущего мужа, ведь надобно уметь многое, чтобы на ложе не лежать бревном, но сводить его с ума. Не простолюдинки же они тяжелозадые!
Узкоглазый, бедняга, только зубами скрипнул и больше никогда не возвращался к этой теме.
А они с Михримах, убедившись, что уроки Доку и правда помогают лучше, чем наставления гаремных преподавательниц, с тех пор при каждой прогулке норовили в лазании упражняться. Удобнее всего для этого была стена одной из старинных куртин в уединенном уголке дворцового парка, начинающаяся ниоткуда и выходящая в никуда. Вот по этой-то стене, с обеих сторон окруженной тенистыми зарослями, они и карабкались, когда вдруг под ногой у Орыси бесшумно провернулся камень и девочка, не вскрикнув, соскользнула…
Нет, не на землю у основания стены (тогда бы точно кости поломать), а гораздо ближе. В самые ее, стены, недра.
Трудно сказать, куда этот ход вел. Откуда, это если начинать путь из дворца, – ясно: от такого же, только большего, поворачивающегося камня в основании стены неподалеку от Грозной башни.
Стена в том месте тоже грозная, самый высокий и неприступный участок: и нынешнего дворца, и, надо думать, той византийской крепости, которая частью была на его месте. Потому часовые там наименее бдительны. Да еще повезло в том, что просматривался этот участок плохо – и со стены, и с башни, и с улицы.
Впрочем, это, разумеется, не просто повезло: так греки-строители и планировали, зачем-то им это нужно было. Другое дело, что они не могли предвидеть, как пролягут улицы через полтора-два века после них, уже при другой власти и даже в другой стране. Вот тут действительно повезло, да.






