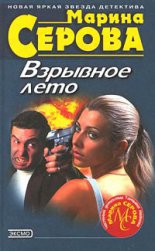Украинская каб(б)ала Крым Анатолий
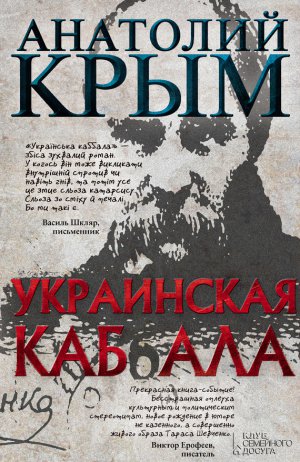
Ах, господа читатели! Ничто так не тревожит писательскую душу, как эта музыка! Ничто так не способствует полету сочинительской фантазии, как ароматные пары жаркого, летящие из кухни прямо в твою ноздрю, ничто так не оживляет рифму, как вид запотевших графинчиков с лимонными, вишневыми и можжевеловыми наливками! О маслятах, груздях, ломтиках копченого сала, нежной розовости говьяжих языков и золотистых куриных грудках я со стоном Гаргантюа умолкаю, почтительно уступив сей плацдарм незабвенному Николаю Васильевичу. И как вовремя я вспомнил о своем гениальном земляке! Едва докладчик подошел к моему стиху, которое я посвятил Гоголю, как вспомнились наши с ним беседы, его печальная поэма о Чичикове, и тотчас же я нашел себе любопытное занятие, называемое физиономистикой.
О, Николай Васильевич! О милый мой собрат, продавший Мефистофелю свою бессмертную душу за великую славу в грядущих поколениях! Невыносимо захотелось, чтобы ты, стыдящийся своего происхождения великий хохол, очутился сейчас в этой зале и вместе со мной выглядывал среди этой публики свои незабвенные персонажи. Лично я насчитал трех Маниловых, шесть Коробочек, двенадцать Собакевичей, две дюжины Ноздревых и двадцать шесть Плюшкиных. Остальные, несомненно, принадлежали к холопскому сословию либо служили подавальщиками, так как на их лицах решительно невозможно было прочесть что-либо значительное. Один лишь лакейский восторг и потуги чрезвычайного внимания.
К вящей славе Господней, докладчик закончил свою молитву, и вздох облегчения потряс зал. Затем Вруневский поклонился мне и взошел в президиум, где протянул руку, которую я после некоторого колебания пожал, да так сильно, словно желал, дабы она отсохла и более уже ничего не писала.
После Вруневского слово дали какому-то Хнюкало, которого здесь почитают, словно он сочинил одно из Евангелий. Сей мордатый старец долго рассказывал собранию, что он такой же горемыка, как и я, родом из бедной селянской семьи, что он тоже был пастушком у черниговских богачей, бредил малярством, а потом, прочитав в малолетнем возрасте «Кобзарь», ударился в сочинительство и босоногим из Нежинского уезда пришвендял в Киев. Ноги, как он уверял, сами донесли его в это славное здание, которое он не покидает седьмой десяток лет, и даже годочков двадцать выпасал писательскую отару, не выпуская из рук лиру. После чего, пошевелив мохнатыми бровями, монстр обслюнявил меня и вручил свои книги «Страшный суд» и «Тихий ужас» с дурацкой дарственной надписью.
Выступили также и другие литераторы, в основном дамы, с чтением стихов, посвященных моей персоне. Стихи, как назло, были отвратительными, и, хотя дамы были весьма откровенны в зарифмованных намеках на экстаз, который мне перепадет, обрати я на них свое внимание, я постоянно вздрагивал и, скрестив пальцы от сглаза, шевелил губами и незаметно сплевывал через левое плечо. Однако попадались экспромты, вполне пригодные для альбомов. В мою молодость сии альбомы были в моде, особенно в дамских будуарах. Я, помнится, исписал княжне Репниной целый альбом, что, впрочем, никак не отразилось на наших отношениях, разве что эта дура стала преследовать меня своей любовью. Впрочем, напрасно грешу я на княжну Варвару, душу чистую и набожную, презревшую мнение света ради нашей дружбы.
Между тем поэты разошлись, не на шутку расстреливая собрание банальными рифмами, от которых желудок начал играть марш. Господи, да ведь не литературой единой жив писатель! Ему, бедолаге, хочется хлеба, мяса, соленого огурчика, а если поднесут чарку, так и царь покажется не таким страшилищем! Однако литераторы продолжали читать до хрипоты, словно осужденные на казнь, которым дали последнее слово, а казнь не может свершиться, пока они не выговорятся. Впрочем, мудрый еврейский царь Соломон правильно подметил: «Все имеет конец». Пришел конец и этому тягостному турниру. Я решительно встал и двинулся в сторону соседней залы. Как бы не так! На меня навалилась целая рота почитателей и, уложив на широкий председательский стол, стала требовать:
– Почитайте меня, Тарас Григорьевич! Только из типографии… Это вам, батька! На память!.. А вот еще!.. И еще! Меня читайте! Меня!.. Я первый сказал! Нет, я первый!.. Убери свое рыло!..
С большим трудом мне удалось поднять голову, и, стараясь не терять из виду Семку, я беспомощно взывал очами к голове этого собрания. К чести Мамуева, он откликнулся на мой призыв решительными действиями. К столу подскочили знакомые по гардеробу бугаи во главе с монголом, который при ближнем осмотре оказался похож на цыганского конокрада, и эта братия принялась расшвыривать литераторов в разные стороны, не разбирая, где дамы, а где лица противоположного пола. Я успел крикнуть Семке, чтобы он собрал книги, даренные мне, затем был подхвачен за локти и таким манером доставлен в банкетный зал, служивший писателям рестораном. Вскоре обозначился и Семка, шедший позади монгольского цыгана (уж буду так его обозначать в сиих записях). Сгорбившись под тяжестью книг, мой друг едва передвигал ноги.
Наконец я оглядел стол, накрытый для пиршества. Описывать его у меня нет ни сил, ни вдохновения, поэтому отсылаю любознательных все к тому же Николаю Васильевичу, умевшему как никто в русской литературе живописать напитки и яства, данные нам щедрой украинской нивой неизвестно за какие наши заслуги.
Вот и я, вспомнив о том, что было на писательском столе, проглотил слюну и, пожалуй, сделаю перерыв, дабы открыть белый ледник Семена и, приведши ум в порядок холодным пивком, набить пузо балычком и тельячими языками. Благо, нагрузили литераторы нас вчера не только книгами, но и разнообразной снедью, за что им низкий поклон.
Не удивляйтесь, господа, что так много хвалебных слов уделяю пище. Кто в детстве испытывал муки голода, у кого гадюкой вился живот при виде хлебной корочки, тот поймет меня. Единожды испытавший голод, будет помнить его долго, а желудок – так и вовсе никогда не забудет.
48
Дорогая моя!
Пишу тебе вне всякой очереди, не дожидаясь Алика, чтобы, когда он появится, сразу же отдать ему письмо.
Вчера наконец произошло событие, которого я ждал много лет. Вместе с Т. Г. мне удалось проникнуть в дом нашего предка Симхи Либермана. Меня там встретили очень хорошо, можно сказать, с почетом, и сразу же повели показывать все комнаты. Про Т. Г. я вообще молчу! Они его носили на руках, и это совершенно правильно, потому что кто они и кто он – знает весь мир.
А теперь о самом помещении. Первое, что мне пришло в голову, как только я увидел это великолепие, так это удивление. Зачем евреи помогали Ленину делать никому не нужную революцию? Жить в домах с каминами, резными потолками, дубовым паркетом, обитать в двадцати комнатах и бороться при этом за какое-то «равенство» могли очень глупые и ограниченные люди. Конечно, ты права, когда говоришь, что в практических вопросах я полный ноль, но все-таки!..
Мне пришлось часа три промучиться в большом зале, где лучшие литераторы рассказывали Т. Г., какой он великий и как они его ценят. Один из них, похожий на рыжую лисицу, настоящий академик, сделал огромный доклад, в котором по косточкам разобрал все произведения моего квартиранта. Этого академика я зауважал. Мне всегда нравились усидчивые люди, способные часами ковыряться за столом, как наш покойный дядя Моня, который после исключения из партии работал часовщиком в маленькой конторке Дарницкого универмага. Затем все отправились в ресторан, где и началось самое главное у писателей и другой творческой интеллигенции. Я был как на иголках, но ко мне очень скоро подошел главный писатель Украины и спросил, как я себя чувствую в их атмосфере. Я поблагодарил и попросил показать мне комнату, которая служила Симхе Либерману домашней синагогой. Он вначале не понял, что я имею в виду, и стал перечислять адреса киевских синагог, но я вежливо и внятно объяснил, что в этом доме когда-то была домашняя синагога с раздвижным потолком, чтобы Либерман и его семья могли по всем правилам праздновать Суккот. Он догадался, что я имел в виду, даже обрадовался и воскликнул:
– Ах, это там, где затекает потолок? Сейчас организуем!
Затем он подозвал к себе мужчину, очень похожего на цыгана из одноименного фильма. В том фильме цыган постоянно воровал лошадей, но этот оказался не цыганом, а смуглым от природы человеком с аккуратными усиками, к тому же он тоже был писателем, хотя по лицу и запаху изо рта этого не скажешь.
– Мелентий, покажи гостю свой кабинет! – сказал главный, и человек повел меня по коридорам, сообщив, что его фамилия Шмыгло, а сам он руководит столичными литераторами, которых держит в черном теле.
Я страшно разволновался, когда переступил порог священной комнаты. Все, что я делал до сих пор, показалось мне незначительным приготовлением к главному. Задрав голову, я увидел потолок из деревянных пластин.
– Он раздвигается? – с благоговением спросил я.
– Он течет! – весело ответил Шмыгло жующим голосом, и я вдруг увидел у него в одной руке кусок хлеба, на котором лежал толстый шмат сала, а в другой – граненый стакан с водкой.
Ты знаешь, что я ничего не имею против сала, как и прочих культовых предметов иных религий и народов. Но присутствие сала в комнате, где я собрался по субботам медитировать, было неуместно, если не сказать больше. Я понял, что писатели загадили ауру комнаты. Помещение требовало энергетической чистки, но я не знал, сколько мне понадобится времени на это.
Я осмотрел неказистую люстру, которая была здесь как пятая нога собаки, а потом заметил, что хозяин кабинета со странной для литератора фамилией Шмыгло также с интересом изучает потолок, точно видит его впервые. Я ему задал несколько вопросов, но, к моему огорчению, он ничего внятного объяснить не смог, хотя и двигал шкафы, дабы отыскать какой-то рычаг.
– Бесполезно! Его коммуняки украли! – весело сообщил он.
– Какие коммуняки? – спросил я.
– Обыкновенные.
– А что они тут делали?
– Ничего! Тоже книги писали. Про коммунистов. А рычаги украли!
– А где они сейчас? – осторожно спросил я, надеясь узнать фамилию человека, который, вероятно, унес рычаги домой.
– В банкетном зале! Пьют за здоровье Кобзаря! – И, не дав мне вставить слово, спросил: – А вы кем приходитесь нашему гению?
– Друг! – ответил я, огорченный тем, что секрет крыши грозит остаться нераскрытым.
Поколебавшись, он посмотрел на дверь и подмигнул мне.
– Так вы скажите, чтобы он Мамуеву не доверял!
– Чего так? – рассеянно спросил я, поглощенный мыслями о потолке.
– Мамуев – государственный холуй!
– Кто-кто? – переспросил я.
– Государственный холуй! – повторил хозяин кабинета, и его монгольские глаза сверкнули сталью. – Мы его сковырнем! А Тараса Григорьевича поставим! Только сперва в Спилку примем!
– А почему у вас крыша затекает?
– А мне по барабану! – оскалился Шмыгло. – Тут раньше Мамуев сидел, у него спрашивайте!
Понимая, что ничего не добьюсь от этого типа, я вернулся в зал, где писатели уже танцевали, пытаясь затащить Тараса Григорьевича в шумный хоровод. Особенно старались дамы, и я понял, что дело движется в неожиданном направлении. А поскольку перед вашим отъездом я дал тебе слово, что ни одна женщина не переступит порог нашего дома, то подскочил к нашему квартиранту и сказал, чтобы он вспомнил, чем заканчивались его любовные истории. Он заверил меня, что жениться в ближайшее время не намерен, и потащил меня в круг танцующих. Хочу заметить, что украинские писатели овладели танцами всех народов мира, а в половине двенадцатого ночи даже сплясали «семь сорок». Я хотел сказать их предводителю, что они, вероятно, ошиблись в выборе профессии, но был очень расстроен их отношением к крыше, поэтому промолчал.
Нагрузившись книгами, мы вызвали такси и поехали домой. Пан Мамуев лично проводил нас к машине, где вручил солидный пакет с различными продуктами и даже расплатился с таксистом.
В общем, мой поход удался только на пятьдесят процентов. Домашнюю молельню Симхи я увидел, но крыша была безобразным образом искалечена. Теперь надо ждать удобного случая, когда я смогу узнать, каким образом ее можно открыть.
Крепко тебя целую, твой Сема
49
12 марта 2014 года
Славно отобедав остатками писательского пиршества, я не сразу раскрыл чистую страницу дневника, а прилег вздремнуть, так как увидел, что Семка крутится вокруг стола, точно муха, отыскивающая уголок, на который она могла бы присесть. Вероятно, мой опекун также вознамерился отписать письмецо родным, которые обитают на иерусалимских холмах, где они две тысячи лет назад распяли нашего Христа.
Спал я плохо. Точнее, попервах спал хорошо, так как снились мне литературные дамы, которые, избавившись от манерничаний, вмиг стали похожи на девиц пансиона мадам Гильде. Лихо скинув юбки и расшнуровав корсеты, стройные создания захороводили, недвусмысленно подмигивая, но едва они принялись стягивать с себя панталоны, как в сон вторглись Орская крепость, капитан Косарев и прочая чертовщина, а когда в моих руках оказалась палица, которой я стал выделывать ружейные приемы, то я проснулся в холодном поту, немея от ужаса, что сон окончательно превратится в явь.
За окном притаилась ночь. Я лежал, вслушиваясь в тишину, и лениво спорил сам с собой: вставать либо поваляться часок в надежде на сон более спокойный и ровный. Однако энергичный человек победил в нашем споре, заставил сесть к столу и продолжить записи, благо в комнате горит электричество и на свечи моему хозяину нет нужды тратиться.
Свой отчет я остановил на неподражаемом банкете, который киевские литераторы дали в мою честь. Признаться, мне стоило большого труда следить за своей чаркой, которую кто-то постоянно наполнял, словно желая высмотреть, как я буду выглядеть в скотском состоянии, но я старался пить мало, постоянно с кем-то привечаясь немалой своей посудиной. По правде говоря, я толком и не поел, так как за моей спиной кто-то постоянно нашептывал в ухо свои вирши, просьбы, кляузы, пересказывал мою биографию и проклинал крепостное право, о котором я, право, уже забыл. Если бы не милейший Борис Петрович, отгонявший назойливых пиитов, я мог бы и окочуриться, подобно царю Мидасу, умершему от голода из-за своей паскудной привычки золотить все, к чему прикасались его руки. Но писательский вождь бесцеремонно отпихивал рожи, виноградными гроздьями нависшие надо мной, а затем и вовсе выставил нечто похожее на почетный караул из двух литературных критиков, обещавших составить в будущем славу украинской литературной мысли. Однако от соседа справа, который оказался все тем же академиком Вруневским, отгородиться было невозможно. Мой биограф хотел казаться деликатным, показывая, что у нынешних академиков тоже есть понятия насчет благородных манер, однако ж и он то и дело, наклонясь к моему уху, шептал разъяснения, что в третьей строке стихотворения «Пророк» он бы не писал пророка с буквы обыкновенной, а непременно написал бы с заглавной, затем обещал расшифровать мысли мои в тех стихах, где я сподобился ставить многоточия.
– Ешьте, любезный! – прерывал я его, впрочем, бесполезно, так как он сообщил, что сейчас перейдет к разбору моих прозаических опусов.
Окончательно осерчав, я стал кормить его со своей руки, дабы заткнуть ему рот. Он послушно кивал, хватая зубами нежнейший телячий язык, который я ему скармливал. При этом Вруневский бешено вращал глазами, призывая литературное сообщество поглядеть, кто кормит его с руки, паки сизокрылого голубя. Забавляясь, я напаковал его рот до такой степени, что он, выпучив слезящиеся глаза, едва двигал челюстями, силясь все это проглотить разом, ибо разжевать такое количество пищи не представлялось возможным. Едва я нацелился на покрытый росою аппетитный кусок лососины, чтобы перекусить самому, как с изумлением обнаружил, что и пан Мамуев сидит с открытым ртом и, весело вращая зенками, призывает покормить и его. Развеселившись, я впихнул в его пасть гусиный фаршированный зад, и он заработал челюстями, точно голодный Сирко, о котором хозяева, загуляв, забыли на три дня. Затем к столу встала очередь из других охочих, которые толкались, шипели друг на друга и, выстроившись змейкой, подходили ко мне с открытыми клювами. Пришлось, как архимандриту, встать и заместо пасхальной просвиры, которую положено класть на христианские языки, шпиговать писательские горлянки редисом, огурцами, кусками мяса и сала. Нежнейшие пирожки с капустой и куриные крылышки шли «на бис», а одному доброхоту, который едва не укусил меня за палец, я шлепнул на язык добрую порцию горчицы с хреном. Когда молодые девицы подвели ко мне местную знаменитость пана Хнюкало, а тот, раскрыв рот, пытался поймать метко пущенную мною маслину, челюсти сего мужа щелкнули и вывалились. Хнюкало рухнул на колени, стал ползать у моих ног, отыскивая зубные протезы, но оными уже завладела какая-то рыжая дама с потным лицом. Обтерев протезы о подол своего платья, она пыталась самолично вставить их в рот автора трагических романов «Страшный суд» и «Тихий ужас», которые, как я неоднократно слышал, и составляют нынче фундамент отечественной прозы.
Происшествие с челюстями пана Хнюкало невероятно взбодрило честную кампанию. Присутствующие затянули «Думы мои, думы мои», и лики их осветились подобием благолепия и необычайной серьезностью. Пели литераторы весьма недурно, и если их письмо хотя бы на половину отмечено подобным мастерством, то я могу вполне быть спокоен за украинскую литературу. Ее стройный и мощный хор должен растолкать всяких сервантесов и петрарок и, пристроившись в затылок Гомеру, подать слепому руку, дабы он повел эту пеструю колонну к сияющим чертогам вечности.
Разгоряченный не столько горилкой, сколько дружеской атмосферой, я тоже стал подпевать, изредка забывая строки своих стихов, которые кто-то вовремя выкрикивал в мое ухо. Затем пришел бандурист и вжарил на бандуре польку. Дамы завизжали, пустились в пляс, вытаскивая из-за столов робких партнеров. Дамам невозможно было отказать, они были мощнее коллег мужского пола, и каждая из них могла запросто поднять одной рукой двух, а то и трех исхудавших пиитов.
Кто-то из мужчин закурил, на него прикрикнули, дабы не осквернял литературный храм дымом преисподни, но апологет табачного зелья ответил критикам таким виртуозным матом, что зал взорвался от хохота, а дамы, покраснев от внезапного свободомыслия, достали из ридикюлей картонные коробочки и тоже стали дымить – кто открыто, призывно поглядывая на меня, кто тайком, в ладошку, пуская дым под стол, где уже лежала парочка сочинителей, которым не токмо за столом, но и в литературе делать нечего со столь хилым здоровьем.
Меня мутило от голода, и я налег на заливной холодец из свиных ножек. Голоден я был по той простой причине, что человек, когда видит обжорство соседей, а сам не имеет возможности следовать их примеру, испытывает в желудке спазмы, а на сердце великое раздражение. Надо сказать, что, пока я насыщался, Борис Петрович встал надо мной, раскинув руки, аки коршун, не давая ни одной особе помешать трапезе. Наверное, он хорошо знал, на что способен голодный Тарас, и оберегал своей доблестью спокойствие писательского собрания. Насытившись, я потянулся к бутылке вина с французской этикеткой и, хотя по огромному опыту знал, что пить следует по восходящей, то есть сперва пиво, затем вино, а уж потом водку, что нисходящее употребление чревато неясными контурами скандала, тем не менее рискнул пригубить полбокала французского, отчего в голове произошло брожение и нрав мой переменился в сторону благорасположенности ко всему человечеству. С этой минуты писательское собрание, которое я еще какой-то час назад мысленно именовал шабашем, теперь казалось мне милейшей дружеской попойкой старых приятелей, которые случайно встретились в кабаке, торчавшем на пересечении дорог необъятной и необъяснимой Империи. Поэтому, когда пан Мамуев, шепнув мне на ухо нечто приятное, подозвал небрежным мановением пальца какого-то страдальца, я благосклонно кивнул головой, намереваясь выслушать еще один мадригал в свою честь.
Страдалец оказался немолодым мужчиной с измученным лицом и пугливым взором. На носу, прикрытом густой порослью бровей, настолько неестественных, что показались мне театральным реквизитом, который милейший Михайла Семенович Щепкин наклеивал, исполняя дурацкий водевиль, сидели массивные очки. Человек этот невероятно горбился, и было непонятно, природный ли это изъян либо привычка гнуть спину в присутственных местах, появившаяся у человека с той поры, когда, пытаясь избавиться от своего первобытного состояния, он попытался распрямиться, но под грозным окриком вожака стаи так и замер в полусогнутом состоянии.
– Это Супчик Сергий Офиногенович! – благосклонно отрекомендовал писательский голова и потрепал мужчину по прикрытой черными волосами лысине. – Ловкая шельма!
Не имея в мыслях ничего дурного, я взял с большого блюда кусок рыбы и отправил в рот подошедшему. Пока он давился костями, не смея выразить протест, я поинтересовался у Бориса Петровича:
– Тоже поэт?
– Пер… пере… переводчик! – со свистом выкрикнул пан Супчик, выковыривая пальцами из горлянки рыбью кость.
– Толмач! – расхохотался Мамуев и благосклонно потрепал клеврета по дряблой щеке. – Переводит моих бумагомарателей на редкие африканские языки! Пытается, так сказать, постигнуть суть арапской составляющей великого Пушкина! – Борис Петрович внимательно посмотрел на меня и зачем-то спросил: – Вы знаете, что их Пушкин был наполовину арапом? Дедушка был Ганнибал. Африканский адмирал! Слыхали?
И, не дав мне возразить, вновь запустил лапу в редкие волосы пана Супчика, который, не найдя свободный табурет, опустился на корточки и в таком положении глядел на нас снизу вверх, точно вышколенная домашняя болонка.
Рука Бориса Петровича переехала за ухо присевшего, отчего Сергий Офиногенович сладко жмурился и, как мне почудилось, тихонько скулил.
– А ведь он по дипломатической части служил! – сообщил Мамуев, и, похоже, удивился сему открытию. – Да-а, вот ведь как! Почти как их Грибоедов! С анфаса дипломат, а задним профилем писатель!
– «Горе от ума»! – вспомнил я и ласково посмотрел на Супчика, вообразив, что он и в самом деле служил по одному ведомству с российским драматургом.
– Да! – угодливо тявкнул Супчик и скорбно повторил: – Горе! Большое горе!
– Он вам, вероятно, очень дорог? – осторожно спросил я Мамуева.
– Кто? Супчик? Конечно, дорог! Он мои глаза и уши! Все знаю, что мои вахлаки говорят! Они даже не успевают пакость придумать, а я все знаю! Правда, Сережа?
Супчик стрельнул в меня взглядом доносчика и тоненьким голоском оперного кастрата затараторил:
– Там Мошонкин за дверью! Подбивает недовольных петицию подписать на имя Тараса Григорьевича! Говорит, что вы, Борис Петрович, и ваши холуи, то есть мы, гуляем на общественные деньги! А еще клевещут, что вы зажрались, арендаторов притесняете, дабы откупались, машину служебную жене отдали, а писатели не могут себе купить даже лекарств!
Борис Петрович налился кровью.
– Дерьмо твой Мошонкин! Я его исключу из Спилки! Вон выставлю, не посмотрю, что бессмертным себя объявил! – Затем задумался и, взбороздив лоб нехорошей мыслью, сказал. – Ты иди, Сережа, послушай, что они еще там болтают! Потом расскажешь!
– Я стихи Тараса Григорьевича хотел прочесть! – фальцетом взвизгнул Супчик, и крупная слеза повисла на его длинных женоподобных ресницах.
Я не успел испугаться, как он все тем же противным фальцетом пояснил:
– На африканском! На африканском, Тарас Григорьевич!
– Он к нам из Африки прибыл! – пояснил Мамуев. – У него на жаре удар произошел, помутнение рассудка случилось, вот его из Африки и турнули. Теперь всех подряд переводит на африканские наречия! Прям беда!
Я на мгновение представил сего толмача посередь африканской пустыни, где он читает стихи львам, слонам и крокодилам, которые, оцепенев от страха, боятся даже думать, что смеют сожрать это недоразумение украинской литературы.
Супчик открыл было рот, дабы произнести первую фразу на африканском, но Мамуев поднял вверх руку и скомандовал:
– Брысь! Служи, Сережа, служи!
Супчик закивал головой и, даже не попытавшись встать на ноги, протанцевал краковяком на полусогнутых к двери и исчез. Борис Петрович посмотрел ему вслед, вздохнул:
– Вот мерзавец! Во все щели пролезет!
– А толмач хоть хороший? – спросил я, испытывая неловкость оттого, что поневоле стал свидетелем писательской склоки.
– Не знаю, – поморщился Мамуев. – Я его держу исключительно за всезнание! Он ведь служил по дипломатической части и шпионить выучился блестяще! Довел нюхачество до совершенства! В этом деле равных ему нет. Но натура у него паскудная! Так и норовит услугу оказать, точно жид какой-то!
При этих словах я встрепенулся и обеспокоенно стал искать взглядом Семена Львовича. Увидев его в компании монголовидного «конокрада», я успокоился.
– Ты сюда послушай, Тарас Григорьевич! – фамильярно теребил меня за лацканы сюртука захмелевший Мамуев. – У меня, как у Ноя, разной твари по паре! И лесбиянки есть, и педерасты, и Супчик, которого неизвестно где кастрировали. Даже жиды с москалями имеются! В малом количестве, но имеются!
– Так что ж! – пробормотал я, пытаясь вспомнить, когда это успел «брудершафиться» с сиим литературным начальником. – И в других нациях таланты произрастают…
– Тише! – подскочил на стуле Мамуев, беспокойно оглядевшись по сторонам. – Нет никаких талантов вокруг! Только мы! Иные – жалкий оскал загнивающей цивилизации! Пародия на все возвышенное и вечное!
Расчувствовавшись, Борис Петрович положил руку на мое плечо и с любовной фамильярностью произнес:
– Эх, Тарас Григорьевич, Тарас Григорьевич! Ты даже не представляешь, с каким дерьмом мне приходиться иметь дело! Ты только погляди на них! Тьфу!.. Двое нас, батько, двое! Конечно, я не достиг таких высот, как ты, но… – Он полез в карман, вытащил клетчатый платок и, приподняв очки, прижал его к слезящимся глазам. – У меня такие вирши с небес прилетели!.. такие!.. Никому не показывал, а тебе почитаю! – И, не дождавшись моего согласия, внезапно завыл, как это делают слишком чувствительные поэты: – «Украина-а-а моя, Украина! О несчастна та мыла дивчына-а-а!..»
Далее я ничего не слышал, потому как читал Борис Петрович ужасно, кроме того, в зале появились музыканты и стоголосый хор под скрипки и цымбалы весело грянул: «Реве та стогне Днипр широкий». Какой-то смельчак бросился танцевать, хотя к танцам сия музыка решительно была непригодна, да и в помещении стоял такой гвалт, что я вообще ничего не слышал и с трудом уловил последние слова стихотворения, которое, подвывая, орал Борис Петрович:
– «…и я помру на чужине»!
Он еще раз вытер слезящие глаза платком и преданно посмотрел на меня, ожидая похвалы. Мне ничего не оставалось, как, пригладив усы, крепко поцеловать его в лоб и придвинуть полную чарку.
Мамуев заплакал и, уже не стыдясь слез, шептал:
– Крепко, правда? Крепко ведь?! Я же говорю: двое нас, батько, только двое! А эти…
– Да пошли они к бисовой матери! – весело поддержал я его настроение, хотя хаять эту великолепную компанию с моей стороны было невежливо.
Чокнувшись, мы выпили, закусив горилку огурчиками, затем Борис Петрович, перейдя на деловой тон, сказал:
– Ты, Тарас Григорьевич, в четверг заходи! Заявление напишешь. На прием в Спилку. Мы тебя быстро примем! Айн-цвай-драй, и в дамках!
Я внутренне съежился, почувствовав, что этот человек обладает огромной властью. Этой властью он мог назначить кого угодно званием литератора, а мог и лишить его, и, хотя остатками разума, куда еще не добрались винные пары, я понимал, что только Всевышний может поцеловать тебя в темечко и благословить на творческие муки, близость человека с печатью, которой он штампует литераторов, повергла в раболепие, заставив исторгнуть наше извечно холуйское:
– Премного благодарен, Борис Петрович! Век буду помнить!
Вовремя же мы закончили наш разговор! К нам уже летели разгоряченные матроны и, обдав волной густого пота, замешаного на дешевом одеколоне, стали тащить нас из-за стола в круг танцующих.
Пошатнувшись, Борис Петрович упал на роскошные ланиты грудастой дамы, а от второй я ловко увернулся и, схватив за загривок академика Вруневского, который спал, уронив голову в грибную тарелку, всучил даме своего биографа и великого шевченковеда, которого она спьяну приняла за мою особу и стала самым дерзким образом тискать, помечая жестами свои права на дальнейшие отношения.
Пожалуй, закончу свой рассказ завтра, так как чудо-ручка может вскоре иссякнуть, а будить Семку и спрашивать, где лежат запасные, мне совестно, оттого что на часах обозначился третий час ночи.
50
Посетитель – Голова спилки украинских литераторов Б. П. Мамуев
Начало записи 12.45. Конец записи 13.24.
13 марта 2014 года
МАМУЕВ. Разрешите, Алиса Леопольдовна?
ЦЫРЛИХ. Проходите, Борис Петрович! Присаживайтесь! Как прошел вечер?
МАМУЕВ. Я бы сказал – плодотворно. Вруневский прочел обстоятельный доклад, Хнюкало сказал пару слов.
ЦЫРЛИХ. Как у нашего классика с головой?
МАМУЕВ. Прогрессирует! Что ж вы хотите? Человеку за восемьдесят, постоянно насиловал мозг!.. А писатели вас ждали!
ЦЫРЛИХ. Не могла. Масса вопросов по предстоящему мероприятию.
МАМУЕВ. Вы про двухсотлетие?
ЦЫРЛИХ. А то! Да вы рассказывайте! Как Кобзарь? Нам важна каждая деталь, любая мелочь!
МАМУЕВ. Что вам сказать… Если отбросить обстоятельство, что это как бы повтор природы, то заявляю прямо: повтор очень удачный! Оторопь берет! Даже запах! Древностью пахнет, корневой системой!.. Правда, не хватает в нем вот этого… понимаете?
ЦЫРЛИХ. Чего не хватает? Откровенно, пожалуйста, нас никто не слышит!
МАМУЕВ. Торжественности в нем не хватает, широты! Эпичности, я бы сказал! Обыкновенный дядька, простоватый для гения и… Когда торжественная часть шла, он еще ничего, держался с достоинством, а потом раскрылся в мелочах! Кстати, стихи читать отказался, хотя народ требовал.
ЦЫРЛИХ. И слава Богу!
МАМУЕВ. Вы так думаете?
ЦЫРЛИХ. Да зачем же их читать? Народ их и без него прекрасно помнит. Лично я весь «Кобзарь» знаю наизусть. Особенно люблю смелые, зовущие! «И мертвым, и живым…» Помните?
И смеркае, и свитае,
День божий мынае…
МАМУЕВ. И знову люд потомленный,
И все спочывае…
ЦЫРЛИХ. Тильки, мов… Как там дальше?
МАМУЕВ. Ну… ну что-то «и день плачу, и ночью плачу…» Забыл! Вот в сердце сидит, а слова забыл!
ЦЫРЛИХ. Именно так! Вы очень верно подметили! Его стихи надо носить в сердце, а произносить их нет никакой надобности! А что потом было? Во время банкета?
МАМУЕВ. Ничего! Я же говорю: уж очень простоватым оказался наш гений! Боюсь даже выговорить!
ЦЫРЛИХ. Да что вы такой пугливый?! Всего вы боитесь!
МАМУЕВ. Хитрит он, Алиса Леопольдовна, ой, хитрит! Похоже, присматривается!
ЦЫРЛИХ. К кому?
МАМУЕВ. Ко всем!
ЦЫРЛИХ. Отчего вы так решили?
МАМУЕВ. Посудите сами! Садимся мы, значит, за банкетный стол. Кстати, спасибо спонсорам передайте!
МАНГЕР. Передам, передам! Что вас смутило?
МАМУЕВ. Поднимаю я первый тост. Естественно, за него, потому как сами понимаете!.. Выпили раз, выпили два, выпили три. Смотрю на него, вроде пора и тебе, любезнейший, политически определяться, а он молчит и в усы усмехается. Правда, покемоны мои так и висли у него на спине, так и висли! Рука заболела их отгонять. Наконец я не выдержал и поставил вопрос ребром. Говорю: «Тарас Григорьевич, надо бы выступить! Сказать тост за здоровье президента, правительства, за Украину наконец», а он усмехается и кивает головой, как цирковая лошадь. А потом встал и говорит: «А что, козаки?! Не пора ли выпить за наших гарных молодиц? Вон какая краса сидит за столом, оживляя нашу мужицкую убогость!»
ЦЫРЛИХ. Так и сказал?!
МАМУЕВ. Слово в слово! Вы ж понимаете, что после такого спича мои шлюхи расшумелись и натурально набросились на него. Тут уж вечер поплыл не по тому руслу, которое я проложил. И я понял, что он в первую очередь великий бабник, а уже потом Кобзарь! Да что говорить! Я отчет написал о нашем мероприятии!
ЦЫРЛИХ. Потом почитаю. О литературе говорили?
МАМУЕВ. Касались. Вруневским он недоволен.
ЦЫРЛИХ. Почему? Вруневский много хорошего о нем написал!
МАМУЕВ. Не знаю. Может, кошка между ними пробежала. Вот мои стихи Шевченко понравились. Он, правда, подробный разбор не стал делать, но, слушая, плакал. А потом поцеловал меня. Вот сюда!
ЦЫРЛИХ. Э, да вы у нас, оказывается, тоже гений!
МАМУЕВ. Мне о себе говорить не с руки, но мои скромные заслуги перед литературой даже вы не опровергнете!
ЦЫРЛИХ. Бог с вами! Кто отрицает ваши заслуги? Мы вас безмерно ценим, Борис Петрович!
МАМУЕВ. А Героя Украины не дали! Швырнули «За заслуги» третьей степени, как какому-то шлеперу!
ЦЫРЛИХ. Потерпите! У вас только через пять лет юбилей, что ж вы все сразу – и квартиру, и собрание сочинений, и Героя!
МАМУЕВ. Через пять лет? А если оппозиция к тому времени опять власть возьмет? В стране такая карусель мнений!..
ЦЫРЛИХ. Не ожидала я от вас подобного пессимизма! Вместо того чтобы оппозицию поминать всуе, вы бы лучше работали на укрепление!
МАМУЕВ. А я что делаю? Укрепляю, цементирую!..
ЦЫРЛИХ. Вы когда его в Спилку принимать будете?
МАМУЕВ. Я ему на четверг назначил! Заявление напишет, а в понедельник примем.
ЦЫРЛИХ. Понедельник день тяжелый.
МАМУЕВ. Мне сподручнее гнуть свою линию в понедельник. У моих мерзавцев по понедельникам голова болит и изжога терзает. Они знают, что, кроме меня, им никто не нальет! Эти сволочи в понедельник покладистые, как слепые котята. Нет, лично я понедельник люблю! Я и сам родился в понедельник!
ЦЫРЛИХ. Поздравляю. Но я вам советую до понедельника собрать всех шевченковедов в один кулак и ударить по Тарасу Григорьевичу! Пускай напомнят ему прошлую жизнь и направят в нужное русло! Незачем ему лезть в наши проблемы. Пускай продолжает обличать царизм и Россию! Нам это даже выгодно в политическом контексте! Понимаете?
МАМУЕВ. Понимаю.
ЦЫРЛИХ. И еще этот… Либерман. Вы как его встретили?
МАМУЕВ. Уже успели настучать?
ЦЫРЛИХ. Что за словечки, Борис Петрович? Не настучали, а информировали! Мы обязаны все знать! Так что там Либерман?
МАМУЕВ. Мы его, конечно, пускать не хотели, сами знаете, какая у нас обстановка! Изо всех сил пытаемся сдержать еврейскую экспансию! Но Тарас Григорьевич лично попросил, сказал, что без Либермана он ни на шаг. Видать, снюхались! Представляете? Эти масоны уже Шевченко перевербовали!
ЦЫРЛИХ. И куда ходил Либерман? Шлялся по Спилке куда вздумается?
МАМУЕВ. Может, в туалет ходил, откуда я знаю? Я Тарасом Григорьевичем был занят, а к еврею Шмыгло прикрепил.
ЦЫРЛИХ. Они ходили в кабинет, где раздвижной потолок?
МАМУЕВ. Ах, вот оно что! Шмыгло ведь облизывается на мое кресло! Напечатал три статейки и мнит себя литератором!.. А если вы про потолок, так его еще при Хрущеве забили досками, а механизм чекисты унесли. Про этот кабинет раньше для туристов в справочниках писали, чтобы интерес вызвать, а когда мы сюда вселились – какие уж тут туристы! Мы к себе никого на пушечный выстрел не подпускаем!
ЦЫРЛИХ. Вот что, Борис Петрович! Вам позвонят из органов. Их сотрудники хотят проверить вашу крышу. Акцию проведут ночью, когда никого не будет в помещении. Так что придется не поспать, помочь товарищам!
МАМУЕВ. А что они ищут?
ЦЫРЛИХ. Это их дело. Вам оно зачем?
МАМУЕВ. Хнюкало вспомнил, что старый Либерман, который сахарозаводчик, молился в той комнате, раздвинув потолок. А в советские времена космополиты, которые прятались под псевдонимами, решили поглазеть на свои небеса. Вот тогда потолок окончательно заколотили!
ЦЫРЛИХ. Хорошо! Вы извините, я на заседание опаздываю. Давайте на днях еще раз встретимся, спокойно обсудим ваши потребности.
(Расшифровку произвелст. л-т Гвозденко Л. Г.)
51
В ночь с 15 на 16 марта с. г. сотрудниками третьего отделения совместно с оперативным отделом контрразведки при содействии технических служб был произведен осмотр помещений Спилки украинских литераторов. После обыска кабинетов, подвала и чердака мы приступили к обследованию комнаты с раздвижным потолком, которая представляет собой помещение размером восемь метров на семь, с двумя окнами, выходящими во двор. Из особых примет отмечены старинный камин белого цвета, множество книг неизвестных авторов, карта Монголии, скульптура лошади, а также сорок восемь пустых бутылок различного декора.
Вскрытие потолка проводилось путем врезки со стороны чердака. Механизм, как установлено начальником архива, был изъят в 1962 году и утилизирован. Крыша над комнатой протекает, из-за чего деревянные планки поражены гнилью и плесенью. На одной из пластин гвоздем нацарапано неграмотное ругательство в адрес некого Бормотуя.
Во время следственного эксперимента вместе с потолком, который был разобран по всему периметру, был вырезан аналогичный квадрат на крыше. Согласно инструкции, майор Земский Г. Д., которому я приказал мысленно влезть в шкуру еврейского колдуна, то есть каббалиста, встал на середину комнаты и, закрыв глаза, три раза прокричал в небо слово «каббала», а затем стал рассказывать о своих ощущениях, которые фиксировались звукозаписывающей аппаратурой и осциллографом.
Майор Земский сообщил о теплом потоке воздуха, который внезапно обрушился с неба, что подтвердили замеры, показав температуру столба в 28 градусов по Цельсию, в то время как общая температура воздуха в Киеве составляла один градус по Цельсию, а в остальных помещениях Спилки – плюс шестнадцать.
Затем майор Земский, а также отдельные сотрудники почувствовали завихрение воздуха, идущее против часовой стрелки. Завихрение усилилось, образовав воронку, в центре которой стоял майор. Неожиданно он стал радостно кричать: «Еще! Еще! Еще!» Вихрь, подчиняясь его команде, стал раскручиваться с невероятной скоростью, после чего майор Земский, взлетев, завис под потолком, размахивая руками, и с плачем повторял два слова «майн готт».
Подполковник Симоненко П. М. приказал майору продолжать фиксацию своих ощущений, но Земский парил в воздухе, испытывая, судя по выражению его лица, необъяснимое удовольствие, плавно переходящее в ужас, и наоборот, в обратном направлении. Когда я в решительной форме потребовал, чтобы Земский сосредоточился, он послал меня на известные всем три буквы, после чего заорал «Шма Исраэль!» и, вылетев через отверстие в потолке, исчез из поля нашего зрения.
Приказав личному составу немедленно привести потолок и крышу в исходное положение, я поднял по тревоге спецподразделение «Омега» и бросил его на поиски майора Земского П. М., который был обнаружен в 6.15 на Трухановом острове в бессознательном состоянии, в одних трусах.
В 7.30 утра поднятый по тревоге шифровальщик 5-го управления доложил, что «Шма Исраэль» переводится с иврита как «Слушай, Израиль» и является обычным обращением иудеев к своему Богу перед каждой молитвой.
Изучив личное дело майора Земского П. М., я установил, что в его роду никаких евреев не было, он с ними не соприкасался ни по службе, ни в быту, из чего можно предположить, что либо майор Земский П. М. является хорошо законспирированным агентом израильской разведки, либо мы имеем дело с неизвестным природным явлением. В настоящее время Земского наблюдают ведущие психиатры Минздрава.
В 9.45 по местному времени группа прибыла на базу в подавленном состоянии.
Результаты технического обследования объекта и схема полета майора с Липок на Труханов остров прилагаются.
Старший группы полковникКолесниченко А. Н.
52
16 марта 2014 года
Сегодня Семен Львович одолжил новое перо, спросив, что я пишу, засиживаясь на кухне за полночь. Я уклончиво ответил, что черкаю всякие заметки, наблюдения и прочую чепуху. Про дневник я решил умолчать. Не для печати сии записи. Когда умру во второй раз (дай Бог, чтоб случилось это как можно позже), напишу в завещании, чтобы похоронили все бумаги вместе со мной.
Не углубляясь в расспросы, Семка куда-то ушел, предупредив, дабы я никому не открывал дверь и не трогал трубку, разговаривающую человеческим голосом. Повторюсь, что трубка называется телефоном.
Некоторое время я рассеянно глядел, как за окном под солнышком тает снег, превращаясь в грязь, порадовался весне, признаки которой в городе не так очевидны, как на природе, и вновь вернулся к дневнику, пытаясь поймать настроение, на котором вчера прекратил свои записи. Однако, просидев добрый час, ничего существенного не вспомнил. В голову лезла всякая чепуха, перед глазами танцевали пьяные морды литераторов, дерзкие вырезы женских платьев, а в ушах слышался гнойный шепот главного литературного бандита со странной фамилией Мамуев. Пожалуй, не стану описывать и конец торжества, когда собрание окончательно перепилось, а несколько пугливых фигур торопливо собирали со столов объедки в прозрачные пакеты, надкусывая каждый кусок.
Однако одно происшествие все-таки отмечу. Когда литераторы устали заниматься моей персоной и занялись привычными для них склоками и бахвальством, вдруг ожил Вруневский. Подняв свою рыжую физиономию, он долго таращился на меня, а затем, перекрестившись, придвинул свой стул вплотную и спросил:
– Денег хотите, Тарас Григорьевич? Очень много денег! Ну?!
Я засмущался. Столь необычная щедрость со стороны коллеги потрясла меня до основания. Хотя я привык одалживаться только у друзей либо хороших знакомых, но рассудил, что не грех взять ссуду у академика. Как-никак ровня. Кивнув головой, я стал загадывать, из какого кармана он вытащит портмоне. Но Вруневский неожиданно сказал:
– Дай сто гривень!
– Зачем? – резонно удивился я. – Да и нет у меня, не разжился!..
– А ты у еврея своего займи!
– Да зачем же?! – уже сердито спросил я, подозревая подвох.
– Надо! – убежденно произнес Вруневский. – Я организовал финансовое общество! Кредитный союз «Мираж»! Все писатели отдают мне денежки, а я им верну в десять раз более! У меня счастливая рука! Всех озолочу! Давай сто гривень, завтра получишь пятьсот!
Как на грех, Семка куда-то пропал и я не смог сыграть ва-банк. Вруневский сразу поскучнел и, потеряв ко мне интерес, пошел благодетельствовать других.
Нет, все же лучше думать про завтрашний день, который по календарю четверг. Завтра отправлюсь в старинный дом писать заявление на прием в писательский клуб.
Вообще-то быть членом клуба весьма почетно и выгодно. Коль не подводит память, в Санкт-Петербурге я и мечтать не смел о членстве в Англицком клубе, куда запросто ходил Пушкин и масса иных блистательных господ. Конечно, не загреми я в историю с кирилло-мефодиевцами, не донеси на меня эта гадина Петров, может, со временем и столичные господа, забыв о моем рабском прошлом, выдали бы приглашение, однако не судилось. Теперь, стало быть, стану членом клуба киевского, куда принимают только литераторов, а прочим, судя по объявлению, вход заказан. Конечно, воспитанные люди не станут писать на всю губернию, что жидам и москалям тут не место. Культурные люди просто намекнут швейцару, чтоб не пускал всяких горбоносых и голубоглазых, да ведь наш брат с культурой дружбу не водил. Как привык хату мазать кизяками, так и замер на пеньке, за которым виден лишь «садок вишневый коло хаты».
И все же надо набраться решительности и спросить у Мамуева, какие права будут у меня как члена литературного сообщества. Существует ли материальная помощь писателям, у коих дело литературное застопорилось, загубилась рифма либо не видать конца длинному повествованию в жанре эдакого любовного романа? Должна существовать! Вон как гульнули на банкете по случаю моей кончины (а тьфу на них!). Я и не припомню в прошлой своей жизни, чтоб горилка и дорогие вина лились рекой, а стол прогибался от яств, хотя попировал я в свое время на славу. А судя по тому вниманию, которое они мне выказывают, могу вытребовать в счет будущих изданий приличную сумму, снять квартиру, потому что стыдно стеснять Семена Львовича до бесконечности, да и с холостяцкой жизнью пора заканчивать.
Насчет «холостяцкой» это я, положим, погорячился, так как после «мадам Ликеры» долго еще не рискну венчаться с какой-нибудь особью, а вот для разрядки тела иной раз не мешает нырнуть в пучину сладострастия, да ведь не станешь делать это в присутствии посторонних. Ну да ладно, завтра пойду, решительно все узнаю, а еще лучше возьму за грудки пана Мамуева и выверну один из его глубоких карманов. Неспроста литераторы шептались, что он обложил арендаторов данью, словно турецкий султан малые народы.