Финское солнце Абузяров Ильдар
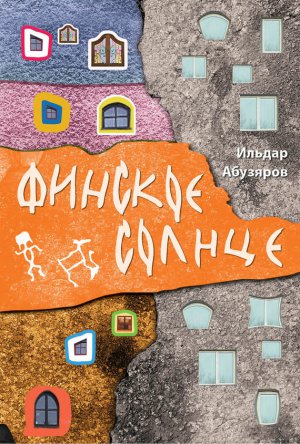
Sol noster[1]
Лингвисты до сих пор спорят, какие именно языки входили в глубокой древности в состав так называемой «ностратической макросемьи». Соседствовали ли, допустим, когда-нибудь в «едином человечьем общежитье» финно-угорские языки с эскимосско-алеутскими, а северокавказские с афразийскими? Или все-таки они всегда прятались по отдельным лингвистическим квартирам, не забредая друг к другу в гости ни при каких обстоятельствах?
Для Ильдара Абузярова таких проблем, по счастью, не существует. В художественном мире его нового романа «Финское солнце» все персонажи являются носителями именно ностратического языка, который, напомним, своим названием обязан таким латинским словам, как «наш», «нашего круга», «здешний».
И пусть все персонажи определяются самим автором в качестве «поволжских финнов», это ничего не меняет. С тем же успехом они могли бы быть названы «угро-финскими кацапами», «галицийскими тюрками», «австронезийскими палеоазиатами» или еще кем-нибудь. Для того чтобы понимать свои речи и разговоры соседей, им вовсе не надо, подобно скандинавскому герою Сигурду, пожирать сердце поверженного дракона: и с драконами, и с людьми они и так одной крови.
Но при этом в них нет ничего пассионарно-демонического, заставляющего вспомнить Дейенерис Таргариен из «Песни льда и пламени». Больше всего, пожалуй, герои «Финского солнца» напоминают муми-троллей Туве Янссон, которые, подчиняясь законам стадийного развития природы и общества, с течением времени эволюционировали не просто в людей, а именно в поволжских финнов. Поэтому Нижний Хутор, где разворачивается действие романа Абузярова, – это не столько «проапргейденный» литературными средствами Нижний Новгород, сколько Муми-Дален, вступивший на свою беду в Евросоюз и ставший частью Шенгенской зоны. Из-за отсутствия таможенных и пограничных условностей его теперь может беспрепятственно посещать отвратительная и бесконечно холодная Морра, оставляя после себя, нет, не куски насквозь промерзшей земли, ведь времена-то все-таки изменились, а вереницу совершенно одинаковых торговых центров и многоэтажных жилых комплексов.
Разумеется, жители Нижнего Новгорода могут читать «Финское солнце» с удвоенным удовольствием, выискивая знакомые топографические приметы, но ценность романа Абузярова, с нашей точки зрения, как раз в универсальности его хронотопа. В любом городе обязательно найдется свой дом-утюг, свой дом-корабль, своя Мусор-стрит, своя Верхняя (элитная, аристократическая, центральная) и своя Нижняя (плебейская, «гопническая», окраинная) часть. Точно так же и все истории, приключившиеся с поволжскими финнами Нижнего Хутора, не покажутся читателям романа сказками или побасенками. Любой из них можно будет найти аналог либо в личном опыте, либо в новостных сюжетах, либо в слухах, сплетнях и толках.
Ну, а «финские» имена действующих лиц этих историй, мы полагаем, никого не введут в заблуждение. Они, по сути дела, выполняют, две функции. С одной стороны, выступают своеобразным ключом, устанавливающим значение «нот», исполняемых тем или иным персонажем (сантехник Каакко Сантари, например, обречен существовать в пространстве материально-телесного низа), а с другой – нарушают автоматизм нашего восприятия, заставляя заниматься расшифровкой ономастических ребусов, созданных писателем. Иначе говоря, искусственный именослов Абузярова представляет собой очевидную параллель к Nadsat'у – вымышленному подростковому жаргону в «Заводном апельсине» Энтони Берджесса.
Но если лексикон Берджесса рассчитан только на «внутрицеховое» употребление, то Абузяров доверительно сообщает каждому читателю написанной им книги его тайное имя.
Зная это имя, вполне можно надеяться получить вид на жительство в самой большой стране мира. Стране, где никогда не заходит финское солнце.
Алексей Коровашко
История первая. Бытовая экология
1
В Нижнем Хуторе есть один дом. Вроде бы ничем не примечательный. Этакая мрачная, в духе нового модерна, многоэтажка с балконами; стоит на отшибе, на пересечении «собачьей» кату и кошачьей песи. Впрочем, когда агент по недвижимости Риэлти привел Хяйме осматривать новое жилище, дом ей сразу понравился.
– Почему так дешево просят? – в лоб спросила Хяйме у Риэлти.
– Потому, что срочно продают.
– К чему же такая спешка?
– Скажу вам по секрету, – признался агент, – у бывшего владельца квартиры Капы была интрижка с одной девицей из этого дома – с Кайсой. Он говорил жене Психикко, что уходит в подводное плаванье, а сам в одних трусах спускался на несколько этажей. Но, сами знаете, всё тайное имеет склонность делаться явным. Как говорит сантехник Каакко, говно любого из нас рано или поздно всплывет. Психикко всё узнала и учинила грандиозный скандал. Вот и пришлось достопочтенному семейству срочно съезжать.
– Забавно, – улыбнулась Хяйме. – А я слышала, что этот дом в народе называют Пароходом и заречным «Титаником». Это из-за того, что то тут трубу прорвет, то там крышу промочит? Или все же из-за хождений по морям, рекам и женщинам того капитана?
– Не думаю, – резонно рассудил Риэлти. – Скорее, здание похоже на пароход из-за острого угла. А жители верхней части города за то же презрительно называют его «Утюгом».
– Да, я слышала и об этом прозвище… – Хяйме пыталась еще чуть-чуть сбить цену дому и набить цену себе.
– Зато жители заречной, нижней части называют его «Домом». То есть собором.
– Слыхала. Наверное, настоящих соборов и просто красивых построек в промышленной части города мало, – продолжала побрюзгивать Хяйме, хотя цену сбивать было уже некуда.
– А может, это связано с барочными и даже готическими элементами фасада? – не соглашался Риэлти. – Похождения капитана повлияли лишь на цену отдельно взятой квартиры. Где вы еще найдете жилье по такой низкой цене?
2
– Ну вот… – выдохнула Хяйме. – Мой «Дом» – награда мне за то, что я объявила целибат и отказалась от всех мужчин.
Хяйме нравилось это слово, потому что оно было красивым, и еще ей казалось, что «целибат» произошло от «целлюлит». Или наоборот.
Однажды Хяйме прочитала в газете, что целлюлит бывает у девушек, готовых к деторождению. То есть у созревших уже. А у так и не родивших после климакса проходит. С тех пор она очень боялась, что целлюлит у нее однажды пройдет. От целлюлита она избавляться не хотела, а всё остальное – катись оно к черту!
Не успела Хяйме уйти от своего мужа Алко Залпоннена, как решила заодно поменять и квартиру, и работу. Чтобы начать новую жизнь и все старые концы – в воду. По природе Хяйме была женщиной весьма решительной и принципиальной. Даже жесткой.
После развода Хяйме боялась, что денег, полученных от раздела имущества, не хватит на новое достойное жилье. А тут такая уд ача: буквально за полцены!
«А всё потому, что в мире удерживается равновесие, – рассуждала она. – Стоит где-то чему-то убыть, как в другом месте непременно прибывает. Стоит от чего-то воздержаться или хорошенько пострадать, как приходят вознаграждение и отдушина. И наоборот: не успел ты нагрешить, как на вот: получи заслуженное возмездие и распишись».
Придя к такому заключению, Хяйме принялась изучать своих новых соседей. А присмотреться было к чему.
В подъезде Хяйме жил один странный человек. Ну очень странный и к тому же нелюдимый. Всегда один да один. Сдержан, замкнут и задумчив, аскетичен и сосредоточен. Даже в магазин выходит очень редко. Выходит, только если очень приспичит или если дома не останется ни крошки. Чем, скажите, не домовой?
3
Этим странным человеком был я. И я тоже присматривался к своим соседям. Точнее сказать, прислушивался. Взять хотя бы Веннике и Тарью. Тарья по завещанной предками привычке старается всё тащить в дом, а Веннике – выметать пыль и мусор из дома вон. То есть убираться и блюсти уют так, чтобы все блестело и сверкало.
Тарья работает грузчиком на хладокомбинате, в просторечье – «холодильнике». Это такой завод.
Раньше он работал носильщиком на вокзале и не знал забот, но когда в Нижний Хутор перестали приезжать туристы, перебрался на хладокомбинат. Уж чего-чего, а холода в наших сердцах завались, и мы будем пихать его по всему миру.
А еще в холодильниках комбината хранилась куча других продуктов: мороженое мясо тушами, например, и мороженая рыба горами. Потому что хладокомбинат с его большими складами выполнял в Нижнем Хуторе функции продуктово-логистического парка.
Если рыба залеживалась, ее перерабатывали и консервировали. Ну, скажите: разве это не логично? Благо, консервный завод, с территории которого нестерпимо несет рыбной тухлятиной, расположен всего-то через железный забор от «холодильника». Но речь сейчас не о нем.
Хотя почему же? Хладокомбинат и консервный завод, как и почти все более-менее стоящие предприятия города, принадлежали олигархическому клану Хаппоненов. Складами владел Хаппонен-средний. Сетью продуктовых гипермаркетов «Копеечка» – Хаппонен-старший, а консервным заводиком – Хаппонен-младший.
Горбатиться же на складах приходилось таким как Тарья и Веннике. Веннике до второй беременности работала уборщицей в одном из магазинов Хаппонена-старшего. Каждый день намывала пол и полки до блеска. Особенно тяжело было убираться в весенне-осеннюю распутицу и в зимние оттепели. Но вот Веннике ушла в декрет, и ей стало легче, хотя в непогоду Веннике по-прежнему чувствовала себя неважно. Зато теперь Тарье пришлось работать больше, чтобы прокормить жену, ребенка и зародыша в животе Веннике. Приходя на работу в огромные холодильные камеры, он первым делом думал, что ему сегодня нужно прикупить к ужину. Потому что им на комбинате товары отпускали со скидкой.
Оттаскав тяжести на работе, он с полными пакетами продуктов шел домой. По пути он задавал себе один вопрос: «Долго мне еще переть это всё на себе?»
Перед сном Тарья садился в кресло и прислушивался к окружающему миру, к шумам и помехам внутри и вне себя. Ему казалось, что сердце у него, Тарьи, в последнее время что-то барахлит. Впрочем, это могло только казаться, – уж больно внимательно прислушивался Тарья к своему сердцу.
4
Сантехник Каакко Сантари тоже прислушивался. Но не ко мне, а к стояку. Сантехник Каакко Сантари – красивый парень. Но раньше, когда он только устроился работать в местный ЖЭК, а может, в ДЭЗ, – он был еще красивее. Голубые-голубые водянистые глаза, светлые волнистые волосы и белая кожа, ямочки на щеках. На приветливую улыбку Каакко жильцы не могли нарадоваться. Его просто обожали пожилые домохозяйки и молодые наивные невестушки, которые по своей неопытности возьмутся что-нибудь стирать или готовить, да так напортачат, что чуть весь мир не погубят.
Тут уж домохозяйкам ничего не оставалось, как плакать и звать на помощь Каакко. И Каакко Сантари всегда приходил. Его приветливый нрав и жизнерадостный характер буквально спасали этот мир. На возгласы и причитания домохозяек – мол, что теперь делать и как теперь быть, – Каакко отвечал: «Не каркай, дурра» или «Как на-каак-кал, так и шмякал». Такие у него были присказки-шутки.
Но постепенно в этой затхлой атмосфере и сам Каакко Сантари начал сдаваться и загибаться. Он просто погибал на глазах, и некому было ему помочь. Некому спасти и найти другую работу. Протянуть руку помощи утопающему в прямом и переносном смысле. Сантехники в этом городе скопом шли ко дну, все больше и больше хлебая горькую и затхлую водицу. Уже и из горла, как из шланга.
Однажды Каакко пришел ко мне и сказал, что сантехники берут на себя вину всех. Берут на себя чужие грехи. Что они члены мистического Братства сантехников, что ковыряются в помоях в стояках обычных семей. Разгребают клоаку. Накопившийся отстой в отстойниках. В тухлой ложной семейной жизни без радости. В суете сует с постоянным мытьем посуды и полов.
– Значит, ты поэтому ублажаешь домохозяек? – Я иронично скользнул глазами по сантехнику.
– Да, я их радую. – Каакко взял со стола пустую рюмку и, морщась, посмотрел внутрь: мол, плесни-ка мне еще затхлой мутной водицы. – Их спасаю, а сам – с улыбкой на лице иду ко дну.
На столе в тот день у меня из закуски были квашеная капуста и кислые щи. И вот сантехник, не гнушаясь, заедал водицу квашеной капустой и запивал кислыми щами, вынимая капусту двумя пальцами, словно она была чьими-то волосами.
Впрочем, из всех сантехников города Каакко Сантари держался дольше всех. Потому что закусывал. И еще потому, что у него было увлечение. Время от времени он вырывался из серых бетонок-ботинок города в резиновые калоши и шел к матушке-природе, к свежему морозному воздуху, чтобы посидеть у чистой водицы и пообщаться с чистой молчаливой рыбой, которая исполняет желания.
– Да полно печалиться, – потянулся сантехник к бутылке. – Давай лучше поговорим по душам. Я ведь только сегодня вынул очередной презерватив и клок волос из стояка.
– Нет, на сегодня тебе хватит, – отодвинул я бутылку от Каакко. Было больно смотреть, как такой светлый, жизнерадостный человек разрушается и мрачнеет на глазах. Его лицо чернело, как у утопленника. – Давай-ка разговаривать, не запивая слова.
5
Впрочем, договорить нам тогда не дала наша соседка Сирка. Она пришла в коротком мокром халатике и потребовала сантехника Каакко немедленно разобраться. У нее случилась ЧП: прорвало трубу или шланг, соединяющий стиральную машину с водопроводом. Вот-вот зальет всех соседей.
Сирка размахивала руками и громко орала. И так эмоционально жестикулировала, что были видны ее мокрые подмышки. Значит, авария серьезная.
Они ушли, а мне оставалось гадать, где у Сирки прорвало трубу – в прачечной или в квартире. Если в прачечной, тогда понятно. Прачечная в нашем доме-утюге – то место, где встречались жильцы, которые еще не обзавелись персональными стиральными машинами из Италии. Прачечной заведовала Сирка. Работа была ей по душе. Да и мне нравилось, когда Сирка включала поутру гигантские стиральные машины, и весь дом начинал сперва мелко вибрировать, а потом ходить ходуном. Бак походил на нашу с вами планету с мелькающими за стеклом материками, ледниками и облаками. Шум вечного земного круговорота будоражил сознание, давал надежду, казалось, проникая в самую кровь. Этот шум священной очищающей воды будоражил жилы и завораживал всех жильцов. И все знали, что за зимой придет весна, растают наледи, потекут ручьи.
Было так приятно лежать и слушать с утра, как вода смывает все закоснелое, весь замшелый и мрачный порядок вещей. А потом хотелось вскакивать, умываться, скидывать с себя старую одежду, делать зарядку, надевать чистые белые праздничные рубахи. И идти на лыжах в лес – в священные рощи. Или водить хороводы-службы прямо в «Доме».
Шум стиральных машин был как праздник. Как рождение ребенка или свадьба. Он был символом вечного обновления и великого круга, который совершает само Солнце.
Но все изменилось, когда Сирка обнаружила потеки на лице своего мужа Пертти и затхлую лужицу на тверди пола. Протекал шланг, и это был дурной знак. Духи воды этого не потерпят. Да и муж день ото дня выглядел всё хуже и хуже: весь распух и надулся, как забитая где-то труба. Пертти пошел обследоваться и узнал, что болен раком прямой кишки и что жить ему осталось совсем недолго. А потом вода потекла в обратном направлении, в отжимающий отсек, отчего у Сирки все сжалось внутри и засосало под ложечкой. О-о, кошмар! Реки потекли вспять! А ведь Сирка всегда старалась ставить машины на четвертый, деликатный режим стирки. Так прекратился вечный бег и началось сжимание.
6
Затапливало откуда-то сверху. А сверху над Сиркой жили Кастро и Люлли. Румяная Люлли была такой неуклюжей на кухне! Такой медлительной. Вполне возможно, что это она затопила соседей. С Люлли-копушей и не такое могло случиться. Когда Люлли стряпала на кухне, снимала ли пену с наваристого мясного бульона, кидала ли свеклу в борщ, она всё ниже сгибалась над кастрюлей и еще больше краснела.
Краснела от пара и духоты, исходивших от духовки, а пальцы ее вместе с прихваткой все более напоминали неловкие клешни. У неуклюжей Люлли всё просто валилось из рук. Как вот сейчас, в этот момент, вывалилась прихватка. И Люлли где-то в глубине души понимала, что из ее рук помалу уходят их с Кастро любовь и счастье. От этого Люлли становилось совсем плохо и душно. Жар охватывал всё тело, щеки пылали огнем.
Хорошо еще, что Кастро работал в аптеке «36 и 5», а по ночам еще дежурил в аптеке «35 и 6» и следил за температурой в семье. Время от времени приносил он Люлли касторку, а также лекарства от повышенного давления и крем для рук. А сегодня Кастро, судя по запаху из вентиляционной шахты, принес сверток с раками. Он решил, что у них к пяти годам совместной жизни должны быть раки на ужин. И попросил Люлли приготовить в духовке раков со сметаной.
И она вроде как бы согласилась. И достала с полки книгу рецептов, чтоб уточнить дозировку ингредиентов. А Кастро в это время прикорнул на диване. Всё-таки в аптеке ему целый день приходилось стоять на ногах. Но не тут-то было. Только Кастро начал смотреть сон, в котором он обрезал кубинскую сигару, как звон и треск заставил его вскочить на ноги и броситься на кухню. Там он увидел, как Люлли собирает расползшихся по полу раков и закидывает их на противень. Раки, вымазанные в сметане, выскальзывали из рук Люлли и снова расползались в разные стороны, словно чуяли беду.
А в это время электрическая печь уже раскалилась. А печи у поволжских финнов испокон веков – священный очаг. В печах производят ритуальную варку, приносят жертвы и хоронят кости усопших. Варят кашу для духов и покровителей семьи. А кости складывают в воршуд – специальный короб. Но какой уж тут короб, если раки не хотели лезть даже на противень! И открытая форточка не помогала, потому что дыма становилось все больше, даже раков едва разглядишь.
Да и свои руки и ноги Люлли из-за дыма от перекалившегося масла уже видела с трудом. Порой Люлли казалось, что она сама себя приносит в жертву у электрической духовки, что ее кости уже хранятся в мешочке ее дряхлеющего тела. Но что поделать, если, как пояснил сантехник Сантари, котловая энергия – самая эффективная. С помощью нее отапливается дом, греется вода.
Это Сантари рассказал электрику Исскри Пробконенну, когда они устанавливали в квартире Кастро и Люлли электрический отопительный котел.
– Да, и электричество тоже поступает в дом от котлов ТЭЦ, – согласился Исскри.
Люлли слушала их краем уха, смотрела, как ей отчаянно подмигивает Каакко, а сама думала, что семье гораздо лучше, когда жена и мать парит, варит, кипятит и отбеливает именно в котле. А еще возится с ребятишками, которых родила, и купает их в тазике. Тогда ее энергия из котлов, кастрюль и тазиков переливается в кровь и плоть семьи. Поддерживает жизнь и тепло. И все это называется счастьем.
7
«А может, – с ужасом подумал сантехник Каакко, – прорвало главный котел?» А паровой котел отопления – это священный очаг всего «Дома». Если так, то надо срочно бежать за помощью. Да и без сварочного аппарата тут не обойтись. А сварочный аппарат с двумя баллонами ему одному не подтащить. Значит, надо звать на помощь Тарью, тот никогда не откажет, если беда и надо помочь.
Сколько Тарья себя помнил, он всегда таскал тяжести и получал за это вознаграждение. В школе он таскал флягу с молоком для столовой, а осенью разгружал припасы в овощехранилище. За это ему наливали кружку холодненького молока и отрезали большой ломоть мягкого, теплого еще батона и шматок замерзшего масла. А на овощехранилище он получал вдоволь сладкой моркови и репы.
В свое время он помог Веннике донести от школы до дома тяжелый ранец, чем и вызвал ее расположение. Когда же они оказались вместе в квартире, Тарья не бросился сразу на девушку, а помог ей сначала в уборке: вынес мусор, выбил ковры. И тем покорил сердце Веннике окончательно.
А потом Тарья с Веннике сблизились и поженились. Причем сближались они с Тарьей всегда в любимой для Веннике позе – она наверху, согнувшись. Тарья легко нес Веннике из загса. А от свадебного кортежа до ложа в первую брачную ночь так и вовсе летел. У Тарьи были сильные руки и большое сердце. Он плакал, когда выносил из роддома их с Веннике малыша. Руки почти не чувствовали тяжести, а вот большие горячие капли слез давили на щеки.
Чтобы жить отдельно от родителей, Тарья и Веннике снимали квартиру. Вначале это было терпимо, но, когда родился сын, расходы возросли, а работы не стало. Тарье пришлось уйти с вокзала. Перебравшись на «холодильник», Тарья хорошо вписался в артель. Но на «холодильнике» платили мало, а цены на электричество и тепло росли не по дням, а по часам. В их с Веннике квартире стало прохладно – приходилось экономить на отоплении. Ребенок мерз, а они всё не могли позволить себе батарею.
– Хочешь подкалымить? – подошел однажды к Тарье бригадир артели Бугор.
– А как? – спросил Тарья.
– Есть один план. Но работать придется внеурочно. Иногда и ночью.
План заключался в том, что их артель должна была разгружать угнанный для Урко и Упсо вагон. Они выстраивались цепочкой и передавали друг другу короба с тушенкой. Каждая пятая-шестая коробка кидалась не в фуру, а под вагон, прямо на пути. Там ее подхватывал Тарья и тащил в сугроб. Хочешь жить – умей вертеться.
По ночам они наведывались на родной склад. Внизу у массивных ворот ангара была большая резиновая подкладка. Если приподнять ее вилкой погрузчика, то на петлях чуть приподнималась и сама воротина. В щель вполне мог пролезть человек. Погрузчик стоял на территории логистического комплекса. Взяв в долю охранников, Тарья с подельниками из бригады ночью проникал на территорию склада. А там с помощью погрузчика и собственной расторопности – и в ангар. Брали по чуть-чуть. К примеру, бутылку оливкового масла из одной коробки с одного ряда, а потом, через несколько стендов, другую. Складывали в «челночьи» сумки и пропихивали под складом.
Затем товар на машинах развозили по своим квартирам. В течение недели товар по бросовым ценам предлагали в тот или иной мини-маркет. Хозяева киосков и магазинчиков брали дешевые продукты с удовольствием, поскольку гипермаркеты Хаппонена-старшего практически убивали все торговые точки на несколько километров в округе. Тем более что Хаппонены позволяли себе демпинговать. Но Тарья и компания не дали умереть малому бизнесу, чья торговля с их легкой руки пошла лучше. Помогал Тарья выжить и одинокой старухе Ульрике, подкидывая ей дешевые семечки. Самому Тарье грызть семечки было недосуг, да и Веннике не нравилось выметать семечкины шкурки-кожурки.
В семье появились кое-какие деньжата. Не абы что, но заплатить за квартиру и тепло хватало. На их столе не переводились такое полезное для Веннике оливковое масло, сгущенка и тушенка. Но Тарье всё чаще приходилось уходить по ночам. «Третья смена, – объяснял он Веннике. – Сегодня опять третья смена».
Сначала Веннике мирилась с отлучками мужа. Но однажды она взяла щетку и стала чистить грязнющие брюки Тарьи. Еще бы: Тарье теперь частенько приходилось ползать под воротиной ангара на пузе. Тут-то она и обнаружила несколько длинных белых волос. Веннике так расстроилась, что весь вечер пролежала лицом к стене.
8
Я тоже не прочь прилечь. Я иду к дивану, а мои мысли от Веннике и Тарьи плавно перетекают к Пертти.
Потому что Пертти последнее время только и делает, что лежит на своем засаленном диване и засаленном матрасе, повернувшись лицом к стене. Он повернулся к ней, когда понял, что его круг завершен, что он должен уйти, оставив свое место другим: сыну от первого брака Топи и еще молодой жене Сирке.
Каждый раз, повернувшись к стене, Пертти видит одни и те же узоры. Обои стары и просалены, а узоры сакраментальны и вечны. Они говорят о непреходящем смысле жизни и бытия. О том, что мы, умерев, не исчезаем, но уходим в сакральный мир предков.
Но Пертти от этого не легче. Что он скажет своим предкам, придя к ним? Что он успел сделать за свою мигом пролетевшую жизнь? Продолжить род, воспитать хорошего работящего сына. Да, он родил сына, но разве мы – червяки, живущие только ради того, чтобы пожрать и размножиться? Вот какие мысли не давали Пертти успокоиться и заснуть. Или заснуть и уже успокоиться. И червяки с раками грызли его изнутри.
От мыслей о беспомощности своей Пертти было больно вдвойне. Болело где-то в районе кишечника под печенью и еще в душе. Вначале Пертти не говорили, что у него рак, а сам понял он это не сразу. Просто чувствовал, что загнил и зачервивел.
И не то чтобы Пертти был глубоким стариком, хотя и выглядел куда старше своих сорока девяти. Просто он чувствовал, что разлагается изнутри. Что газы выходят из него непроизвольным образом. Что тело превратилось в помойку. И запах изо рта. И простыни липкие, словно они варятся в баке, кипят, тлеют вместе с торфяным огнем, как на болоте, и потому пахнет от них бомжатником.
Он вспоминал, как ему досталась квартира в этом кондоминиуме. Как он стоял в очереди, требовал, ругался. Может, отсюда такой запах и полное отсутствие аппетита. Но, с другой стороны, его жизнь прошла не совсем уж бездарно. Да, если глянуть с другой стороны, было чувство, что круг прошел не зря, что успел родить сына. Построить дом, эту вот клеть. Оклеить его обоями. А теперь сын повторяет его путь, продолжает его бытие. Круг завершен. У него была своя страна, свой род, свой язык, свой дом и свой сын.
– Спасибо, спасибо, – шептал Пертти тайным хозяевам и служителям дома, повернувшись к вечным узорам. – Спасибо вам, спасибо за всё.
Пертти считал, что всех и всё в этой жизни следует благодарить. А особенно – служителей «Дома» и его домовых. В сущности, Пертти был сейчас главным священником нашего кондоминиума. Он чуть ли не единственный, кто каждый миг и час благодарил домовых и общался с ними.
А жена – еще молодая женщина и может еще успеть реализовать себя. У нее всё еще впереди.
Лежа в своей комнате, Пертти слышал, как сантехник Каакко тискает его Сирку, как он щупает и мацает ее. И как она повизгивает и хихикает в его объятиях, словно блаженная. Благо, их квартира большая, трехкомнатная, так что есть куда привести мужика, чтобы любовники могли вести себя несдержанно и громко.
«Молодец, сынок, – думает Пертти про Каакко со слезами на глазах. – Зажимай ее крепче, чтобы она смогла разродиться новым потомством. Спасибо, спасибо тебе».
Сам не зная почему, Пертти называет Каакко сынком. Может, потому, что они с Сиркой хотели, чтобы у них родился еще один сын. А еще потому, что очень любит свою жену и хочет, чтобы ей было хорошо.
«Ничего, она еще молодая, – думает Пертти. – Пусть повеселится».
Просил он ее только об одном: чтобы не выходила замуж за актера.
9
Если у Пертти и Сирки был сын, то у Ванни и Тапко детей не было. Потому что больше всего на свете Ванни и Тапко любили комфорт. Они и поженились-то по любви к комфорту, точнее сказать, Ванни вышла замуж за Тапко по любви к комфорту. Женщины всегда выбирают. Иногда выбирают квартиру, иногда мужчин, но чаще детей. Ванни же выбрала комфорт, очаровавшись нежностью и даже какой-то женственностью Тапко, но более всего – его вместительной ванной комнатой.
А что привлекло Тапко в Ванни, сказать трудно. Но что-то понравилось, это точно: ведь Тапко привык долго и привередливо выбирать нужный канал, удобно устроившись в кресле перед телевизором. Также тщательно, похоже, Тапко выбирал жену – и вот выбрал. Только теперь никак не мог вспомнить, чем же его привлекла Ванни. Может быть, его добрая, мягкая натура и обходительно-уважительные манеры помогали ему оставаться в неведении. Ведь выбирают всегда женщины. К тому же Тапко никогда не настаивал на немедленной близости, а терпеливо ждал у телевизора, когда его выберут, предоставляя избраннице свою ванну на целые часы.
Да, больше всего Ванни любила нежиться в мыльной воде. Вода размягчала кожу, расслабляла мышцы. Давала почувствовать себя женщиной, то есть самой собой. Да не просто женщиной, а любимой женщиной.
А еще ванна очень полезна для здоровья: очищает тело от шлаков. И даже выводит вместе с потом дурные мысли из головы, когда все тело в воде и лишь на лбу испарина. А если ее приготовить с морской солью и минералами, то она разглаживает морщинки от этих непростых мыслей.
Ванни работала в спа-салоне, где помогала богатым женщинам стать красивее и подготовиться к свиданию. Она отлично знала, что дренаж избавляет от жировых отложений, а ванны с розовым маслом делают кожу бархатистой.
Весь день Ванни заполняла масляно-солевые ванны и накладывала маски. На работе она очень завидовала богатым женщинам, всем этим Кайсам и прочим Люстрам, всем этим любовницам и женам Хаппоненов и прочих богатеев-хапальщиков Нижнего Хутора. Но придя домой, Ванни целиком отдавалась ванне. Там она делала водный массаж и маски исключительно для себя и своего удовольствия.
10
Если много воды помогает Ванни разгладить морщины, то моим соседям много воды, наоборот, морщин добавляет. Соседи эмоционально решают, кто бы мог устроить маленький потоп в подъезде «Дома». А может, это чета Холди и Никки. Никка как раз накануне под завязку забила новый большой холодильник овощами и мясом, но из-за проблем с электричеством пробки выбило и холодильник разморозился. Весь лед из морозилки стек в ящик овощного отсека, маринуя капусту и свеклу, превращая лук и морковь в пикантный соус. Жуткий запах пропитал стенки холодильника и квартиры Холди и Никки. Впрочем, как утверждал Холди, вода не вытекла за границы овощного отсека. А утечка произошла в результате замыкания. И случилась она не до, а после потопа. Вот поэтому в холодильнике Холди и Никки вымокли и тушка зайца, и тушка леща. И тушки других экзотических, неведомых праотцу Ною зверей и рыб.
Мне дико интересно, кто там ноет за стеной, сожалея о погибших животных. Я подхожу к глазку и смотрю на лестничную клетку. Но больше прислушиваюсь, впитываю информацию всеми клетками. Ибо мои соседи, собравшись как раз напротив моей двери, спорят и судят о том, кто же все-таки их затопил.
Каакко Сантари и Сирка сначала постучали в квартиру Кастро и Люлли. Дверь открыла раскрасневшаяся Люлли. Она неистово заверяла, что у нее-то как раз все в порядке. Божилась в этом и клялась здоровьем.
Откуда тогда может течь?
Из разговора соседей я понимаю, что они вошли в квартиру Кастро и Люлли и обнаружили, что пол там влажный, будто его кто-то только что протер тряпкой, пряча следы потопа.
– Что это у тебя такое?
– Это у меня пытались разбежаться раки, – уверяла Люлли.
– Всех собрала?
– Нет, одного никак найти не могу.
После того как Люлли сказала, что это наследили разбежавшиеся раки, Каакко потрогал пол под раковиной, провел пальцами по швам, и понял, что это не враки.
– Тогда у кого же это прорвало трубу? – вопросила Сирка.
– Может, это кондиционер у Конди и Неры? – предположила Люлли. – С него вечно что-то капает. Когда была жара, они его включили на полную мощность, вот он не выдержал и дал течь. Сломался, и теперь с него течет, как с облака.
Конди работал менеджером в компании, занимающейся продажей кондиционеров и прочего вентиляционного оборудования. Поэтому он был большим специалистом по воздушным потокам и хорошо усвоил, что воздух тоже можно продавать.
В последнее время работы прибавилось, так как мэр Мерви выпустил указ, чтобы кондиционеры с фасадов домов убрали. Исключение делали только для тех, чьи окна выходили во двор. Организациям и фирмам поблажек не было: бизнесменов заставляли делать общий воздуховод и ставить большой кондиционер на крышу.
С утра до вечера Конди принимал заявки, затем ходил по офисам и делал проекты.
Его жена Нера тем временем изнывала от удушья и скуки дома, пока в конце концов не включила кондиционер на полную мощность. Кондиционер дал течь, но прежде хладагент продул ее детей, бесившихся от жары. Продуло так сильно, что они подхватили воспаление легких. Теперь вот лежат, закутанные в ватные одеяла. У них сильный жар, и Нера поит их горячим молоком с медом.
Пока Нера ухаживает за своими ребятишками, сантехник Каакко Сантари мысленно вычерчивает схему всех квартир дома. Неужели это фреон из кондиционера? Не имеющий ни цвета, ни запаха фреон Конди и Неры? Еще у кого мог случиться потоп, так это у Ванни и Тапко. Или все же дал течь общий стояк, что проходит по перекрытиям? От умственного напряжения у Сантари зашумело в черепных перекрытиях.
11
Меня тоже нередко одолевают разные мысли. Я часто думаю о своих соседях. Иногда открываю окно, чтобы проветрить жилище, – ведь кондиционер меня заставили снять. Но если на улице становится шумно, например, резко затормозит машина с громко включенной музыкой, я встаю и закрываю даже фортку. Стоя у окна, разглядывая звезды и машины, я продолжаю думать о соседях. Особенно о Тарье и Веннике.
Однажды Тарья чуть не попался. Они, как обычно, вышли со склада. Натаскали несколько сумок. Загрузили багажник «жигулей» Таксо и проехали по ночному Нижнему, но машину поставили не у подъезда, а с другой стороны. Утратили бдительность. Попрощавшись с товарищами и с водителем Таксо, Тарья уже переходил дорогу, как увидел патруль – Паулли и Ментти. Дверь машины была открыта, а из нее высовывались нога и автомат.
– Куда-то ездил, Тарья? – высунул вторую ногу из машины инспектор Паулли, когда Тарья поравнялся с дверью. Ментти продолжал сидеть за рулем.
– Нет, я с работы! – ответил Тарья. Много лет проработав на вокзале, он знал, что в такое позднее время ни один поезд не приходит в Нижний. Уж его-то Паулли на такой мякине не проведет.
– А что у тебя в сумках?
– Продукты, – не моргнув глазом, признался Тарья. – Зарплату выдали продуктами!
– А что так поздно?
– Загуляли немного с друзьями. Посидели в закусочной. Не нести же водку домой! – Тарья был совсем не дурак. Он был воробей стреляный.
– Садись. Поедем проверим, – подал голос Ментти.
Вместе с инспектором Паулли они проехали в районное отделение. Всю ночь Тарья просидел в компании загулявших местных девиц Хильи и Вильи, которые всё лезли к нему с поцелуями.
Вернулся Тарья домой к полудню следующего дня: инспектор не дождался ни одного заявления об ограблении гипермаркета и плюнул. На воротнике мужниной рубашки Веннике обнаружила следы помады. А от самого пахло алкоголем и чужими женщинами.
12
Хяйме знала, что за все наши прегрешения приходится расплачиваться уже в этой жизни. Что ничего не бывает просто так и что нет действий без последствий.
«Вот, – думала она, – Пертти, муж Сирки, умирает, а его жена почему-то расцвела и помолодела. Она, должно быть, изменяет мужу. А тот болен раком. И какое наказание должно быть Сирке за эту измену? Или сама измена – уже наказание? К чему бы это? Как пить дать Сирка изменяет своему мужу. Но с кем?»
Глядя на сверкающие глаза Сирки, Хяйме пришла к выводу, что здесь, наверное, и без электрика Исскри не обошлось.
Однажды Исскри пришел к Хяйме с бутылкой шампанского и стал объяснять ей, что женщина – как пустой резервуар. Женщина – пустой сосуд, требующий наполнения. Она ждет от мужчины энергии, как минус ждет свою тягу – плюс. И если мужчина не искрит, не наполняет всю ее энергией, то он не тянет.
Поэтому он, Исскри, прежде чем замутить, с грохотом вышибает пробку и наполняет женщину до самых почек шампанским. А когда у той от шампанского и шуток начинает искриться в глазах, уже лезет со своими непристойными предложениями.
У сантехника Каакко Сантари была своя метода. Он приходил с бутылкой водки, потому что знал, что вода и кровь не должны застаиваться в организме.
Но чаще ничего не приносил, потому что чаще наливали ему, Каакко, а он лишь широко улыбался, лил воду и гонял воздух по вентиляционным шахтам и ушам.
Бла-бла-бла…
Эх, всё-таки хорошо, что она, Хяйме, объявила целибат. Иначе она обязательно угодила бы в силки Исскри или Сантари с их шампусиками и бла-бла-бла…
13
Я бы мог чаще думать обо всех в нашем доме. Но так уж получилось, что сегодня я чаще думаю о Тарье и Веннике. И ничего тут не поделаешь. Потому что жизнь случайна и выборочна. Вот и сегодня, встретив в подъезде уставшего Тарью, я снова задумался о нем.
С годами Тарья из жилистого молодого человека превратился в здоровенного мужика, обрюзг, обзавелся животиком. Постепенно ему стало казаться, что он и сам туша, подвешенная на крючок обстоятельств. И что ребенок, которого носит его жена, тоже обречен, что он – килька в консервах на стол буржуям Хаппоненам. А если учесть, что в нашем панельном доме зимой бывает очень холодно, то ближе к зиме приступы мрачного настроения у Тарьи только усиливались. И ему казалось, что весь мир вокруг – холодильник. Холодильник с шумящим и барахлящим компрессором. Или это ветер за окном завывает?
Ветру и вьюге хорошо – они вольные птицы. А Тарья не знает, как вырваться из заколдованного круга своей жизни. Он уже давно мечтает превратиться из человека с огромным грузом ответственности на плечах в человека, которого самого носят на руках. Он просто жаждет превратиться из человека с тяжким грузом за спиной в человека, которого однажды поднимут на скрещенные руки и начнут качать как победителя. А потом пронесут под триумфальной аркой. Каждое утро он вставал ровно в пять часов и пешком шел на работу сквозь морось осени и мороз зимы на работу. Проходил через арку проходной в прохладные помещения раздевалки. Снимал теплую дубленку и надевал холодную спецовку.
Осенью и весной Тарье мороки тоже хватало. Грязь и слякоть под ногами и в подмышках. Вспотеешь – и лезешь потный в холодильник. А тут еще Хаппонен стал что-то подозревать, отчего у Тарьи то и дело выступала на лбу испарина и бежали холодные мурашки по спине.
И не то чтобы Хаппонен-средний не обнаруживал пропажи. То от одного, то от другого клиента поступали жалобы о недостачах в коробах. Просто Хаппонен никак не мог понять, где происходит утечка. Как опытный хозяин Хаппонен выдерживал паузу, пытаясь разобраться. Во время рабочего дня он часто ходил по складу, заложив руки за спину, от фур к поддонам, ревизуя всю производственную цепочку. Он всё высматривал, где тут может мышь проскочить. И бросал подозрительные, резкие взгляды то на одного, то на другого рабочего.
Наглядевшись, Хаппонен-средний вызвал к себе Тарью и предложил тому признаться.
– По твоему хитрому финско-татарскому лицу, Тарья, я вижу: ты знаешь, куда исчезают продукты с нашего склада. И как они попадают на местный продуктовый рынок.
14
Тапко работал на местном вещевом рынке челноком. Он возил китайские тапочки, а частично сам шил свой товар. Работы было много, пахать приходилось с утра до вечера. Когда они скопили некоторую сумму, Тапко предложил Ванни потратить ее на теплую одежду. Но Ванни первым делом решила сделать ремонт в ванной комнате. Чтобы ванная стала красивой, теплой и с большим зеркалом.
Они долго выбирали на строительном рынке плитку. Бордюр и узор. Зеркало и крючки для полотенец и халатов, умывальник и подстаканник для зубных щеток. Главное, чтобы все было в тон. Потратили все деньги и даже немного в долги залезли. Но прежде, чем укладывать плитку, нужно было установить сушку-змеевик. Каакко посоветовал латунную, без швов, а такая стоила очень дорого. Прибавьте к этому шаровые краны «бугатти». Да и за саму работу Каакко брал нехило.
– Это все оттого, что у него нет конкуренции, – рассуждал Тапко. – Каакко – абсолютный монополист нашего «Дома», потому что ключи от подвала есть только у него. И другого сантехника в доме он не потерпит. У меня на рынке столько конкурентов, что за товар особенно не задерешь. А этот бездельник поработал пару часов и заработал целую кучу.
– Я не могу брать меньше, потому что в сварке очень много свинца, – пояснил Каакко, когда Тапко ушел на работу. – Свинец проникает в организм и очень вреден для здоровья.
Пока Каакко говорил, Ванни держала в руках латунный змеевик и ей казалось, что в ее организм вот-вот начнет проникать латунь.
15
Вкусный аромат из квартиры Люлли доходит до моего носа по вентиляционной шахте. Зачарованный этим запахом, я открываю холодильник и достаю оттуда масленку с маслом, банку сардин, багет хлеба. Вскрываю консервы. Ставлю на плиту кастрюльку. Но не чтобы суп из сардин сварить, а чтобы вскипятить воду для чая. Какой уже вечер я питаюсь кое-как, на скорую руку, почти всухомятку. Да, последнее время мне часто приходится принимать пищу холодной.
Слова «холод» и «консервы» вновь толкают меня к ассоциациям с Тарьей и Веннике. Итак, Тарья всю жизнь проработал грузчиком. Каждый божий день вставал и перся на работу, где разгружал ящики с рыбой и огромные короба с маслом и тушенкой. Разгружал целыми вагонами.
Из холода – да в жару. Я думал о Тарье, вяло ковыряясь в консервной банке и запивая сардины горячим чаем. Аппетита не осталось никакого. Равно как и пиетета к еде. Выкинув полупустую-полуполную жестянку в мусорный пакет, я без малейших угрызений совести пошел укладываться спать.
Я знаю, Тарья тоже не испытывает никаких угрызений совести по отношению к жадюгам Хаппоненам, хотя и крадет их имущество.
«Платили бы нормально, никто не стал бы рисковать работой и воровать», – рассуждал Тарья.
Единственная, кто его волновала, была чистюля Веннике. Ей он боялся сказать, чем занимается по ночам. Совесть не позволяла. Совесть и страх. А вдруг чистюля Веннике разочаруется в нем и разлюбит?
– Когда только прекратятся эти твои ночные смены? – тяжко вздыхала Веннике.
– Скоро, скоро, дорогая Веннике. – Тарья понимал, что Веннике о чем-то уже догадалась, и потому в их семье наступил разлад.
– Обещаешь? – Ночные смены Тарьи очень сильно мучили Веннике. Она чувствовала: он что-то недоговаривает. Веннике была женщиной гордой и чистоплотной. Она не могла подпустить к себе Тарью после его ночных смен и заставляла подолгу и тщательно отмываться в ванной.
– Обещаю. Не сегодня-завтра все ночные и дневные смены прекратятся, потому что я, похоже, угодил под сокращение. – В самом деле, не выдавать же Тарье своих товарищей.
Иногда Веннике начинала разговор издалека.
– Тебя что-то не устраивает в наших отношениях, Тарья? – спрашивала Веннике.
– Нет, – покачал головой Тарья, – меня все устраивает. С чего ты взяла?
– Мне кажется, ты что-то скрываешь от меня.
16
Странно просыпаться среди ночи от плача ребенка или от сладострастных женских стонов. Таких ярких и сильных: «Ох, ох… Еще, еще!» – будто сексом занимаются в соседней комнате, или в соседней комнате всхлипывает ребенок, или плачет беззащитный, как дитя, человек: «А-аа, А-аа!»
Ох-х… Я широко открываю глаза и больше уже не могу закрыть. Возбуждение охватывает меня, а тут еще ночь касается меня нежной женской рукой.
«И кто бы это мог так страстно любиться?» – начинаю гадать я, протягиваю руку и нащупываю влажную простыню. От слез ли, от спермы ли?
Я встаю и иду на кухню, чтобы проверить свои догадки. Прижимаю ухо к вентиляционной шахте, пытаясь понять, откуда идет звук. Думаю, так сделали многие мои соседи. Эти то ли стоны счастья, то ли слезы отчаяния многих подняли на уши.
Всякие безумные, сумасбродные мысли лезут мне в голову. Я думаю, что это Кастро привел к себе бабу с шарикоподшипникового, потому что Люлли ушла к сестре или уехала в командировку. А может, это сын Пертти привел к себе девушку. А может, сантехник Каакко ублажает очередную домохозяйку. Но кого: Ванни, Люлли, Веннике или?.. «Ну, иди ко мне, – просит она. – Я уже соскучилась».
А может, это кричит во сне простывший ребенок Неры и Конди? Кто это так надрывно плачет, пытаясь удушить всхлипыванья в подушке?
Я и сам порой готов заплакать в темноте. От безысходности. А Тарья – он держится. Держится из последних сил. Перед сексом Тарья тщательно намывает свое пропахшее рыбой и прогорклым маслом тело, чтобы не испачкать ненароком чистюлю Веннике. Он моется так же долго, как Ванни. А Веннике кажется, будто Тарья что-то скрывает и пытается в ванной избавиться от следов и запахов чужой женщины. Этого напряжения и непонимания двух родственных душ не выдержал душ. И тогда Веннике пришлось пригласить сантехника Каакко Сантари. Тот явился со своим инструментом.
– Отчего такая грусть? – как бы между прочим спросил Каакко у Веннике, ковыряясь в душе. – Расскажи, в чем причина, и тебе станет легче.
– Мне кажется, Тарья нашел себе пассию и мне изменяет, – сама не зная почему, призналась Веннике.
– Так измени ему тоже.
– С кем? – улыбнулась шутке Веннике.
– Да хоть бы со мной!
Веннике внимательно посмотрела на Сантари – шутит или нет?
– Вот увидишь, – сказал Каакко, – тебе станет легче. Ведь мое призвание – прочищать застоявшиеся в стояках отношения.
17
Вернувшись в постель, я долго не могу заснуть и прислушиваюсь к каждому шороху. Может, это, снизив громкость, продолжают заниматься любовью соседи, а может, шаркает по квартире Тапко.
Странные шорохи заставляют меня подумать о Тапко. Чтобы расплатиться с большими долгами, Тапко торговал китайскими и собственноручными тапочками до поздней ночи. Ванни в это время зависала в ванной. Она мылась тщательно – с головы до ног, намыливала сначала волосы, потом тело и ноги, вычищала пемзой пятки. А Тапко волосы оставлял на потом – на следующий месяц, а вот ноги парил регулярно. Каждый вечер набирал воды в тазик и парил. Потому что ноги на рынке порядком мерзли. Разгоряченные же ноги он укутывал в теплые шерстяные носки и прятал в меховые тапки.
Тапко любил еще задирать ноги на диван, пока кровь не оттекала от стоп и ноги не начинали охлаждаться. Квартира и ноги стыли постепенно. Он не препятствовал Ванни подолгу пролеживать в воде – лишь бы не мешала смотреть ток-шоу, пока ток идет по ногам. По ящику в это время ведущий Телле Магганнен заряжал воду положительной энергией…
Не так-то просто ждать, пока Ванни накупается.
Ванни не знала, что Тапко от влажности делалось плохо. Давление поднималось. Она считала, что всему причина – пренебрежительное отношение мужа к вопросам гигиены.
– Неправильно ты моешься, – обижалась на него Ванни. – Из-за этого боги воды могут нас покарать. К тому же, ты моешься по средам и пятницам, когда мыться нельзя.
Тапко и так мылся редко, а после этих замечаний стал мыться еще реже.
А этой зимой у них и вовсе случился разлад. И все из-за ванной: из крана вдруг пошла неприлично желтая вода. Словно воды Стикса, никогда не знавшие солнечного света, вдруг наполнили ванну.
Ванни лежала и не видела своих ног, будто была в рыжих шлепанцах Тапко.
Это все потому, что градоначальник Мерви давно не менял трубы в городе, вот они и проржавели. И эта ржавчина потекла теперь в дома. А летом подолгу не было горячей воды, а на один месяц отключали и холодную. Для Ванни это было мучительно, особенно в жару. Любовью супруги стали заниматься реже.
Из-за ржавой воды стали ломаться машины. А Ванни и так приходилось стирать вручную, поскольку стиральная машинка нигде не помещалась из-за новой просторной ванны, купленной в кредит.
А когда воду и вовсе отключили на целый месяц, Ванни пошла к соседке Кайсе и попросила пустить помыться в их ванной. Потому что у Кайсы в ванной был водогрейный котел.
– И чего ты мыкаешься с этим увальнем Тапко, который не может тебе обеспечить самые элементарные условия? – вздохнув, вошла в положение Кайса. – Тем более у нас в доме живет такой красивый сантехник! Он-то точно обеспечит тебя всем необходимым!
18
Это случилось морозным утром. Тарья спешил домой после очередной «третьей смены» из тех, когда он и подельники, словно мыши, обчищали склады Хаппонена. Ему надо было переодеться, перекусить и отправиться на обычную свою дневную смену.
Чтобы не вызывать подозрений, Тарье следовало выглядеть свежим, как огурчик. Приняв душ, Тарья искал свежую сорочку в шкафу. Мимоходом он обратил внимание на то, что Веннике не встала и не приготовила завтрак. И вообще не собиралась встречать его и провожать. Она лежала с открытыми глазами, но выглядела такой измотанной, будто не он, а она всю ночь ворочала мешки.
– Что случилось? – спросил Тарья, подойдя к кровати. – Ты заболела?
– Да, я заболела, Тарья. Ведь любовь – это тоже болезнь.
– Не понял! – не понял Тарья.
– Я нашла себе другого мужчину и больше не хочу тебя встречать и провожать. Я хочу жить честно. Так что можешь свободно отправляться к своей пассии.
Тарья и пошел, но не к пассии, а на работу. Шел и думал всю дорогу, за что ему такое наказание. Неужели за воровство с хаппоненовского склада? Неужели за то, что он брал чужое для своих родных, его родных заберет теперь какой-то чужой мужчина?
Тарью бросало из жара в холод и из холода в жар. Придя на работу, он был разгорячен так, что прямо в ботинках встал под холодный душ. Но и это не помогло. Тарья не понимал, как такое могло с ним случиться. Приняв для контраста после холодного горячий душ, Тарья зашел в камеру холодильника.
С работы Тарья отправился в больницу, где пожаловался на плохое самочувствие.
– Что случилось? – спросил доктор Эску Лаппи.
– Сердце что-то прихватило.
– Странно, странно… А с виду вы такой здоровый мужчина. А ну-ка сейчас посмотрим, раздевайтесь.






