Сожители. Опыт кокетливого детектива Кропоткин Константин
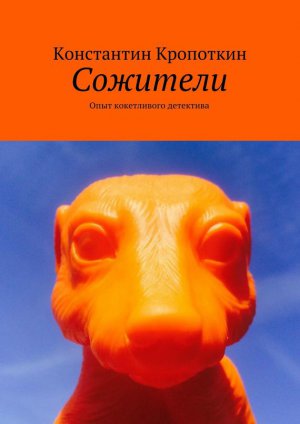
По утвержденному плану Волкову – то есть мне – полагалось самое волчье время – ноябрь-месяц.
В другой день, в другой раз я б на это обстоятельство внимания не обратил, но тогда показалось, что на меня ополчился буквально весь мир – состояние для меня не новое, приступы панического ужаса случаются со мной примерно раз в десять лет: кажется, что сдвигаются вокруг стены – задавить, сплющить норовят – и ничего невозможно поделать….
Я вернулся на свое место у окна, начал тюкать по клавишам, пытаясь работать и не задохнуться – мне не хватало воздуха. Свежего чистого воздуха. Я почувствовал как грязно все вокруг, как серо – нехорошо, подло, вредно для организма.
– Пойдем покурим, – предложил мне кто-то.
– Больше не курю, – ответил я, и, вначале произнеся, потом лишь сообразил, что именно так мне следует поступить. Если вокруг меня столько грязи, зачем себя наполнять ею еще и себя?
Хватит!
– В спортзал ходишь, – вякнул из своего угла Финикеев, – Курить бросил. Стринги-то носишь уже, – он издал что-то вроде «хе-хе».
Не сразу я понял, что имеет ввиду сальный коллега, а поняв, ничего не ответил, только дальше – наверное, немного побойчей – заколотил по клавишам. Смотреть на Финикеева не было нужды – я отчетливо видел, как блестит его нос, похожий на рыло, как бликуют дымчатые очки, изготовленные, наверное, в прошлом веке, как висит серо-коричневым мешком одежда на его бесконечно длинном костлявом теле.
Финикеев – человек-копоть. Тюк-тюк.
Как интересно устроена человеческая психика: я прилежно составлял вопросы для интервью, сверялся с интернет-источниками, кое-что даже с английского перевел, но, как только Финикеев взялся за свой разбухший портфель (а с ним он никогда не расстается), тут же принял боевую стойку – словно все это время не спускал с него глаз.
Он встал и вышел. Вышел и я.
Он направился не к выходу, а в туалет – в конце коридора, что задачу мне только облегчало (понимал ли я свою задачу, когда следовал за ним, когда глядел ему в тощий согбенный хребет?)
В туалете, пока он сидел в одной из кабинок, я мыл руки. Я их очень честно мыл – умывал, если точнее.
Я выключил воду, едва Финикеев вышел.
– Все получилось? – спросил я, оборачиваясь.
Финикеев не ответил, только попытался пройти мимо.
– А ручки помыть не хочешь? Полезно руки в чистоте держать, тебя мама не учила?
Глядя на Финикеева вблизи, я подумал, что нос у него, торчащий из-под безглазых дымчатых очков, действительно смахивает на аккуратное рыльце. Две черные дыры глядели на мир в упор, придавая лицу Финикеева выражение отчетливо свинское.
Я загородил ему дверь, встряхнул ладонями, избавляясь от влаги. Так делают перед операцией врачи.
– А знаешь, что такое модель «рубильник»?
– Нет, – он шагнул в одну сторону, пытаясь обойти, – А что? – шаг в другую и тоже безуспешно.
– Рубильник – это вздернутый носик, увеличенный во много раз.
Он попытался меня оттолкнуть, но я был сильней – я оттеснил его к стене, положил ему на шею обе руки (от неожиданности Финикеев осел, мне даже тянуться не пришлось) и, чувствуя, как забился птицей под ладонью его острый кадык, стал слегка на него нажимать.
Я был аккуратен с Финикеевым. Я был с ним почти нежен. Я лишь чуть-чуть примял ему горло, да постучал облезлым его затылком о замызганный туалетный кафель; я лишь ласково сообщил Финикееву, каким образом распоряжусь его задницей, если он не научится хорошим манерам. Тюк-тюк – мягко вдалбливал я, глядя ему в чуть отъехавшие очки-хамелеоны, – тюк-тюк.
Финикеев выронил портфель – нутро портфеля раззявилось, и наружу вывалилось всякое барахло, главным образом бумажное, пестрое…. Среди всего прочего там были и журналы, похожие на рекламу котлет и окорочков..
Я разжал руки, с брезгливостью осознав, что за пятна украшают потертую крышку финикеевского портфеля.
– А дома-то нельзя этим заниматься? Непременно на работе надо?
Ни слова не говоря, Финикеев ринулся вон.
Улетучилась и моя злость. Я совершенно успокоился – я даже нашел в себе силы побросать замурзанное барахло назад в портфель и поставить его рядом с мусорным ведром.
Некоторые понимают вежливость, как слабость, а грубость – как руководство к действию. Покинув туалет, Финикеев отправился в отдел кадров и, в точности следуя моим рекомендациям, сообщил, что готов с Волковым на обмен: он, Финикеев, пойдет в отпуск осенью, а Волков пусть хоть сейчас отправляется. «Ему голову лечить надо», – добавил от себя любезный коллега.
Два дня спустя мы с Кирычем любовались на памятник Колумбу в портовом городе Барселона.
Полезно иметь врагов: если знаешь, как с ними обращаться, то они могут быть заботливей родной мамы….
– …а знаешь, если бы я писал детектив, то убийцей сделал бы себя самого, – сказал я. Мы с Кирычем пересели из электрички в такси, и теперь оно с натугой везло нас домой сквозь чадные городские пробки.
– Почему? Потому что меньше всего похож?
– Потому что все сходится. У меня был нервный стресс. Если развить эту мысль, то я мог бы в припадке лунатизма отправиться к Андрюшке и жахнуть его чем-нибудь тяжеленьким по башке.
Говорили мы вполголоса, хотя могли бы и орать – таксист упоенно слушал по радио что-то дребезгливо-воющее.
– Маловероятно, – покачал головой Кирыч.
– Все детективные романы строятся на малых вероятностях, – настаивал я, – иначе читатель сразу докумекает, кто кого пришил и ему будет скучно. А почему ты считаешь, что я на убийцу не похож? Откуда ты знаешь, как выглядят убийцы?
– Знаю. В армии видел. У нас один парень был настоящий садист. Любил котят топить, крысам животы вскрывал, – он передернуся.
– В любом человеке есть зверь, просто у кого-то он видней.
Но Кирыч снова покачал головой. Ему не хотелось, должно быть, думать, что он делит кров с убийцей, пускай и маловероятным. Сам в себя я тоже верил мало – какой из меня романист? что вижу, то и пою….
Так мы добрались до дому, и под настороженным взглядом таксиста (не глух, но глуп оказался парень) затащили в подъезд свои чемоданы – благо, этаж первый, преодолеть нужно было только пару ступенек крыльца.
Дверь я открыл своим ключом.
Звонить я не стал специально – ни по телефону, ни во входную дверь. Я хотел знать, как Марк – опасность на букву «М» – жил в наше отсутствие. Я не ждал, конечно, что дом превратится в бедлам, но до конца сожителю тоже не доверял, зная, в какие причудливые истории он может вляпаться просто по дурости.
Мне хотелось знать меру его дурости. В конце-концов, еще недавно я был на грани нервного срыва, и сейчас мне нужно четко понимать, с кем я имею дело. Обошлись, в общем, без стука.
В прихожей стоял незнакомец. Голый. В одних трусах.
– И как вас звать? – спросил я и на всякий случай добавил, – Вотс ё нейм?
По идее, Кирыч на правах самого сильного должен был молча засучить рукава.
Рухнул!
– …Г-голенищев, – представился незнакомец после запинки, со страху готовый повалиться на колени.
Фамилия была мне, вроде, знакома, но я не знал почему. Человека этого я точно никогда не видел.
Из одежды на этом тощем мужчине были только просторные трусы в бело-синюю полосочку. Майка-алкоголичка (а я был уверен, что именно она, а не футболка, например) потерялась где-то на полдороги.
– Да? – сказал Кирыч. Он посмотрел на распахнутую дверь в комнату Марка, на разобранную постель внутри и, поняв главное, взялся за чемодан, – Ну, ладно, приятно познакомиться, – он пошел в спальню.
Не вор это был, не грабитель.
– Хола! – скидывая обувь, сказал я с той же непринужденностью, – что по-испански значит «привет». Мы ж из Испании только что приехали.
– Хэллоу! – сказал Голенищев нерешительно.
В ванной комнате шумела вода, из чего следовало, что второй участник свидания совершает омовения. Странно только, что не поет. Обычно Марк поет под душем. Наверное, сейчас у него поет душа, подумал я, критически оглядывая нежданного гостя.
Вид мужчина имел помятый, потрепанный. Средних лет. Худ, синевато-бел, ножки тонкие, как спички, на впалой груди темные кустики волос.
Среди претендентов на марусину любовь никогда не было писаных красавцев, но тут наш сожитель перещеголял сам себя. Мужчина в трусах был откровенно жалок.
– У вас какой этап? – спросил я.
– В смысле?
– Еще «до» или уже сразу «после»?
– Не понимаю вас.
– Меня «Илья» зовут, в просторечии «черт рыжий». А того амбала, Кириллом. Вы чай уже пили? – я пошел на кухню.
Там было накрыто на двоих: на столе стояла какая-то кондитерская мелочь в пластиковой упаковке, бутылка, два бокала для шампанского с остатками на самом дне….
– Так, – я взял бутылку и посмотрел на свет, – Значит, «после», – бутылка была почти пуста.
Голенищев замялся в прихожей.
– А что? – подумал я вслух, – Романтический обед ничуть не хуже романтического ужина. Только курите вы зря.
– Я не курю, – зачем-то соврал Голенищев, словно не стояла на столе еще и пепельница, полная розовых окурков.
– Бросьте. Сам бросил курить и всем советую. Вы бы видели, как выглядят легкие курильщика – как асфальт на проезжей части, – я опрокинул содержимое пепельницы в мусорное ведро (на удивление не полное, да еще и со специальным полиэтиленовым мешком внутри).
Судя по количеству сигарет, разговор у них был не очень долгий. Две штуки, каждая горит минут пять, плюс немного времени на чай-кофе-потанцуем. Получалось, что в койку влюбленные угодили довольно быстро, минут через пятнадцать-двадцать. Не смогли сдержать пламя страсти.
И где Марк находит таких типов? Даже трусов себе приличных купить не может, а сигареты курит тонкие, длинные, бабьи.
Я все-таки выступаю за стилическую ясность. Если ты здоровый крепкий мужик модели «обезьяна», то можешь быть грубоват, волосат и одет, как попало. Если ты – вечный юноша породы «фея», то вполне уместно носить маечки до пупка, штанишки в обтяг, голос иметь визгливый, душу – нервную. Но если плечики тебе выдала природа утлые, то им ни к чему пузико-арбузик; если грудь у тебя впалая – то клокастую растительность лучше изъять, и курение бросить.
Иначе некрасиво. Не тот коленкор.
Я заглянул в посудомоечную машину, ожидая увидеть там плесень, но – надо же! – и она оказалась пуста и чиста.
– Кирыч! – крикнул я, – Ты есть будешь?
Ответил, что будет. По возне судя, Кирыч вовсю распаковывал чемодан.
– А вы есть будете, Голенищев?
– Нет-нет, что вы, – сказал он, отступая, – Нам пора уже… наверное.
– Нет, почему же. Вы можете не торопиться, – я включил чайник, полез в шкаф за посудой, – Мы – современные люди и не имеем ничего против и, к тому же не можете же вы уйти, не попрощавшись. Нехорошо. Пришли в гости, шампанское принесли. И так просто сбежите? Так ведь можно и сердце разбить человеку. Не жалко вам человечьего сердца?
– Ну, да, – Голенищев сделал робкий шажок вперед.
– Только вы бы оделись что-ли, – не стерпел я.
– Ах, ты, ёб-вашу мать! – выругался он, и отскочил вглубь прихожей.
– А вот маму нашу прошу оставить в покое, – я начал накрывать на стол.
– Ну…, – я закрыл дверь в прихожую, чтоб Марка не смущать.
– Вот ветчина, – сказал Кирыч.
– Прямиком из Испании, – усаживаясь на табуретку, добавил я, – Еще вчера была ногой и висела над прилавком.
– Есть еще «тортийя», – продолжил представление Кирыч.
– Она в просторечии «омлет с картошкой». Тоже свежий импорт. Вчера вечером на рынке гурманском брали.
– Спасибо, благодарен, – сказал Голенищев, сидя на самом краешке стула.
В одетом виде он нравился мне больше. Глядя на таких мужчин, приходится вспоминать об эстетической функции одежды. Пиджак (вполне приличный), рубашка (немного жеваная), галстук (на диво, в тон).
– А шампанского, извините, нет, – произнес я, глядя, как Кирыч разливает по чашкам чай.
– С молоком? – спросил его Кирыч.
– Да, ничего…. С молоком, ага.
– А я б шмякнул. За встречу, за знакомство, – сказал я.
Голенищев виновато улыбнулся. Ни в облике его, ни в поведении ничто не отвечало на мой главный вопрос: где его, такого, добыл Марк? На улице? В метро? В клубе? Где?
– И какие погоды царили в Москве в наше отсутствие? – спросил я гостя. О чем с ним еще говорить?
– Э… ну… да… царили. Они.
– Слышали, что в Москве было резкое похолодание, – сказал Кирыч, укладывая на хлеб заморское мясо, – Сильные ливни, дожди.
– Да, было такое, ага, – согласно задергал подбородком Голенищев.
– А зонтик у вас есть? – спросил я, – Да вы пейте чай-то, что ж вы не пьете? Тортийю будете?
– Есть, ага. Ну, это…, – он с мукой посмотрел на дверь, надеясь, должно быть, что амант, наконец-то, покончит с мытьем, придет и спасет его. Ха! Он не знает еще, что Марк может часами репетировать в ванной вселенский потоп.
Я нарезал испанский омлет, раскидал куски по тарелкам.
– В общем, дело ваше обстояло так, – сказал я, готовясь приняться за еду, – Шел дождь. Сильный ливень. На автобусной остановке стояли двое. Вы, а рядом жалкий птенчик – трясся, бедняжка, без всякого зонта. Как настоящий рыцарь, подошли вы к нему, зонт над ним вознесли. «Благодарю», – сказал бедняжка, затрепетав ресницами. «Не за что», – сказали вы, придвигаясь поближе, потому что дождь сильный, зонтик маленький, да и вообще, вдвоем-то лучше, чем одному. Да? – я посмотрел на Голенищева, ковырявшегося в омлете не без растерянности, – Так ведь?
– Вдвоем лучше, – признал он, – Конечно.
– «…и синий дождь бил наугад – по окнам, в двери. И я смеялась невпопад, глазам не веря…», – с выражением произнес я.
Голенищев посмотрел удивленно. С чувством юмора у него было туго.
– Вы не бойтесь. Я не поэт. Я романы пишу. С продолжением.
– Э-э-э…. Как это?
– Не «как», а «чем», – сказал я, – Ручками.
– Вы книги пишете, да? – и снова робко так, трогательно.
– Ничего он не пишет, ешьте, – сказал Кирыч.
Я покачал вилкой.
– Почему же. Пишу.
– Что? Правда? Книги? – сказать по правде, восхищенный Голенищев нравился мне больше, чем Голенищев растерянный. И вряд ли дело в том только, что у одежды есть еще и эстетическая функция.
Кирыч произнес что-то вроде «тья», реагируя на полет моей фантазии в обычном своем духе.
– А называется как? – спросил Голенищев.
– А хрен его знает. «Любовь и ненависть дона Мёрдера». Или «Маруся отравилась».
– Может лучше «Каждой дырке по бублику»? – сказал Кирыч.
– А что? Хорошая идея! Назову-ка я свою нетленку «Все норки попадают в рай». Мне как раз сон снился.
– К-какой? – спросил Голенищев.
– Мне снился сон, будто я – норка. Драгоценный зверь. И вот, я будто бы умер и попадаю в рай….
– Куда ты попадаешь? – весело прищурился Кирыч. У нас ним только что завершился отпуск – и это было видно даже лучше, чем загар. Он отдохнул, я отдохнул – у нас снова появились силы на придурь.
– А бог мне и говорит, – далее я загудел, – За праведную твою жизнь, говорит, назначаю тебе последнее желание. Покрутил я своим гладким телом и говорю, – я запищал, – боженька-душенька, сшей мне, пожалуйста, шубу из кожи богатых женщин.
Кирыч расхохотался. Дребезгнул и Голенищев.
– А что? Я за справедливость. Бог – не Тимошка, видит немножко. Про то и роман будет. Про судьбы приличных людей. Кокетливый практически детектив.
– Р-романист, – прорычал, смеясь, Кирыч.
– Ну, мне нравится… этот… красный… замысел вашей линии, – сказал Голенищев.
– Линия, положим, будет голубая, – глубокомысленно произнес я, понимая, наконец, что в этом задохлике нашел наш павлинистый Марк.
Голенищев был непосредственный – реагировал живо, дурацких спектаклей, в отличие от меня, не разыгрывал. Естественный, забавный….
А дальше мир рухнул. Он просто рухнул. Вы представляете?
Мне хотелось рычать. Мне хотелось ругаться. Мне хотелось залиться горючими слезами и хотя бы этой субстанцией скрепить куски мира, который распадался буквально на глазах.
Есть в жизни несколько законов, которые я считаю незыблемыми. Они аксиоматичны, эти законы. Например, в жизни каждый получает ровно столько, сколько заслуживает. Например, не надо делать другим то, что ты не хотел бы, чтобы сделали тебе. Например, нельзя завидовать, чтобы не случилось эрозии души.
Этих «например» не очень много, но для приличной жизни вполне достаточно. Мое главное «например» – нельзя предавать любовь. Если дали тебе любовь, принесли свою душу на тарелочке, то нельзя превращать эту посуду ни в плевательницу, ни в ночной горшок.
Нельзя, немыслимо, невозможно.
Все, что нам нужно – это любовь; все то прекрасное, что существует в жизни – только от любви. Любовь – это вьюн, который пробивается сквозь корку опыта. Он, вьюн – возникший непонятно как, возносящийся неведомо куда – высоко – и делает нас настоящими людьми.
Любовь – единственное, ради чего стоит жить. Только любовь оправдывает наше существование.
И потому предавать любовь – нельзя. Такой закон.
Но этот закон, как выясняется, законом не является. Он пустое место даже для тех, кого сложно упрекнуть в корысти и злобе, в ненависти и подлости.
Рухнул мир. Рухнул.
Дверь на кухню отворилась без скрипа – я в пылу мечтаний не сразу и заметил, как она отворилась – просто что-то большое заняло место рядом. Я посмотрел – и вместо веселого белого хохолка увидел россыпь мелких черных кудряшек.
Манечка. Моя коллега Манечка. Та самая Манечка, женщина-катастрофа.
Вы представляете?
У бабы – немолодой, некрасивой, не сильно богатой – появляется любовник.
Любовник.
С большой прекрасной буквы. Который любит ее наотмашь, на разрыв души, который красив, как бог, богат, как крез, умен, как неподдельный выпускник Кембриджа. Но главное – влюблен. Он хочет ее – немолодую, некрасивую, не сильно богатую – замуж. Он мечтает прожить с ней всю жизнь. Стать мужем ей, дуре, а не любовником, какой бы большой ни была его передняя буква.
Нет, не забыть мне никогда, как сидел он рядом со мной в метро, как говорил о своей любви к Манечке, этой странной толстухе, любительнице пения в неподходящее время, орания, где попало, скандалов по любому поводу. Он полюбил ее, а она в ответ что?
А что она?
Дура. Взяла и наставила принцу рога. И, словно желая уязвить побольней, нашла такого, который уступает по всем статьям – облезлого сморчка, главное достоинство которого – непосредственность.
Я был так ошарашен, что забыл подумать, что, собственно, толстуха делает в моей квартире?
Как? Как ты могла?! – спросил я глазами толстуху.
Не сейчас – также глазами ответила мне она.
– М-да, – только и смог вымолвить Кирыч, ошарашенный не менее моего.
– Кирыч, дорогой, – сказал я, – Может, у нас хотя бы водка есть?
Вспомнил. Вспомнил
Интересно бывает: произносят люди слова, и, слушая их, можно даже вообразить, что брызжет, искрится и переливается самое веселое веселье.
Ан-нет.
На словах веселятся, а одновременно темной водой – невысказанным – течет себе большая река.
– Ты уже сказала нашему гостю о своем недуге? – спросил я Манечку, чувствуя себя в нашей блестящей кухне, как в морге.
Голенищев закашлялся. Задергался блестящий нос.
– О котором? – спросила Манечка. Она запихивала в себя сочные, как солнце, куски омлета.
– Что ты нимфоманка-девственница.
– Это как же? – озадачился Кирыч.
– Нет еще, не сказала, – ответила толстуха, не поведя и бровью.
– Вы ее извините, – я обратился к Голенищеву, – Манечка – девица очень скромная, даром, что жрет, как паровоз.
– А еще я гудю, – с набитым ртом подтвердила та.
– Она гудит, да. Она так гудит, что хоть святых выноси. Особенно если трахается. А трахается она часто, потому что нимфоманка.
– Ну, я вообще-то, и на нимфу согласна.
– Нет, уж, прости. Ты – нимфоманка-девственница, – я попивал свой чай, говорил меланхолично, почти мечтательно, и голос был глубок, как всегда у меня бывает, когда находит, наваливается на меня вдохновение, – Спишь с первым встречным-поперечным, а душа у тебя чистая. Нежная у нее душа, вы понимаете? – я посмотрел на недотепу, которого толстуха назначила любовником. Любовником с простой, прописной буквы.
Голенищев заелозил на своей табуретке.
– Нельзя ей туда, в душу плевать, – продолжил я, – потому что при всем своем блядском поведении, душа ее – настоящий цветок. Если б до революции жила, то звалась бы ее душа «розаном», а по нынешним временам, – я сделал ленивую паузу, – пусть будет орхидея.
– Ага, я – очень феноменальная женщина, – сказала Манечка, – Странно даже, что еще никто не пожертвовал мне миллион долларов.
– Лучше евро, – сказал Кирыч.
– Да, ей, по совести говоря, и миллиона рублей достаточно, – сказал я.
– Слушай-ка, Голенищев, – сказала Манечка, – Ты бы пожертвовал мне миллион?
– У меня нет миллиона….
– Манечка, – взвыл я, – Ты посмотри на этого фрайера?! У него нет даже миллиона. Какой-то кошмар. А вы представьте, что у вас есть миллион, господин Голенищев. Вы бы пожертвовали его такой феромономенальной женщине, как Маня?
– Не знаю, – неуверенно прознес Голенищев и торопливо добавил, – Я не в том смысле, что вы…, что ты….
– Молодец, – сказала толстуха, – Хоть не врешь. Если бы у меня был миллион, хрен я бы его кому отдала. Даже такому классному ебарю, как ты.
Голенищев порозовел:
– Не деньгах счастье.
– Ты точно не миллионер? – спросила Манечка.
– Ну, да, – неуверенно ответил он.
– Тогда не болтай чепухи. Вот, будет у тебя много денег, тогда и станешь говорить, что не в них счастье.
– Да, дорогая нимфоманка-девственница, вы совершенно правы, – сказал я, – Только бывают же и чудеса. У меня есть подруга одна. У нее есть лавер. Точнее, был. Красивый, просто страсть.
Не надо, – посмотрела на меня Манечка.
«Не начинай», – говорила мне она без слов.
– Ну, хорошо, – сдался я, – У меня есть один друг, а у него есть любовник. Я из мужеложцев, если вы, господин Голенищев, еще не догадались. И он, кстати, тоже, – я указал на Кирыча.
Кирыч страдальчески закряхтел. Такие ремарки были не в его вкусе.
– Так вот, у любовника моего друга просто скопище достоинств, аж глядеть на него страшно.
– Вот именно, – сказала Манечка.
– Казалось бы, идеальный парень. Просто хоть прямиком в грошовый роман с мужскими пятками на обложке. И что вы думаете?
– Мы ничего не думаем, нам пора уже, – Манечка расправилась с испанским омлетом, встала, вытерла руки о свой черно-синий сарафан. Вскочил и Голенищев.
– А мой друг, он скотина, если кто еще не догадался, – настойчиво втолковывал я, тоже вставая, – вместо того, чтобы схватиться за принца, зажить с ним в счастьи и любви, коктейли жрать, пока цирроз печени не наступит – вместо всего этого, он, блядина, взял его и бросил.
– Не понимаю вас, – вежливо сказал Голенищев, отступая.
– Всякое бывает. Может быть, они просто друзья были, а ты не понял, – Манечка пошла к двери.
– А ведь такой красивый парень-то, – не отставал я, – умный, добрый, честный.
– Каждому свое, – Манечка почти рявкнула, – Кому одно, а кому другое.
В прихожей они споро натянули обувь.
– Жаль, не напились до свинячьего визга, – сказал я.






