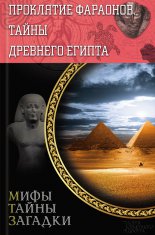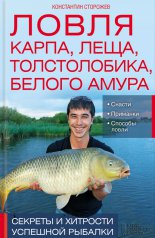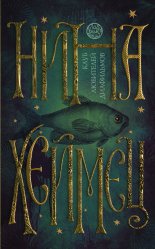Сад вечерних туманов Энг Тан Тван
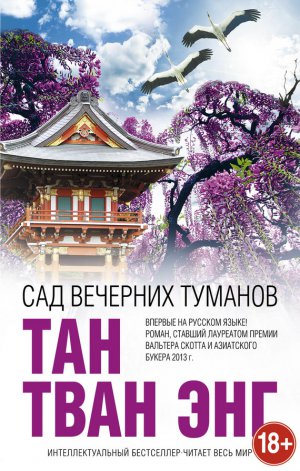
— Я вдруг обнаружила, что у вас впечатляющая репутация.
— Определение «одиозная» подошло бы больше, — откликается Тацуджи, тем не менее вид у него явно польщенный.
— У профессора Йошикава есть обыкновение выносить на обсуждение очень непопулярные темы, — объясняю я Фредерику.
— Всякий раз, когда вносятся изменения в наши учебники истории, чтобы убрать любые упоминания о преступлениях, совершенных нашими войсками, всякий раз, когда министр правительства посещает святилище Ясукуни[26], — говорит Тацуджи, — я рассылаю в газеты письма с протестами против этого.
— Ваш собственный народ… — произносит Фредерик, — как люди реагируют на это?
Некоторое время Тацуджи безмолвствует.
— За последние десять лет на меня совершено четыре нападения, — отвечает он наконец. — Я получаю письма, в которых мне грозят смертью. Но все равно продолжаю вести программы на радио и телевидении. Убеждаю всех и каждого, что мы не можем отрицать свое прошлое. Мы должны искупать вину. Обязаны.
Возвращаю разговор к причине нашей встречи:
— Накамура Аритомо весьма долго не был ни в чести, ни в моде. Даже при жизни. Почему же у вас возникло желание написать о нем сейчас?
— Когда я был моложе, у меня был друг, — говорит Тацуджи. — Он владел несколькими образцами укиё-э[27] Аритомо-сэнсэя[28]. И всегда с восторгом рассказывал, что они были созданы садовником императора. — Историк касается губами краешка чашки и издает звук одобрения. — Превосходный чай.
— С плантации Маджуба, — сообщаю я ему.
— Непременно надо не забыть купить, — обращается Тацуджи к Фредерику.
— Ужаси-ё — это что? Та ерунда, которой Аритомо занимался? — спрашивает тот.
— Гравюры на дереве, — поясняет Тацуджи.
— Вы привезли их? — перебиваю его я. — Те гравюры, которыми ваш друг владел?
— Они были уничтожены во время воздушного налета вместе с его домом, — японец выжидающе замолкает, но, видя, что я молчу, продолжает: — Моему другу я обязан своим интересом к Накамура Аритомо. О его живописных работах не написано ничего сколько-нибудь стоящего. Как и о его жизни после того, как он покинул Японию. Я решил хоть немного восполнить пробел.
— Юн Линь, видите ли, никому не дает разрешения на использование художественных творений Аритомо, — говорит Фредерик.
— Мне известно, что Аритомо-сэнсэй оставил все, чем владел, вам, судья Тео, — замечает Тацуджи.
— Вы послали мне вот это, — я кладу на стол деревянную палочку.
— Вы знаете, что это такое?
— Это держатель иглы для татуировок, — отвечаю я. — Ими пользовались до того, как татуировщики перешли на электроиглы.
— Аритомо-сэнсэй создал совершенно иной вид живописного творчества, тот, который он никогда не раскрывал публике. — Тацуджи берет держатель. У него тонкие пальцы, маникюр. — Он был мастером хоримоно[29].
— Кем-кем? — спрашивает Фредерик, рука которого с чашкой чая застывает на полпути ко рту. Рука слегка подрагивает. Когда же я стала замечать все эти мелкие признаки старости у окружающих меня людей?
— Аритомо-сэнсэй был больше, чем императорский садовник. — Тацуджи большим пальцем поправляет узел своего галстука. — Он был еще и хороти, мастер татуировки.
Я выпрямляю спину.
— Между художником-гравером на дереве и мастером хоримоно всегда существовала тесная связь, — продолжает Тацуджи. — Они черпали из одного и того же источника вдохновения.
— И что же это за источник? — спрашиваю.
— Книга. Роман из Китая, переведенный на японский язык в восемнадцатом веке. «Суикоден»[30]. Когда его опубликовали, он стал бешено популярен.
— Вроде тех штучек, которые неизменно приводят в неистовство ваших школьниц, — бросает Фредерик.
— Куда больше, — говорит Тацуджи и предостерегающе поднимает указательный палец для Фредерика, прежде чем обратиться ко мне: — Я бы предпочел поговорить наедине, судья Тео. Если можно, давайте договоримся и встретимся в другое время…
Фредерик делает движение, собираясь встать, но я, глядя на него, отрицательно повожу головой.
— Что дает вам уверенность, Тацуджи, в том, что Аритомо был мастером татуировки? — спрашиваю.
Историк бросает взгляд на Фредерика, потом на меня:
— Мужчина, которого я когда-то знал, носил на теле татуировку.
Он молчит несколько мгновений, пристально вглядываясь в пустоту.
— Он сказал мне, что ее сделал Аритомо-сэнсэй.
— И вы ему поверили.
Тацуджи смотрит мне прямо в глаза, и я даже вздрагиваю от боли в его взгляде.
— Он был моим другом.
— Тем самым, у которого имелась коллекция гравюр Аритомо? — спрашиваю я.
Тацуджи кивает.
— Вам следовало бы его привезти с собой сегодня.
— Он скончался… несколько лет назад.
На какой-то миг я вижу отражение Аритомо на поверхности стола. Приходится сдерживаться, чтобы не оглянуться и не посмотреть, не стоит ли он сзади, заглядывая мне через плечо. Один взмах ресниц — и он исчез.
— Я согласилась встретиться с вами по поводу ксилографий Аритомо, — напоминаю я Тацуджи. — Они вас по-прежнему интересуют?
— Вы разрешите мне использовать его укиё-э?
— Мы обсудим, какие из гравюр войдут в вашу книгу, как только вы закончите их осмотр. Однако — никаких упоминаний о татуировках, якобы сделанных им, я не разрешаю. — Я подняла руку, останавливая готового перебить меня Тацуджи. — Если вы нарушите какое-либо из моих условий — любое из них, — я сделаю все, чтобы тираж вашей книги целиком пошел под нож.
— Японский народ имеет право по достоинству оценить работы Аритомо-сэнсэя.
— Я, — указываю себе на грудь, — одна я буду решать, на что японский народ имеет право.
Поднимаясь на ноги, я морщусь от боли в суставах. Историк встает, чтобы помочь мне, но я отталкиваю его руку.
— Я соберу все оттиски. Мы снова встретимся через несколько дней, чтобы вы могли ознакомиться с ними.
— Сколько их всего?
— Понятия не имею. Двадцать или тридцать, наверное.
— Вы никогда не рассматриваете их?
— Только некоторые.
— Я живу в гостинице «Коптильня». — Историк записывает номер телефона на листочке бумаги и протягивает его мне. — Можно мне осмотреть сад?
— За ним не было должного ухода.
Я звоню в бронзовый колокольчик на подносе:
— Мой домоправитель проводит вас к выходу.
День выдался безоблачный, сильный поток ясного света заливает сад. Листья клена, растущего рядом с домом, уже начали рдеть и скоро полностью окрасятся красным цветом. По какой-то неведомой причине этот клен никогда не обращал внимания на отсутствие смены времен года в предгорье. Привалившись к деревянной стойке, костяшками пальцев растираю бедро, отгоняя боль. Понадобится время, чтобы вновь привыкнуть сидеть по-японски. Уголком глаза замечаю, что Фредерик внимательно смотрит на меня.
— Не доверяй этому человеку, — говорит он. — Тебе следует предоставить гравюры и другим специалистам.
— У меня не так много времени.
— А я-то надеялся, что ты побудешь немного. У нас тут новая чайная, хочу тебе показать. Вид оттуда великолепнейший. Нельзя тебе снова уезжать так скоро. — Он смотрит на меня и, похоже, понемногу догадывается, в чем дело: лицо его опадает.
— Что еще? Что случилось?
— Что-то такое у меня в мозгу, что-то, чего там быть не должно. — Я поплотнее запахиваю на себе жакет. Он ждет дальнейших объяснений. — Мне стало трудно запоминать имена. Были случаи, когда я никак не находила нужных слов.
Фредерик машет рукой:
— Со мной такое тоже случается. Это просто возраст нас достает.
— Тут другое, — возражаю я. Он вскидывает взгляд, и я уже прикидываю, а не смолчать ли об этом. Но… — Сидела как-то днем в суде и вдруг, ни с того ни с сего, не могла понять, как ни старалась, что сама же написала.
— Врачи, что они сказали?
— Нейрохирурги провели обследование. И сообщили мне то, что я и сама подозревала. Я теряю способность читать и писать, понимать речь — на любом языке. Через год — возможно, позже, возможно, раньше — буду не в состоянии выражать свои мысли. Стану фонтанировать бессмыслицей. Чту люди говорят, чту значат слова, которые я буду видеть на страницах, уличных вывесках — повсюду, все это станет для меня непонятным, — на несколько секунд я умолкаю. — Мои умственные способности ухудшатся. Затем последует слабоумие.
Фредерик не сводит с меня глаз:
— В наше время врачи способны вылечить что угодно.
— Не хочу обсуждать это, Фредерик. И держи язык за зубами.
Моя ладонь останавливает его, моя ладонь с двумя обрубками вместо пальцев. Мгновение спустя я сжимаю три пальца и отвожу руку назад, держа ее крепко сжатой в кулачок. Такое ощущение, будто схватила в воздухе нечто неосязаемое.
— Придет время, когда я растеряю все свои способности… наверное, даже память утрачу, — выговариваю я, с усилием удерживая спокойствие в голосе.
— Записывай, — говорит он. — Все записывай, все воспоминания, которые для тебя важны. Это нетрудно: все равно что написать одно из твоих судебных решений.
Бросаю на него косой взгляд:
— Что ты знаешь про мои решения?
В ответ Фредерик смущенно улыбается:
— Адвокатам было поручено присылать мне копии, всякий раз после их публикации в Судебных отчетах. Ты хорошо пишешь: твои решения понятны и побудительны. Я до сих пор помню то дело министра, который привлек черную магию, чтобы убить свою любовницу. По-хорошему, тебе бы следовало из них книгу составить. — Морщины у него на лбу сделались глубже. — Ты как-то процитировала одного английского судью. Разве не сказал он, что слова — это орудия профессии юриста?
— Скоро я не смогу пользоваться этими орудиями.
— Я буду читать тебе. Стоит только тебе захотеть снова услышать твои собственные слова, и я буду тебе их читать вслух.
— Ты что, не понимаешь, что я пытаюсь тебе втолковать? К тому времени я буду не в состоянии понимать, чту мне говорит кто угодно!
Он не вздрагивает от моего гнева, но видеть печаль в его глазах невыносимо.
— Ты лучше иди, — говорю я, отталкиваясь от стойки. Мои движения мне самой кажутся медленными, тяжелыми. — Я тебя и без того задержала.
Фредерик смотрит на часы:
— Это не важно. Так, несколько журналистов, которым придется показать плантацию, очаровать их, чтобы написали что-нибудь хвалебное.
— Ну, это будет не слишком сложно.
Улыбка проскальзывает по лицу Фредерика и тут же гаснет. Он хочет сказать что-то еще, но я качаю головой. Он сходит с веранды по трем низким ступенькам, потом медленно поворачивается ко мне. Совершенно неожиданно он становится похож на старого-престарого деда.
— Что ты собираешься делать?
— Собираюсь прогуляться.
У входной двери А Чон протягивает мне посох для ходьбы. Я отрицательно трясу головой, потом забираю у него палку. У нее удобная тяжесть. Какое-то время смотрю на посох, а затем все же возвращаю. Шага через три-четыре останавливаюсь и оглядываюсь через плечо. А Чон все еще стоит, глядя на меня. Чувствую на себе его пристальный взгляд всю дорогу, пока иду до противоположной стороны пруда. Когда оглядываюсь и смотрю через все пространство воды, его уже нет — скрылся внутри дома.
Воздух свеж, словно бы им никогда не дышало ни одно живое существо. После липкой жары Куала-Лумпура такая перемена приятна. Уже почти полдень, но солнце прячется за облаками.
Поверхность воды выстлана лепешками листьев лотоса, словно плиткой. В предыдущий вечер я этого не заметила. Изначально кромкам противоположных берегов пруда была придана форма океанских волн, вздыбленных прибоем, но их не закрепили как следует, и очертания расплылись. Стропила на крыше павильона обвисли. Кажется, что все сооружение тает, теряя память о былой своей форме. Листья, мертвые насекомые и отшелушившаяся кора под ногами. Что-то гибко скользит среди всего этого, и я отступаю назад.
Дорожка, ведущая в сад, выложена сланцевыми кольцами, нарезанными из сердечников буров, списанных с золотых приисков Рауба. С каждого поворота дорожки открывается иной вид, ни с какой точки нельзя обозреть весь сад целиком, что создает впечатление, будто он раскинулся шире, чем есть на самом деле. Декоративные предметы лежат полускрытыми в высоких метелках травы лаланг: гранитный торс; вырезанная из песчаника голова Будды, черты лица его сглажены туманом и дождем; камни необычной формы или расцветки. Каменные фонари, крышки которых увешаны лохмами паутины, угнездились среди свивающихся папоротников. Югири, по замыслу, с самого первого камня, заложенного Аритомо, должен был выглядеть старым; ныне иллюзия возраста, которую мастер создавал, обратилась в реальность.
Рабочие Фредерика ухаживали за этим местом, следуя данным мною указаниям. Сад содержали неумело: ветви, которые следовало оставить расти, обрезались, вид, который должен был быть затененным, открывался вовсю, дорожки расширяли безотносительно ко всеобщей гармонии сада. Даже ветер, проносясь сквозь кустарники, звучал не так, как должен бы, потому что подлеску позволялось расти чересчур густым и чересчур высоким…
Упущения и ошибки подобны фальшивым звукам, которые копятся с появлением все большего числа плохо настроенных музыкальных инструментов в оркестре.
А ведь Аритомо однажды мне сказал, что из всех созданных им садов этот значит для него больше всего.
На половине своей прогулки я остановилась, повернулась и направилась обратно к дому.
Бронзовый Будда четырнадцатого века в кабинете не постарел, заботы мира не оставили следов на его лице. Проветривая комнату, А Чон весь день держал окна открытыми, но запах плесени от книг на полках состаривает сумрак, заполняющий весь дом.
Ощущение, что со мной что-то неладно, дало о себе знать пять-шесть месяцев назад. Я часто просыпалась от болей ночью и стала быстро уставать. Случались дни, когда не удавалось вызвать в себе никакого интереса к работе. Беспокойство переросло в жалящий страх, когда стали забываться имена и слова. Я начала подозревать, что это не просто наступление старости, а нечто большее. Я была болезненно слабой, когда освободилась от лагерной каторги, и полностью здоровье мое так никогда и не восстановилось. Я заставила себя вернуться к той жизни, которою жила до войны. Адвокатская, а позже судейская деятельность смягчала боль, я находила удовольствие в работе над словом, в применении закона. Более сорока лет мне удавалось не обращать внимания на истощение собственного тела, зато меня никогда не покидал вечный страх, что придет день, когда истощать во мне будет уже просто нечего. Чего я не ожидала, так того, что это время придет так скоро, так стремительно.
Я стала падающей звездой, тянущей за собой все вокруг, даже свет, в безостановочно раздающуюся пустоту.
Стоит только потерять всякую способность контактировать с окружающим миром, как не останется ничего, кроме того, что я помню. Мои воспоминания уподобятся песчаной отмели, отрезанной от берега приливом. Со временем они уйдут под воду, станут недосягаемы для меня. Такая перспектива ужасает. Ведь что за личность без хранимого в памяти? Призрак, обреченный витать между мирами — не имеющий ни индивидуальности, ни будущего, ни прошлого.
Предложение Фредерика, чтобы я записывала то, что не желала забыть, угнездилось в подсознании. Понимаю бесполезность этого, но часть меня жаждет быть уверенной, что, когда придет страшное время, у меня все равно останется возможность, пусть и скудная, как-то ориентироваться, помочь себе определять — что есть реальность.
Сидя за столом Аритомо, я осознаю, что в моей жизни есть куски, которые я не хочу терять, хотя бы потому, что до сих пор не знаю, как связать их воедино.
Когда суждено будет забыть многое, появится ли во мне наконец ясность в понимании того, кем были Аритомо и я друг для друга? Если к тому времени я все еще сохраню способность читать свои собственные слова, уже лишившись знания, кто занес их на бумагу, придут ли ко мне ответы?
Там, снаружи, горы вписаны в сад, стали частью его. Аритомо был мастер шаккея[31], искусства «заимствованного пейзажа», он использовал создания стихий и виды за пределами сада и делал их неотъемлемыми частями своего творения.
Утекает память. Я тянусь за ней, как будто ловлю лист, по спирали слетающий с высокой ветки. Я должна. Кто знает, вернется ли она ко мне когда-нибудь снова?
Во времена Чрезвычайного положения некоторые люди, приезжавшие частным порядком посмотреть чайную плантацию Маджуба, просили также показать им Югири. И иногда Аритомо разрешал. В таких случаях я должна была встречать посетителей у главного входа. Большинство из приезжавших были высокопоставленными государственными чиновниками, приехавшими отдохнуть с женами на Камеронском нагорье, прежде чем вновь вернуться к войне с укрывающимися в джунглях коммунистами-террористами. Они слышали про сад в горах и хотели взглянуть на него своими глазами, чтобы хвастать перед приятелями: мол, вот, были одними из немногих, удостоенных чести пройтись по нему. Гомон предвкушения обычно горячил воздух, когда я приветствовала гостей. «Что означает «Югири»?» — спрашивал кто-нибудь (обычно кто-то из жен), и я обычно отвечала: «Вечерние туманы».
Если час был подходящим и свет позволял, гости могли даже уловить мимолетное видение Аритомо, одетого в юката и хакама[32], выравнивавшего линии на белом гравии: садовник делал движения, будто практиковался в каллиграфии на камне. Наблюдая за выражениями лиц гостей, я понимала: кое-кто (если не все они) гадали про себя — не ошиблись ли их глаза, не видят ли они того, чего быть тут не должно? То же самое пришло на ум и мне, когда я впервые увидела Аритомо.
Он никогда не сопровождал этих людей, предпочитая, чтобы развлекала их я. Однако он прекращал свои занятия и беседовал с гостями, когда я представляла его им. Я была уверена: те же вопросы много раз задавались раньше, на протяжении долгих лет, прошедших с тех пор, как он впервые появился в этих горах. Но тем не менее он терпеливо отвечал на них, причем я не замечала у него никаких признаков скуки. «Это верно, — обычно начинал он, предваряя свой ответ легким поклоном, — я был садовником императора. Но это было в иной жизни».
Неизбежно кто-нибудь интересовался, почему он, бросив все, приехал в Малайю. По лицу Аритомо разливалось выражение изумления, будто бы никогда прежде такого вопроса ему не задавали. Я улавливала искорку боли в его взгляде, и некоторое время не было слышно ничего, кроме перекликающихся на деревьях птиц. Потом он издавал короткий смешок и говорил: «Возможно, когда-нибудь, еще до того, как перейти через плавающий мост снов, я отыщу причину этого. Тогда я вам обязательно об этом расскажу».
Иногда случалось, что гости (обычно из тех, кто воевал или был вроде меня заключенным японских лагерей) настраивались воинственно, они не успевали и рта раскрыть, а я уже заранее знала, кто из них распалится. Тогда взгляд Аритомо обретал арктическую холодность, уголки его рта загибались вниз. Однако он всегда оставался вежливым, поклонами как бы заключая в скобки свои ответы, прежде чем уйти от нас.
Несмотря на навязчивые вопросы, я всегда чувствовала, что временами Аритомо нравилось считать, что и он — одна из причин, по которой люди приезжают посмотреть Югири, что они надеются на везение увидеть его, словно он редкий и необычный цветок дикой орхидеи, который нигде больше в Малайе не сыскать. Наверное, как раз поэтому Аритомо, невзирая на свою нелюбовь к гостям, ни разу не помешал мне представить ему посетителей и неизменно надевал национальную одежду всякий раз, когда узнавал, что очередная группа придет осмотреть его сад.
А Чон уже ушел домой. Дом безмолвен. Откинувшись в кресле, я закрываю глаза. Картины проносятся перед моим взором. Флаг полощется на ветру. Крутится водяное колесо. Пара журавлей взлетает над озером, с каждым взмахом крыльев уносясь все выше и выше в небо, забираясь к солнцу…
Когда я вновь открываю глаза, почему-то мир кажется другим. Яснее, определеннее, но и — меньше.
Это будет не слишком отличаться от написания судебного решения, убеждаю себя. Я непременно найду нужные слова: они — всего лишь орудия, которыми я пользовалась всю свою жизнь. Из закромов памяти я буду черпать и записывать воспоминания о времени, которое провела с Аритомо. Я исполню, исполню танец под музыку слов — хотя бы еще раз.
Вижу, как за окнами густеют туманы, стирая с глаз долой горы, взятые взаймы садом. «Неужели и туманы — тоже деталь шаккея, сведенного воедино Аритомо? — думаю я. — И он задействовал не только горы, но и ветер, облака, постоянно меняющийся свет? Не заимствовал ли он у самих небес?»
Глава 3
Мое имя Тео Юн Линь. Я родилась в 1923 году на Пенанге, острове на северо-западном побережье Малайи. «Проливные китайцы»[33], мои родители говорили в основном на английском языке и попросили доброго друга нашей семьи, который был поэтом, выбрать для меня имя. Тео — это моя фамилия, мое семейное имя. Как и в жизни, семья должна стоять на первом месте. Так меня всегда учили. Я никогда не меняла порядок слов в своем имени, даже когда училась в Англии, и никогда не звалась каким-нибудь английским именем, только чтоб кому-то от этого было легче.
На чайную плантацию Маджуба я приехала 6 октября 1951 года. Мой поезд вполз на станцию Тапах-Роуд, опоздав на два часа, а потому стало легче, когда я в окно вагона заметила Магнуса Преториуса. Он сидел на лавочке со свернутой газетой на коленях и поднялся, когда поезд остановился. Он был единственным мужчиной на платформе с черной повязкой на глазу. Я сошла с вагона и помахала ему. Прошла мимо дрезины, везшей двух солдат, составлявших расчет установленных на дрезине пулеметов: вооруженная вагонетка сопровождала поезд, едва мы выехали из Куала-Лумпура. Пропотевшая хлопчатобумажная кофточка прилипла к моей спине, пока я пробивалась сквозь толпу молодых, одетых в форму цвета хаки австралийских солдат, не обращая внимания на их свист и взгляды, какими они меня провожали.
Магнус разогнал осаждавшую меня шайку носильщиков-тамилов и сказал, забирая мой чемодан:
— Юн Линь, и это весь твой баранг[34]?
— Я пробуду всего неделю.
Магнусу было уже под семьдесят, хотя выглядел он на десяток лет моложе. Выше меня на голову, он отлично справлялся с излишком веса, столь обычного у мужчин его возраста. Был он лысоват, волосы по бокам головы поседели, оставшийся глаз утопал в морщинках, но сиял поразительной голубизной.
— Извините, Магнус, что вам пришлось ждать, — сказала я. — Вынуждены были останавливаться для бесконечных проверок. По-моему, полиции кто-то донес, что готовится засада.
— Ag[35], я знал, что вы опоздаете.
Говорил Магнус с акцентом, который был заметен даже после сорока лет жизни в Малайе: он проборматывал и проглатывал гласные.
— Вокзальное начальство объявляло. Еще повезло, что нападения не было, а?
Я прошла за ним в ворота крытого колючей проволокой забора, ограждавшего железнодорожный вокзал. Рядом, под манговым деревом, стоял оливково-зеленый «Лендровер». Магнус бросил мой чемодан на заднее сиденье, мы забрались в машину и поехали.
В отдалении, над известняковыми вершинами, сходились мрачные тучи, чтобы попозже, вечером, отмолотить землю дождем. Главная улица Тараха была тихой, деревянные ставни китайских магазинчиков (разрисованные рекламой таблеток тигрового бальзама и «поучай» от несварения) были опущены для защиты от полуденного солнца. На развилке, сворачивающей на трассу, Магнус остановил машину, пропуская мчащуюся военную колонну: разведывательные броневички с пулеметными башенками, угловатые бронетранспортеры и грузовики, набитые солдатами. Колонна направлялась на юг, в сторону Куала-Лумпура.
— Что-то случилось, — сказала я.
— Наверняка услышим об этом в вечерних новостях.
На пропускном пункте службы безопасности перед самым началом подъема дороги в горы особоуполномоченный малаец-полицейский опустил металлический шлагбаум и велел нам выйти из машины. Еще один полицейский, стоявший за насыпью, держал нас на мушке ручного пулемета «брен», пока третий обыскивал нашу машину и совал под нее зеркало на колесике. Остановивший нас особоуполномоченный попросил предъявить удостоверения личности. Меня сильно разозлило то, что он принялся обыскивать меня, а Магнуса не тронул. Подозреваю, что, охлопывая и ощупывая мое тело, он меньше обычного давал волю рукам: я не была привычной ему простой китаянкой-крестьянкой да и присутствие Магнуса, белого человека, видимо, сдерживало.
Вслед за нами особоуполномоченный остановил пожилую китаянку, велел ей слезть с велосипеда. Лицо ее скрывала сплетенная конусом соломенная шляпа, а штанины черных хлопчатобумажных брюк стояли колом, измазанные засохшим млечным соком каучукового дерева. ОУ залез на самое дно ее плетеной ротанговой кошелки и вытащил оттуда ананас. «Tолонг, лах, толонг, лах»[36], — умоляла женщина на малайском. Полицейский потянул за верхушку: дно ананаса отвалилось и плод распался на две половинки. Из выдолбленных внутри пустот на землю потекла струйка сырого риса. Причитания старой китаянки стали еще громче, когда полицейские потащили ее в стоявшее у обочины укрытие.
— Умну, — заметил Магнус, кивая на холмик риса на дороге.
— Полиция как-то схватила сборщика каучука, который тайком выносил сахар из своей деревни.
— В ананасе?
— Во фляге, где он его с водой смешал. Это было одно из первых дел, по которым я выступала обвинителем.
— И много у тебя было дел вроде этого? — спросил Магнус, когда ОУ, подняв шлагбаум, махнул нам рукой: проезжайте.
— Вполне достаточно, чтобы мне начали угрожать смертью, — ответила я. — Это была одна из причин, по которым я ушла с работы.
Не проехав и полумили[37], мы остановились, уткнувшись в очередь из крытых грузовиков с задранным брезентом. Сопровождавшие груз тощие китайцы сидели на джутовых мешках с рисом, обмахиваясь разлохмаченными бамбуковыми веерами.
— Отлично. Я уж волноваться стал, что мы прозевали конвой, — сказал Магнус, глуша двигатель.
— Мы же в гору ползком будем двигаться, — заметила я, оглядывая грузовики.
— Ничего не поделаешь, meisiekind[38]. Зато у нас, по крайней мере, сопровождение будет, — ответил Магнус, указывая на два броневичка в голове очереди.
— Случаются нападения на Камеронском нагорье?
Три года минуло, как Малайская коммунистическая партия начала партизанскую войну против правительства, вынудив Верховного комиссара[39] объявить чрезвычайное положение в стране. Войне не было видно конца: коммунисты-террористы (которых правительство именовало «К-Ты» или по большей части «бандиты») беспрестанно нападали на каучуковые плантации и оловянные рудники.
— Засады устраивались на автобусы и армейские машины. Но на прошлой неделе они заявились на овощную ферму. Спалили дома и убили управляющего, — сообщил Магнус. — Ты выбрала не самое лучшее время навестить нас.
Слепило солнце, отражаясь от стоявших впереди грузовиков. Я опустила стекло в окошке со своей стороны, но только лишь впустила жар, исходивший от дороги. Пока мы ждали, за нами пристроились еще несколько машин. Минут пятнадцать спустя мы вновь двинулись. В целях безопасности все мелколесье по сторонам трассы было вырублено, деревья повалены, остались только узкие столбики пеньков. Поодаль от дороги стоял еще помнивший былую прохладную тень деревьев длинный жилой дом коренных местных жителей, похожий на ковчег, вынесенный потопом. Какая-то старуха в саронге[40] сидела на корточках на пне и провожала нас взглядом, груди ее были выставлены напоказ, губы ярко окрашены красным.
Бамбуковые рощицы склонялись над дорогой, кромсая свет на бледные желтые заплатки. Какой-то грузовик, доверху груженный кочанами капусты, летел, кренясь, вниз, нам навстречу, заставив прижаться к скале на обочине: мне стоило только руку протянуть — и я могла бы ухватить росшие на ней папоротники, целый веник их сорвать. Температура продолжала падать, воздух прогревался только на коротких отрезках, где дорога сонливо нежилась на солнце. У водопада Лата Искандар водяная пыль раскинула над нами свою шуршащую сеть, насыщая воздух влагой, которая вздымалась до самых высоких горных пиков, увлекая за собой острый запах деревьев, перегноя и земли.
Час спустя мы добрались до Танах-Раты. Дорога на въезде в селение просматривалась от здания из красного кирпича, стоявшего на возвышении.
— Если хочешь, можешь с местностью ознакомиться, — сказал Магнус, — только помни: деревенские ворота закрываются в шесть часов.
Туман размыл грузовики перед нами в бесформенные неуклюжие громадины. Магнус включил фары, обратив мир вокруг нас в желтушный мрак. Видимость улучшилась, стоило нам съехать с главной улицы.
— А вон «Зеленая корова», — кивнул Магнус. — Как-нибудь вечерком заедем сюда выпить.
Миновав здешний гольф-клуб, мы набрали скорость. Поглядывая искоса на Магнуса, я все думала, каково-то им с женой пришлось во время японской оккупации. В отличие от многих европейцев, живших в Малайе, они не эвакуировались, когда пришли японские солдаты, а остались жить в своем доме.
— Прибыли, — бросил он, сбавляя ход машины у ворот чайной плантации Маджуба. На гранитных столбах виднелись пустующие гнезда, в которых когда-то держались петли: словно бы зубы вырвали. — Джапы забрали ворота. Заменить их я не смог.
Он раздраженно покрутил головой:
— Война уже… сколько?.. шесть лет, как кончилась. А у нас все еще материалов не хватает.
Покрывавшие склоны холмов чайные кусты за десятилетия обрели форму коробчатой живой изгороди. Двигаясь между доходившими до пояса зарослями, работницы срывали листочки ненасытными пальцами, пригоршнями бросая их в закрепленные у них на спинах ротанговые корзины. Воздух отдавал чем-то травным: скорее привкус, чем запах.
— Это чай, да? — сказала я, глубоко вдыхая.
— Благоухание гор, — ответил Магнус. — Вот чего мне недостает больше всего, куда бы я отсюда ни уезжал.
— По виду не скажешь, что это место слишком сильно пострадало во время Оккупации.
Уловив горечь в моем голосе, Магнус напрягся лицом:
— Пришлось много потрудиться, чтобы восстановить все после войны. Нам повезло. Джапы были заинтересованы в том, чтобы производство не прекращалось.
— Разве они вас с женой не интернировали?
— Ja[41]… можно сказать, в каком-то смысле, — ответил он не без легкой нотки оправдания. — Старшие армейские офицеры вселились в наш дом. Мы жили вместе со всеми на отгороженном участке плантации. — Он посигналил, заставляя вышедшую на дорогу сборщицу перескочить обратно на поросшую травой обочину. — Каждое утро мы маршировали на склоны и работали бок о бок с нашими чернорабочими-кули. Но, должен сказать, джапы к нам были добрее, чем англичане — к моему народу.
— Значит, вы побывали в узниках дважды, — сказала я, вспомнив, что он воевал на бурской войне. Ему тогда всего лет семнадцать-восемнадцать было. Почти столько же было и мне, когда я оказалась в заключении.
— И вот сейчас я попал в месиво еще одной войны, — он покачал головой. — Судьба у меня, что ли, такая, а?
Дорога вела нас все дальше по плантации, петляя вверх по холмам, пока мы не выехали к длинной дорожке, ведущей к дому, которая была обсажена эвкалиптами. Дорожка, расширившись под конец, привела нас к круглому декоративному пруду, по воде которого скользила вереница утят, подергивая рябью отражение дома. Ограда из колючей проволоки, окружавшая эти угодья, напомнила мне о концлагере.
— Это капско-голландский[42] дом, — пояснил Магнус, неверно поняв недоуменное выражение на моем лице. — Весьма типичный для мест, откуда я родом.
С поста охраны торопился гурка[43], чтобы открыть ворота. Пара крупных коричневых собак бежала вприпрыжку рядом с машиной, пока Магнус объезжал вокруг дома, направляясь к гаражу.
— Не бойся, они не укусят. — Он показал на полоску темной шерсти вдоль хребта собак. — Родезийские риджбеки[44]. Тот — Бруллокс, а что поменьше — Биттергаль[45].
По мне, оба пса выглядели одинаково большими, своими холодными влажными носами они обнюхивали мне голени, пока я выбиралась из «Лендровера».
— Пошли, пошли, — приговаривал Магнус, подхватывая мой чемодан. На краю газона, перед входом, он остановился, широко повел рукой и произнес:
— Дом Маджубы.
Стены одноэтажного строения были оштукатурены белым, что оттеняло черный тростник речного камыша, которым была крыта крыша. Четыре широких окна, с размахом отставленные подальше одно от другого, располагались по обе стороны от входной двери. Деревянные ставни и рамы были выкрашены в цвет зеленых водорослей. Высокие округлые фронтоны, украшенные изображениями листьев и винограда, венчали крыльцо. Высокие стебли цветов (позже я узнала, что они называются стрелициями) росли под окнами, их красные, оранжевые и желтые лепестки напоминали мне остроугольных птичек, которых любил складывать из бумаги один японец-охранник в моем лагере. Я поскорее отогнала это воспоминание.
На крыше ветер надувал флаг с незнакомыми мне четырьмя широкими полосами — оранжевой, белой, синей и зеленой.
— Vierkleur[46], — пояснил Магнус, проследив направление моего взгляда. — Флаг Трансвааля.
— И вы его не снимаете? — Вывешивать иностранные государственные флаги было запрещено еще год назад, чтобы предотвратить вздымание красных китайских знамен сторонниками Малайской коммунистической партии.
— Сперва меня пришлось бы пристрелить.
Магнус не снял обуви, прежде чем зайти в дом, и я последовала его примеру. Стены прихожей были выкрашены белым, желтые доски пола маслянисто поблескивали под лучами вечернего солнца, лившимися в окна. Мое внимание привлек ряд картин на стене в гостиной, и я решила взглянуть на них поближе. Горные пейзажи, бесплодные, протянувшиеся до горизонта…
— Фома Бэнс[47]. А вот те литографии с хинными деревьями — это Пьерниф[48], — разъяснил Магнус, заметно польщенный моим интересом. — С Мыса.
В рамку вплыло чье-то отражение, и я повернулась навстречу китаянке лет под пятьдесят, седые волосы которой были скручены в пучок на затылке.
— Моя Лао Пуо, Эмили, — произнес Магнус, целуя жену в щеку.
— Очень рады видеть тебя у нас, Юн Линь, — поприветствовала та. Свободная бежевая юбка скрадывала очертания ее тонкой фигурки, на плечах — красный жакет.
— Где Фредерик? — спросил Магнус.
— Не знаю. Наверное, у себя в бунгало, — ответила Эмили. — У нашей гостьи усталый вид, Лао Кун. У нее был долгий день. Перестань хвастаться своим домом и проводи ее в ее комнату. Я уезжаю в медпункт: жену Муту укусила змея.
— Ты вызвала доктора Йео? — спросил Магнус.
— Конечно же, лах. Он уже едет. Юн Линь, мы поговорим попозже.
Она кивнула мне и ушла.
Магнус повел меня по коридору.
— Фредерик — ваш сын? — спросила я: не могла припомнить, чтобы что-то слышала о нем.
— Мой племянник. Он капитан Родезийских африканских стрелков.
Дом был наполнен напоминаниями о родине Магнуса: крашенные охрой ковры, сотканные каким-то африканским племенем, хрустальная ваза с торчащими из нее иглами дикобраза, массивная, фута в два[49] длиной, бронзовая скульптура леопарда, преследующего невидимую добычу. В восточном крыле задней части дома мы миновали комнатушку, немногим больше кладовой для белья. Половину узкого стола в ней занимала рация.
— Вот так, — указал на нее Магнус, — мы поддерживаем связь с другими фермами. Завели мы их после того, как К-Ты стали слишком часто срезать наши телефонные линии.
Моя комната была последней по коридору. Стены — и даже пластиковые выключатели — были выкрашены белым, и на несколько секунд мне представилось, будто я снова в Ипохской городской больнице. На столе стояла ваза с цветами, каких я прежде никогда в тропиках не видела — кремово-белые, напоминающие формой раструб фанфары. Я потерлась запястьем об один цветок: его лепестки казались бархатными.
— Что это за цветы?
— Лилии ароидеи. Мне прислали клубни с Мыса, — сообщил Магнус. — Они здесь хорошо приживаются. — Он поставил мой чемодан у комода из тикового дерева и спросил: — Как твоя мама? Улучшения есть?
— Она ушла в свой собственный мир. Полностью. Больше даже не спрашивает меня о Юн Хонг.
Меня это в какой-то мере радовало, но об этом я ему не сказала.