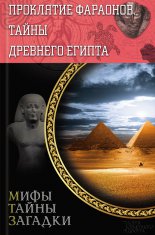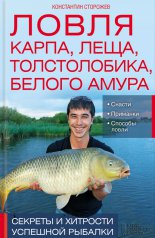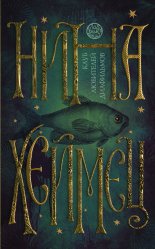Сад вечерних туманов Энг Тан Тван
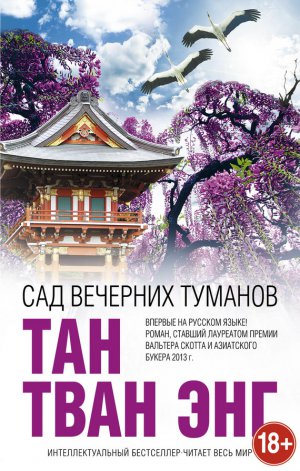
— Тебе следовало бы после войны сюда приехать, здоровье восстановить.
— Я ждала ответа из университета.
— Но работать в Трибунале по военным преступлениям… после того, что с тобой случилось?!
Он покачал головой:
— Удивляюсь, как только отец тебе позволил.
— Всего три месяца-то и работала.
Я помолчала, потом сказала:
— За всю войну у него не было ни единой весточки обо мне или о Юн Хонг. Когда он меня увидел, то не знал, что со мной делать. Я была для него призраком.
То был единственный раз в моей жизни, когда я видела отца плачущим. Он так сильно постарел… Однако, если разобраться, и я тоже. Мои родители уехали с Пенанга и перебрались в Куала-Лумпур. В новом доме он, прихрамывая (чего до войны никогда не было), привел меня на второй этаж, в комнату моей матери. Моя мать меня не узнала и повернулась ко мне спиной. Через несколько дней она вспомнила, что я ее дочь, но всякий раз, завидев меня, принималась расспрашивать о Юн Хонг: где она, когда домой придет, почему до сих пор не вернулась? Довольно скоро я стала испытывать жуткий страх, навещая ее.
— Мне было лучше, когда я уходила из дома, когда была занята чем-нибудь, — сказала я. — Отец чувствовал то же самое, хотя и не признавался в этом.
Попасть в Куала-Лумпуре на место помощника научного сотрудника Трибунала по военным преступлениям было несложно: на самом деле обладатель этой должности был не более чем клерком на побегушках. Столько много народу было убито или ранено на войне, что, когда японцы сдались, Британская военная администрация столкнулась с нехваткой кадров. Запись свидетельских показаний жертв имперской японской армии, однако, подействовала на меня куда хуже, нежели я ожидала. Видя, как жертвы теряют самообладание, рассказывая о перенесенных ими жестокостях, я поняла, что мне только предстоит оправиться от того, что я пережила. Я обрадовалась, получив извещение о том, что принята в Гиртон.
— Сколько же военных преступников в итоге действительно покарали? — спросил Магнус.
— В Сингапуре и Малайе — совокупно — к смерти приговорили сто девяносто девять… но всего сто были в конечном счете повешены, — сказала я, заглядывая в ванную, — очень светлую и полную воздуха, пол выложен в шашечку холодной черной и белой плиткой. У стены на когтистых лапах стояла ванна. — Я присутствовала всего на девяти повешениях до того, как уехала в Гиртон.
— My magtig[50], — Магнус был явно ошарашен.
Какое-то время мы молчали. Затем он открыл дверь рядом с буфетом и попросил меня следовать за ним. Позади дома вилась усыпанная гравием тропка, которая повела нас мимо кухни, пока наконец мы не вышли на широкую террасу с хорошо ухоженной лужайкой. Пара мраморных статуй стояла в центре лужайки, каждая на своем постаменте, обращенные лицами друг к другу. На первый взгляд они казались одинаковыми, вплоть до складок на одеждах, свисавших с постаментов.
— Купил их поразительно дешево у жены старого плантатора после того, как плантатор сбежал с пятнадцатилетней любовницей, — сообщил Магнус. — Та, что справа, — Мнемозина. Слышала о ней?
— Богиня памяти, — сказала я. — А кто другая женщина?
— Ее сестра-близняшка, само собой. Богиня забвения.
— Ну и как ее зовут?
Магнус пожал плечами, развернув ко мне пустые ладони:
— Понимаешь, люди не помнят ее имени.
— А они не совсем одинаковые, — заметила я, приближаясь к статуям. — У Мнемозины черты лица четкие, нос и скулы выдаются, губы полные. Лицо ее сестрицы размыто, даже складки на одежде не так четко обозначены, как у сестры.
— Какая из них, по-твоему, старшая из близнецов? — задал вопрос Магнус.
— Мнемозина, конечно.
— В самом деле? Она выглядит моложе, ты так не считаешь?
— Память должна существовать до того, как появляется забвение, — улыбнулась я ему.
— Или ты позабыла о прежней памяти? — Магнус засмеялся. — Пойдем. Позволь я тебе кое-что покажу.
Он остановился у низкой стенки, проходившей по краю террасы. Вознесенный на самое высокое плато на плантации, Дом Маджубы позволял беспрепятственно любоваться всеми окрестностями. Магнус указал на шеренгу елей примерно в трех четвертях пути до подножия холма:
— Вон там начинается владение Аритомо.
— На глазок — не так уж и далеко, чтобы пешком дойти.
Я даже прикинула, что у меня это заняло бы минут двадцать.
— Не верь глазам своим. Ты когда с ним встречаешься?
— Завтра утром, в половине десятого.
— Фредерик или один из моих служащих отвезут тебя.
— Я пойду пешком.
Заметив решимость, которую выразило мое лицо, он на мгновение умолк.
— Твое обращение застало Аритомо врасплох… не думаю, что он обрадовался, получив его.
— Это была ваша идея, чтоб я обратилась к нему, Магнус. Надеюсь, вы ему не сказали, что я была заключенной японского лагеря?
— Ты же просила меня не говорить. Я рад, что он согласился устроить тебе сад.
— Пока не согласился. Решение он примет после разговора со мной.
Магнус поправил тесемку повязки на глазу.
— Ты уволилась даже до того, как он определился? Довольно безответственно, а? Разве тебе не нравилось обвинять?
— Нравилось. Поначалу. Но в последние несколько месяцев в душе какая-то пустота появилась… ощущение, что я понапрасну трачу время. — Я помолчала. — И я просто взбесилась, когда был подписан мирный договор с Японией.
Магнус смотрел на меня, склонив голову набок, его прикрывавшая глаз черная шелковая повязка стала очень похожа на кошачье ухо.
— Он-то какое отношение имеет к цене на яйца[51]?
— Одна из статей этого договора гласит, что Союзные Державы признают, что Япония должна выплатить репарации за ущерб и страдания, причиненные ею во время войны. Однако, поскольку платить Япония не в состоянии, Союзные Державы отказываются от всех репарационных требований Союзных Держав и их граждан. И их граждан! — Я сознавала, что почти перешла на крик, но была уже не в состоянии остановиться. Такое облегчение — выбить пробку и дать излиться своим чувствам. — Так что, понимаете, Магнус, англичане сделали все, чтобы никто… ни единый мужчина, ни единая женщина, ни единый ребенок, кого пытали, держали в заключении, зверски убивали джапы… никто из них или их семей ни в какой форме не могли бы потребовать от японцев денежного возмещения. Наше правительство предало нас!
— Ты так говоришь, будто тебя это удивляет, — хмыкнул Магнус. — Что ж, теперь тебе известно, на что способны эти fokken Engelse[52]. Извини, — прибавил он.
— Я потеряла интерес к своей работе. Я грубила своим начальникам. Я собачилась со своими коллегами. Я отпускала уничижительные замечания по адресу правительства любому, кто готов был слушать. Один из слушавших меня оказался репортером из «Стрэйтс таймс». — Воспоминания об этом вновь вызывали половодье горечи. — Я не уволилась, Магнус. Меня уволили.
— То-то твой отец, должно быть, расстроился, — заметил он. Показалось или в самом деле сверкнул в его глазу озорной — и даже злой — проблеск?
— Он назвал меня неблагодарной дочерью. Он за столько ниточек потянул, чтоб я получила эту работу, а теперь из-за меня он потерял лицо.
Магнус хлопнул ладонями за спиной.
— Ладно, что бы ни решил Аритомо, ты, надеюсь, побудешь у нас какое-то время. Неделя — это слишком мало. И — ты здесь в первый раз. Тут полно прелестных местечек, которыми можно полюбоваться. Приходи попозже в гостиную, скажем, через часок. Выпьем перед ужином, — произнес он, прежде чем вернуться в дом.
Воздух сделался прохладнее, но я осталась на террасе. Горы поглотили солнце, ночь растекалась по долинам. Запищали летучие мыши, охотясь на невидимых насекомых. Кучка заключенных в моем лагере однажды поймала летучую мышь, изголодавшиеся мужики растянули крылья мыши над хилым огоньком, который высвечивал тонкие косточки под ее кожей…
На краю владений Накамура Аритомо угасавший свет обратил ели в пагоды, в стражу, охраняющую лежащий позади них сад.
Глава 4
На следующее утро, в половине седьмого, я вышла из Дома Маджубы. Даже после более чем пяти лет лагерный распорядок не оставил меня: два последние часа сна уже не было. Спалось урывками, не давало уснуть беспокойство: как-то примет меня этот японский садовник? В конце концов я решила не дожидаться половины десятого — времени, назначенного для встречи, а отправиться в путь, как только небо достаточно просветлеет.
Сунув свиток бумаг под мышку, я тихонько прикрыла входную дверь и пошла к воротам. Воздух покусывал за щеки, а облачка изо рта, казалось, делали мое дыхание более слышным, чем обычно. Гурка за оградой точил свой кукри[53] и, прежде чем открыть мне ворота, сунул кривой клинок в ножны.
День был воскресный, и чайные посадки пустовали. В долинах слабенькими звездочками пробивались сквозь облачную пелену точки огоньков в крестьянских домах. Запахи подступавших вплотную джунглей возвращали меня в тюремный лагерь: этого я не ожидала. Я остановилась и огляделась. Луна уходила за горы — та самая луна, которую я, считай, каждый день видела на рассвете в лагере, и все же, кажется, не та. Столько времени прошло после освобождения из плена, а до сих пор, бывает, не могу поверить, что война кончилась, что я осталась в живых.
Мне припомнился разговор с Магнусом в баре клуба «Селангор» месяцем раньше, я тогда еще была заместителем государственного обвинителя. Возвращаясь к себе в прокуратуру по завершении дела, я срезала путь и пошла по узкому проулку позади дворов. Повернув за угол, я увидела, что путь мне преградила толпа. Мужчины в белых рубахах и черных брюках устанавливали объемные бумажные изображения японских солдат, сделанные в полный рост и наглядно представлявшие, как тех потрошили демоны преисподней. Я слышала о таких обрядах, но никогда их не видела. Совершались они для того, чтобы ублажить души убитых японцами — души, блуждающие безымянно по всей вечности.
Стоя позади толпы, я смотрела, как даосский священник в полинялом черном одеянии звонил в колокольчики и вычерчивал в воздухе невидимые слова заклинаний кончиком своего меча. Потом бумажные фигуры предали огню, жар пламени заставил толпу раздаться. Повсюду вокруг меня люди завывали и падали на колени, когда пепел взметнулся в небо, оставляя в воздухе запах обуглившейся бумаги и краски. По-видимому, души были умиротворены, однако я ощутила, как гнев с новой силой вспыхнул во мне, когда толпа разошлась. Понимая, что теперь до конца дня не смогу сосредоточиться на работе, я решила отправиться в библиотеку клуба «Селангор». Магнуса я не видела лет одиннадцать-двенадцать, но узнала его в вестибюле — повязка на глазу запомнилась — и окликнула. Магнус стоял в группе мужчин, сдававших сотруднику клуба оружие, и, услышав свое имя, оглянулся, силясь припомнить, кто я такая. Когда я назвала свое имя, лицо его расцвело улыбкой и он настоял на угощении — пригласил выпить по кружечке. Мы сели за столик на веранде, выходившей на игровое поле для крикета, паданг, с видом на судебные здания.
— Парень! — подозвал Магнус официанта (пожилого китайца) и заказал нам выпить. Верхний вентилятор крутился вовсю над нашими головами, но был не способен разогнать влажность. Часы над зданием суда прозвонили, их звон перелетел через паданг. Было три, обычная орава плантаторов и юристов не должна была нагрянуть, по крайней мере в течение ближайших двух часов.
Магнус сообщил, что приехал в К-Л взять деньги в банке «Надежный» для выплаты зарплаты своим рабочим.
— Я слышал, твои родители теперь в К-Л живут, — сказал он. — Никогда бы не подумал, что твой отец когда-нибудь решится уехать с Пенанга. Твоя мама…
Магнус понизил голос и пристально глянул на меня:
— Как она?
— У нее бывают хорошие дни, бывают и плохие, — ответила я. — К сожалению, плохие случаются чаще.
— Знаешь, я пытался навестить ее. Это было сразу после твоего отъезда в Англию. Но твой отец не позволил. Думаю, он никому не дает ее видеть.
— Она слишком сильно расстраивается, когда кто-то, кого она не узнает, заговаривает с ней, — объяснила я. — А сама она с трудом узнает большинство людей.
— Слышал, что случилось с твоей сестрой. Ужасно! — произнес он. — Я всего раз с ней встречался. Помню, она активно увлекалась садоводством.
— Она всегда мечтала создать свой собственный японский сад, — кивнула я.
Магнус изучающе оглядел меня, взгляд его скользнул вниз, на мои руки, прежде чем снова подняться к моему лицу.
— Создай его за нее. — Его палец поправил тесемку повязки на глазу. — Ты могла бы сделать Сад Памяти для нее. Не уверен, что ты помнишь, но мой сосед — японский садовник. Поверишь ли, был садовником самого императора! Может, он согласится выручить тебя. Ты могла бы попросить его создать сад для… Да, попроси Аритомо устроить сад для твоей сестры.
— Он же джап! — презрительно сморщилась я.
— Ну, знаешь, если нужен японский сад… — забурчал Магнус. — Аритомо в войне не участвовал. И если б не он, половину моих рабочих загребли бы и отправили куда-нибудь на рудники или вкалывать до смерти на железной дороге.
— Им придется повесить своего императора, прежде чем я попрошу кого-то из них о помощи.
Он недовольно уставился на меня: казалось, у него вся сила утраченного глаза перешла в здоровый, удвоив его остроту.
— Эта ненависть в тебе… — заговорил он, немного погодя, — тебе нельзя позволять ей вредить твоей жизни.
— Это выше моих сил, Магнус.
Официант вернулся с двумя запотевшими кружками пива. Магнус одним глотком опорожнил половину своей и отер рот тыльной стороной ладони.
— Мой отец разводил овец. Мать моя умерла, когда мне было четыре года. Меня сестра вырастила, Петронелла. Мой старший брат, Питер, учительствовал в Южной Африке. Когда началась война… я о Бурской войне говорю, о второй… я пошел добровольцем. Меньше чем через год попал к англичанам в плен и меня переправили в лагерь для военнопленных на Цейлоне. — Он опять поднес к губам кружку, но потом, даже не пригубив, тяжело опустил ее на стол. — Я дрался себе где-то далеко с англичанами, когда однажды утром на нашей ферме появились солдаты Китченера[54]. Па был дома. Он затеял драку. Его пристрелили, а затем сожгли наш дом.
— А что случилось с вашей сестрой?
— Ее отправили в концентрационный лагерь в Блумфонтейн. Питер пытался ее вытащить оттуда. У него жена была англичанка, но даже ему не разрешили наведаться в лагерь. Петронелла умерла от тифа. Или, может, не от тифа… Позже выжившие говорили, что англичане добавляли заключенным в еду растертое стекло.
Он перевел взгляд на паданг — трава была сухая, воздух корчился от жары.
— Вернуться домой после войны, чтобы узнать все это о своей семье… нет, я не мог больше жить в тех краях, где вырос. Поехал в Кейптаун. Но все равно — и это казалось мне не очень далеко. Однажды весной, кажется, девятьсот пятого, купил билет до Батавии[55]. Судно вынуждено было встать на ремонт в Малаккский док, и нам сказали, что раньше чем через неделю ремонт не закончится. Я шел по городу, когда увидел заброшенную церковь на холме…
— Святого Павла.
— Ja, ja, — заворчал Магнус, — Святого Павла. Там, на церковном погосте, я увидел надгробия, которым было по три, по четыре сотни лет. И что же я нашел среди них? Могилу Яна Ван Рибека![56]
Видя отсутствующее выражение на моем лице, Магнус покачал головой:
— Знаешь, мир был сотворен не только для английской истории. Ван Рибек основал Мыс, Капскую колонию. И стал ее губернатором.
— Почему же он кончил дни свои в Малакке?
— ОИК[57], голландская Ост-Индская компания, послала его туда в качестве наказания за какой-то проступок. — Воспоминание смягчило лицо Магнуса и, казалось, в то же время его состарило. — Как бы то ни было, увидев там его имя, вырезанное на глыбе камня, я почувствовал, что отыскал для себя место, здесь, в Малайе. На судно свое я так и не вернулся, не поплыл в Батавию. Вместо этого я отправился в Куала-Лумпур.
Он рассмеялся:
— В конце концов я оказался на британской территории. И прожил тут… сколько… — губы его беззвучно шевелились, пока он высчитывал, — сорок шесть лет. Сорок шесть! — Он вытянулся на стуле и огляделся, высматривая официанта. — За это шампанское надо пить!
— Вы простили британцев?
Магнус снова осел на стуле. Некоторое время молчал, обратив взор куда-то внутрь себя.
— Они не смогли убить меня, когда между нами шла война. Они не смогли убить меня, когда я был в лагере, — выговорил он наконец сдавленным голосом. — Но держать в себе ненависть все сорок шесть лет… вот уж это наверняка убило б любого.
Взгляд его подобрел, когда он обратил его на меня:
— Вам, китайцам, полагается уважать старших, Юн Линь, так ведь говорил этот парень Конфуций, а? Так, во всяком случае, мне моя жена говорит. — Он наконец-то смог отхлебнуть пива. — Так что — послушай меня. Послушай старого человека… Не презирай всех японцев за то, чту кое-кто из них натворил. Дай ей уйти, этой ненависти в тебе. Отпусти ее.
— Они сделали вот это.
Я медленно подняла свою изувеченную руку, спрятанную в кожаной перчатке.
Магнус указал на глазную повязку:
— Думаешь, он сам собой выпал?
Через три недели после той встречи в клубе с Магнусом меня уволили.
Его идея создать сад в память о Юн Хонг запала мне в душу. В лагере сестра часто говорила со мной о саде, который она разобьет, как только кончится война и наши жизни снова вернутся к нам…
В свой последний рабочий день я взялась за разборку стола. Укладывая личные вещи, я вдруг замерла, наткнувшись на заметку, вырезанную мною когда-то из «Стрэйтс таймс». Сопровождавшее текст фото изображало группу японцев во фраках, стоявших позади их премьер-министра Иосиды во время подписания им и американцами договора о гарантии безопасности Японии[58]. Разглядывая фотографию, я думала о лагере. Думала о Накамура Аритомо, вспоминая, как много-много лет назад впервые услышала это имя. Никогда не забывала я этого имени: оно следовало за мною повсюду. Настало время встретиться с ним. Создать сад — вот что я должна сделать в память о Юн Хонг, вот каков мой долг перед нею.
Взяв чистый лист бумаги, я открутила колпачок авторучки и написала письмо Магнусу с просьбой устроить мне встречу с садовником. Когда я закончила, заклеила конверт и попросила посыльного отправить его по почте. После чего покинула свое рабочее место в прокуратуре в последний раз.
Мир вокруг делался ярче, обесцвечивая луну и звезды. На половине спуска в долину я нашла тропинку, отделявшую один участок чайных кустов от другого. Земля на ней была плотно утоптана поколениями сборщиков чая. Вчера вечером за ужином Магнус рассказал мне, что этот путь напрямик приведет меня к Югири. «В той стороне ограды нет, — сказал он, — но ты сразу поймешь, где начинается Югири, когда попадешь туда».
Чем ближе я подходила к Югири, тем выше вздымались ели в отдалении. Тропинка вилась между ними и продолжалась в зарослях бамбука, стволы которого легонько перестукивались друг с другом, словно бы передавали от дерева к дереву сообщение о моем прибытии.
Заморосило. Отирая с лица капли дождя, я прошла под бамбуком — и оказалась в ином царстве.
У тишины здесь было иное свойство: я почувствовала себя так, словно вместе с леской, увлекаемой ко дну грузилом, ушла в более глубокий, плотный слой океана. Стояла, позволяя безмолвию просачиваться в меня. Лишь в листве иногда пересвистывались невидимые птицы, углубляя разреженность воздуха между каждым посвистом. Вода капала с листьев. Невдалеке сквозь верхушки деревьев проглядывал край красной черепичной крыши. Направившись туда, я вскоре вышла к длинному прямоугольнику из округлого белого гравия. Я присела и подобрала один камушек. Размером он был с яйцо кожистой черепахи, моя мать иногда покупала их на рынке Пулау-Тикус[59].
Слева от меня, футах в пятнадцати[60], стояли две круглые мишени. Справа на низких сваях покоилось простое деревянное одноэтажное сооружение с крышей из пальмовых листьев. Положив камешек, я подошла поближе. Спереди сооружение было открыто, бамбуковые занавески закатаны под самый карниз крыши. На краю помоста стоял мужчина, одетый в белую длинную рубаху и серые брюки, из-под которых выглядывали белые носки. Было ему на вид лет пятьдесят с небольшим, в волосах только-только начала пробиваться седина. В правой руке он держал лук. На мое появление мужчина никак не отреагировал, но я почему-то поняла: он знает, что я тут.
Я почти шесть лет не видела японца и ни с одним не говорила, зато всегда могла отличить их. Положим, обратиться с письмом к Накамура Аритомо было довольно легко, зато было глупо с моей стороны думать, что я смогу вот так просто прийти сюда и говорить с ним. К этому я была не готова, а возможно, никогда и не буду. У меня появилось острое желание развернуться и уйти. Однако, взглянув на зажатый в руке свиток документов, я поняла: говорить с садовником придется, мне нужно выложить ему, что мне от него нужно. Сделаю это, а потом уйду. Если он решит принять мое предложение, мы станем переписываться по почте. С ним лично мне больше беседовать будет незачем.
Подняв лук, мужчина стал натягивать тетиву, его руки расходились в разные стороны, пока в какой-то момент не показалось, будто он попросту парит над досками помоста. Вот он застыл с туго натянутым луком, выражение полного покоя разливалось по его лицу. Время остановилось: не было начала, не было и конца.
Он пустил стрелу. Тетива высекла из воздуха резкий звук. Мужчина оставался недвижим, одна рука по-прежнему была вытянута и удерживала лук за центр все в том же положении — на уровне глаз. Он еще мгновение смотрел на мишень, прежде чем опустил лук. Стрела попала порядком далеко от центра. Я в три коротких шажка поднялась на помост, поблескивающие кипарисовые доски заскрипели под моими ногами.
— Мистер Накамура? — произнесла я. — Накамура Аритомо? Мы договаривались встретиться сегодня попозже…
— Снимите обувь! — велел он. — Вы привносите сюда заботы мира.
Глянув назад, я увидела пятна песка и травы на дощатом настиле. Я спустилась со стрельбища. Мужчина поставил лук обратно на положенное ему место, его белые носки оставляли влажные следы на досках. Я ждала, пока он наденет сандалии.
— Идите кругом ко входу в дом, — сказал он. — А Чон проводит вас в гостиную.
Китаец-слуга провел меня через жилище, раздвигая двери, отделявшие каждую комнату, а затем сдвигая их за нами. Мне стало казаться, будто я пробираюсь через целую вереницу коробков, каждый из которых, открываясь, ведет еще в один коробок, а тот — в еще один. Слуга оставил меня в гостиной. Ее двери открывались на веранду, где располагался низенький квадратный столик.
На газоне, ниже веранды, натянутая на четыре бамбуковые планки нить обозначала прямоугольник, внутри которого травяной покров был снят, обнажая лежавшую под ним влажную темную почву. За прямоугольником земля покато спускалась к краю углубления, широкого и пустого, как высохшее соляное озерцо. На одной его стороне высились кучи земли и щебня.
Морось прошла, но вода все еще сочилась со скатов крыши, сгустки света капали на землю. Слуга вернулся с подносом, на котором стояли две маленькие зеленоватые фарфоровые чашечки, заварной чайник и небольшой чайник для кипятка, над носиком которого струился слабый парок. Несколькими минутами позже лучник присоединился ко мне. Он переоделся в бежевые шерстяные брюки и белую сорочку, хорошо сочетавшиеся с серым льняным пиджаком. Он сел в традиционной позе на один из ковриков, согнув ноги и перенеся вес тела на пятки. Знаком предложил мне расположиться по другую сторону столика. Я секунду смотрела на него, а потом последовала примеру хозяина, положив свиток документов возле колен.
— Я — Накамура Аритомо, — сказал он, выкладывая на столик какой-то конверт.
Я узнала написанный моим почерком адрес. Назвала свое имя, и Аритомо попросил:
— Напишите его по-китайски.
— Я ходила в школу при монастыре, мистер Накамура. Я учила латынь, а не китайский язык. Только после войны подучила немного.
— Что означает имя «Юн Линь»?
— Облачный лес.
Подумав, он оценил:
— Красивое имя. По-японски вас бы звали…
— Я знаю, как бы меня звали.
Несколько мгновений он пристально разглядывал меня. Потом вылил воду из заварного чайничка в чашу и выплеснул еще исходивший паром чай за веранду. Я сочла это странным, но промолчала. Он вновь наполнил заварной чайник горячей водой, заметив:
— По-моему, мы договорились встретиться в половине десятого.
— Если вам сейчас неудобно, я приду позже.
Он покачал головой.
— Сколько вам лет? Тридцать три, тридцать четыре?
— Мне двадцать восемь.
Я знала, что выгляжу старше из-за лишений, перенесенных в лагере, и полагала, что вполне примирилась с этим, но вдруг, к своему удивлению, почувствовала укол обиды.
— Вы пруд делаете? — спросила я, глядя на полую яму, которой заканчивался склон.
— Просто меняю его форму, делаю больше. — Подняв чайничек, он наполнил чашки какой-то полупрозрачной зеленой жидкостью и одну из них подвинул ко мне, словно шахматную фигуру на доске. — Вы были гостьей императора.
На этот раз его стрела попала в цель.
— Я была узницей в японском лагере, — отчеканила я, удивляясь про себя, откуда ему об этом известно.
— Когда я строил этот дом, Магнус подарил мне акварель, нарисованную вашей сестрой, — сказал Аритомо. — Он напомнил мне об этом, когда привез ваше письмо.
— Когда-то Юн Хонг выставляла свои картины вместе с другими художниками.
— Меня это не удивляет. У нее большой талант. Она до сих пор рисует?
— Она была в одном со мной лагере. — Я выпрямилась, облегчая боль в коленях: прошло много времени с тех пор, как я сидела так в последний раз. — Она умерла там.
Аритомо перехватил мою левую руку, когда я потянулась к чашке. Едва его пальцы обхватили мое запястье, как мое лицо укрылось за выражением, полным осторожности. Я попробовала выдернуть руку, но он только крепче обхватил ее, взглядом убеждая меня прекратить борьбу. Как выбившееся из сил животное, попавшее в западню, рука моя перестала двигаться, расслабленно обмякла. Он повернул ее и потрогал стежки на том месте, где были срезаны два последние пальчика на перчатке. Я вытащила руку, убрала ее под край стола.
— Вы хотите, чтобы я устроил для вас сад.
С того самого момента, как я отправила садовнику письмо, я все время твердила про себя, чту скажу ему, когда мы встретимся.
— Юн Хонг… моя сестра… она узнала о вас одиннадцать лет назад, вы только прибыли в Малайю. Это было где-то в 1940-м.
— Одиннадцать лет. — Он обратил взгляд на ничего не выражавшем лице в сторону пустого пруда. — Верится с трудом, что я уже так долго живу здесь.
— Юн Хонг восхищалась японскими садами еще до того, как мы узнали про вас. Раньше, чем вы приехали Малайю.
— Откуда она узнала о наших садах? — спросил он. — Сомневаюсь, что в те времена хоть один такой был на Пенанге да и во всей Малайе. Даже сегодня мой — единственный.
— Наш отец взял нас с собой на месяц в Японию. В тридцать восьмом. Ваше правительство собиралось покупать у него каучук. Он был занят своими встречами, а жены чиновников возили нас по городу. Мы побывали в нескольких храмах и садах. Даже ездили на поезде в Киото. — Воспоминание о том празднике (единственном разе, когда я побывала за границей до той поры) заставило меня улыбнуться. — Мне никогда не забыть, в каком восторге была Юн Хонг! Мне было пятнадцать, а она на три года старше меня. Но в той поездке… в той поездке она вела себя как маленькая девочка, а я чувствовала себя старшей сестрой.
— А-а… Киото… — тихо молвил Аритомо. — Какие же храмы вы видели?
— «Лунный Сад» в храме Киёмизу-дэра, Тофуку-дзи и храм Золотого Павильона, — сказала я. — Когда мы вернулись домой, Юн Хонг прочла все книги про японские сады, какие только смогла достать. Ей хотелось знать… она просто помешалась на том, чтобы понять, как эти сады создавались.
— Возделыванию садов нельзя научиться из книг.
— В этом мы скоро убедились. Сестра попробовала сделать сад камней позади нашего дома. Я помогала ей, но ничего не получилось. Моя мама была вне себя оттого, что мы загубили ее газон. — Она помолчала.
— Когда Юн Хонг узнала, что вы живете здесь, то захотела посмотреть на ваш сад.
— Не на что было бы смотреть. В тот момент Югири не был закончен.
— Любовь Юн Хонг к садам помогала нам выжить, когда мы были в лагере.
— Каким образом?
— Мы убегали в выдуманные миры, — сказала я. — Некоторые в своих мечтах представляли себя строящими дом или конструирующими яхту. Чем больше подробностей они могли привлечь, тем больше отгораживались от окружавших ужасов. Одна женщина-евразийка, жена голландского инженера в «Шелл», — так она захотела снова пересмотреть свою коллекцию марок. Это наделяло ее волей к жизни. А еще один мужчина по памяти, раз за разом, воспроизводил названия всех пьес Шекспира в том порядке, в каком они были написаны… когда его пытали.
У меня пересохло в горле, и я отпила чай.
— Юн Хонг поддерживала нас рассказами о садах, в которых мы побывали в Киото, описывая их мне в мельчайших деталях. «Вот так и мы выживем, — говорила она мне, — и выйдем из этого лагеря».
Солнце пробивалось из-за гор. Над далекими верхушками деревьев по небу носилась стая птиц, готовясь вытянуться в черную колеблющуюся нить.
— Однажды охранник стал бить меня за то, что я не поклонилась как следует. Он не унимался, а просто бил и бил меня. Я очутилась в саду. Повсюду росли цветущие деревья, пахло водой…
Я умолкла.
— И я поняла, что там, где я очутилась, сошлись все сады Киото, в каких я побывала. Я рассказала об этом Юн Хонг. С той минуты мы и принялись создавать наш собственный сад, вот здесь, — я тронула пальцем голову около лба. — День за днем мы добавляли детали к нему. Сад стал нашим убежищем. У себя в мыслях — мы были свободны.
Аритомо тронул конверт на столе:
— Вы упомянули, что работали сотрудником Трибунала по военным преступлениям.
— Мне хотелось сделать все, чтобы виновные понесли наказание. Хотелось увидеть, что правосудие вершится.
— Считаете меня глупцом? Не в одном правосудии было дело.
— То был единственный способ, который позволял мне изучать судебные документы и официальные отчеты. Я хотела выяснить, где похоронена моя сестра.
Его глаза сощурились:
— Вы не знали, где находился лагерь?
— Нам завязали глаза, когда джапы… когда японцы везли нас туда. Он находился где-то в самой чаще джунглей. Это все, что мы знали.
— А другие уцелевшие из вашего лагеря, что с ними стало?
Бабочка трепетала над каннами возле веранды. Наконец села на лист, сводя вместе крылья в молитве.
— Нет других уцелевших.
— Вы единственная? — Он взглянул на меня так, будто я пыталась обмануть его.
Я выдерживала его взгляд, не отводя своего.
— Да.
Какое-то время он безмолвствовал. Отодвинув в сторону поднос, я развязала тесемку вокруг свернутых в трубку бумаг, которые принесла с собой, и разложила их на столе, придавив края нашими чашками.
— Бабушка оставила нам с Юн Хонг кусок земли в К-Л. Там около шести акров[61], — я указала на первый документ, план участка из Земельного управления. — До него пешком недалеко от Озерного Сада, вверх по холму. Климат слишком жаркий и влажный для настоящего японского сада, я знаю, — прибавила я быстро, — но, думаю, вы сможете задействовать местную флору. Вот, я сделала фотографии этого места. Вы можете получить представление о том, как выглядит местность и что нужно сделать.
Садовник лишь мельком взглянул на план и фотографии:
— Создавать сады мечтала ваша сестра, а не вы.
— Юн Хонг лежит в необозначенной могиле, мистер Накамура. Это — в честь нее, этот сад — в память о ней.
Я поискала подходящие слова, чтобы убедить его, но не нашла.
— Это единственное, что я могу для нее сделать.
— Мне неловко… от того, что заняться этим вы просите меня, учитывая то, что произошло с вашей сестрой… и с вами.
— Неловкости быть не должно, если вы не причастны к Оккупации, — я произнесла это резче, чем собиралась.
Садовник стиснул скулы.
— Будь я причастен, разве меня не повесили бы? Возможно, даже и вы?..
— Не все виновные японцы были осуждены, и того меньше — понесли кару.
Что-то изменилось в атмосфере между нами, как будто мягко веявший до того ветерок вдруг резко замер.
— Однажды сюда пришли британские солдаты, вскоре после того, как японские войска сдались, — сказал Аритомо. — Они вытащили меня из дома, заставили встать на колени на землю, вон там. Прямо там.
Он указал на поросший травой клочок.
— Били меня прикладами. Когда я свалился и попытался подняться, они били меня ногами, раз за разом. Потом увезли.
— Куда?
— В Ипох, в тюрьму. Меня заперли в камеру. Не предъявляя никаких обвинений. — Он принялся тереть щеку тыльной стороной ладони. — Там были и другие узники, японские офицеры, ожидавшие, когда их приговоры будут приведены в исполнение. Некоторые из них рыдали, когда их вели на казнь. Их уводили одного за другим, пока я не остался один. А потом, как-то вечером, надзиратели пришли за мной. — Он перестал тереть щеку. — Меня вывели из камеры. Я подумал, что меня собираются повесить. Но меня отпустили. У ворот тюрьмы меня поджидал Магнус. Я просидел в тюрьме два месяца.
Бабочка вспорхнула, ее крылышки засемафорили черно-желтым. Садовник забарабанил пальцами по столу. Наконец он поднялся на ноги: