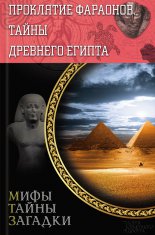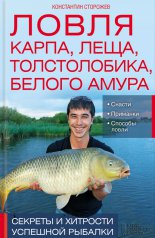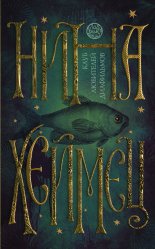Сад вечерних туманов Энг Тан Тван
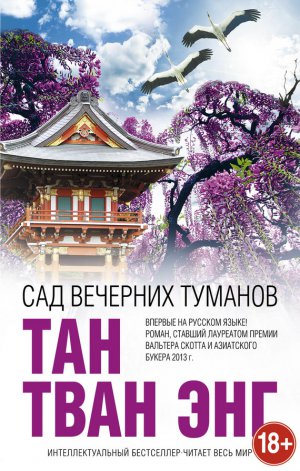
— Странно, правда, что истории вроде этих всегда появляются в связи с войной, — сказала я. — Кто-нибудь нашел золото, спрятанное Крюгером?
— Пятьдесят лет искали и все еще ищут, — сказал Магнус.
Глухо зарокотал гром. Магнус поднял взгляд к потолку.
Мое внимание привлекла еще одна фотография.
— Это мой брат Пит, — пояснил Магнус, подойдя и встав со мной рядом, — папа Фредерика. Снялся незадолго до смерти. Я попросил Фредерика привезти фотографию с собой, когда он собрался приехать сюда. Это единственное фото, которое осталось у меня от всей моей семьи.
— Фредерик очень похож на своего отца.
Эмили отложила роман и посмотрела на Магнуса.
— Мы все потеряли: дневники моего Oupa[113], книгу рецептов моей Ouma, мои фигурки, вырезанные из вонючего, но очень прочного дерева, — перечислял Магнус. — Фотографии моих родителей и моей сестры. Все.
— А вы до сих пор… — Я осеклась, потом попыталась сызнова: — Вы можете вспомнить их лица?
Он пристально посмотрел на меня. По его глазам я догадалась, что он понял мои собственные тревоги.
— Долгое время не мог. А вот в последние несколько лет… словом, они снова вернулись ко мне. Когда становишься стариком, начинаешь вспоминать старое.
— Дождь собирается, — сказала Эмили.
Она встала, протянула Магнусу руку, и они вместе вышли на веранду взглянуть на сад позади дома. Порыв ветра, увлажненный дождем из-за гор, прошелся по гостиной, взметнув занавески. Немного поколебавшись, я тоже вышла из дома и встала от них в стороне.
«Nou lк die aarde nagtelang en week in die donker stil genade van die rллn», — тихо нараспев произнес Магнус, обнимая Эмили за талию и привлекая ее к себе.
Почему-то звучанье этих слов взволновало меня, и я спросила:
— Как это переводится?
— «Вот нежится Земля, ночь напролет купаясь в непроглядной тихой благости дождя», — произнесла Эмили. — Это из его любимого стихотворения.
Отвернувшись от меня, она еще теснее припала к мужу.
Над горами зигзагом вспыхнула молния. Минуту спустя припустил дождь, размывая ночь.
Еще не было шести, когда я включила лампочку у кровати, надела старую желтую блузку и шорты до колен. На руки натянула пару старых бумазейных перчаток, позаимствованных у Эмили. Слуги растапливали печи на кухне, когда я зашла туда, съела два ломтика хлеба, выпила чашку молока. Услышала, как откашливался и прополаскивал горло Магнус у себя в ванной, когда, открыв входную дверь, выходила из Дома Маджубы. Завыла сирена плантации, но скоро расстояние и деревья заглушили ее.
Когда я добралась до Югири, дневной свет уже пробивался по кромке неба. Я пришла на несколько минут раньше, а потому отправилась вокруг к заднему входу. А Чон прислонял к стене свой велосипед. Он поклонился, когда я поздоровалась с ним. Аритомо упражнялся в стрельбе из лука. Я стояла в сторонке и наблюдала за ним. Закончив стрельбу, он велел мне ждать у входа в дом. Когда он снова вышел, я увидела, что он успел переодеться в синюю рубаху и брюки цвета хаки. Указав на мою записную книжку, сказал:
— Я не хочу, чтоб вы делали записи, даже когда придете домой в конце дня.
— Но я не сумею всего запомнить.
— Сад сам запомнит это для вас.
Я оставила записную книжку в доме и последовала за ним в сад, внимательнейшим образом слушая, как он расписывает работу на день.
Я уже говорила, что самыми первыми садовниками в Японии были монахи, воплощавшие на монастырских землях мечту о рае на земле. Из вступления к «Сакутей-ки» я знала, что семейство Аритомо были ниваши — садовниками. У правителей Японии с шестнадцатого века каждый старший сын был продолжателем того дела, которое оставлял отец. Существовала легенда, что первый Накамура во времена Империи Сун был китайским монахом, изгнанным из Китая. Этот монах отправился через океан в Японию, чтобы распространять учение Будды. Но вместо этого влюбился в дочь одного придворного и забыл про свои обеты, оставшись в Японии на всю жизнь. Подглядывая уголком глаз за Аритомо, я почти верила этой сказке. Было что-то от монаха в его манере держать себя, в спокойной, но имеющей точную цель сосредоточенности подхода к делу, в его неспешной и обдуманной речи.
— Отнеситесь со вниманием. — Аритомо щелкнул пальцами у меня перед лицом. — Что за сад я делаю здесь?
Вернувшись мысленно к тем частям сада, которые я уже видела, к их извилистым аллеям, я быстренько предположила:
— Прогулочный сад. Нет, подождите… сочетание прогулочного и пейзажного сада.
— Какой эры?
Это совершенно озадачило меня:
— Какую-то конкретно мне выбрать не по силам, — призналась я. — Это не Муромати, это и не совсем Мамояма или Эдо.
— Годится. Когда я планировал Югири, то хотел соединить элементы из разных периодов.
Я обошла лужу дождевой воды.
— Из-за этого вам, должно быть, еще труднее достичь в этом саду общей гармонии.
— Не все из моих идей были осуществимы. Это одна из причин, почему сейчас я вношу изменения.
Идя по саду, о котором я услышала едва ли не полжизни назад, я жалела, что рядом со мной нет Юн Хонг. Она радовалась бы этому больше, чем я. Мне же оставалось только ломать голову: что я делаю тут, живя жизнью, какой должна бы была жить моя сестра?..
На каждом повороте дорожки Аритомо обращал мое внимание на расположение камней, необычную скульптуру или каменный фонарь. Вид у них был такой, будто они уже целые века лежали здесь, на ложе из мха и папоротников.
— Эти предметы — сигнал для странника о том, что он вступает на новый уровень своего странствия, — пояснял он. — Они подсказывают ему: надо остановиться, с мыслями собраться, насладиться видом.
— Была ли когда-нибудь хоть одна женщина, которую учили быть садовником?
— Ни одной. Это не означает, что это не допускается, — ответил он. — Вот только для разбивки сада требуется физическая сила. Женщина недолго выдержала бы работу садовника.
— А что, по-вашему, нас заставляли делать охранники? — выпалила я в приступе гнева. — Они насильно гнали нас рыть туннели, и мужчин и женщин. Мужчины разбивали скалы, а мы сваливали камни в ущелье за мили от каменоломни. — Я сделала глубокий вдох и медленно выдохнула. — Юн Хонг как-то сказала мне, что для создания сада требуется умственная сила, а не физическая.
— У вас явно в избытке и той, и другой, — заметил он.
Во мне снова взыграл гнев, но не успела я ответить, как до нас долетели голоса и смех.
— Рабочие пришли, — вздохнул Аритомо. — Опоздали, как обычно.
Мужчины шли босиком, одетые в залатанные майки с шортами, с наброшенными на плечи полотенцами. Аритомо познакомил их со мной. Каннадасан, тот, что кое-как объяснялся по-английски, был за главного. Остальные четверо знали только тамильский и малайский. Белые зубы воссияли на фоне темной кожи, когда они услышали, что я составлю им компанию.
Вслед за Аритомо мы прошли на участок позади кладовки с инструментами. Там были сложены камни размерами от кокосового ореха до глыб, доходивших мне до плеч.
— Я разыскивал их по пещерам в округе возле Ипоха во время Оккупации, — сказал Аритомо.
— Вы уже тогда намеревались изменить сад? — спросила я.
— Мне нужна была веская причина, чтобы держать здесь рабочих. Вот я и бродил по окрестностям в поисках подходящих материалов.
— Тогда вы должны были видеть и слышать, что Кэмпэйтай[114] вытворял с людьми.
Аритомо глянул на меня, затем повернулся и зашагал прочь, вклинив болезненное молчание в пространство между нами. Почуяв напряжение, рабочие отводили от меня глаза. Глядя вослед удалявшейся фигуре Аритомо, я поняла: как бы ни было трудно для меня, придется отставить свои предубеждения, если я хочу чему-то у него научиться.
Я припустила рысцой и, поравнявшись с ним, сказала:
— На тех камнях, что вы нашли… на них, на всех, какие-то необычные отметины.
Довольно долго он не отвечал. Наконец выговорил:
— Создание садов — это «искусство располагать камни», отсюда можно понять, насколько они важны.
У меня от сердца отлегло, но я не позволила ему этого заметить. Мы вернулись к камням, Аритомо пристально их осматривал, оглаживая руками. Камни побольше были высотой в пять-шесть футов[115], узкие, с резкими гранями, с полосками и прожилками на поверхности. На них наползла сорная трава, словно бы стараясь утянуть их обратно в прохладную сырую землю.
— Каждый камень наделен своей собственной индивидуальностью, и каждому нужно свое, — Аритомо отобрал пять из них, касаясь одного за другим. — Перевозите эти к входу.
У меня дыхание перехватило. Приказы садовника вернули меня обратно к тому времени, когда я была рабыней для японской армии. Решимость моя стала таять. Но я чувствовала на себе испытующий взгляд Аритомо. Я огляделась и припомнила, как там, в лагере, — и заставила себя сделать первые шаги к спасению жизни. Мой путь, тот путь, еще не завершен, осознала я.
— И снимите свои перчатки, — прибавил Аритомо.
— Их можно стирать. Я достану еще несколько пар.
— Что ж за садовник из вас получится, если вы не будете чувствовать почву собственными голыми руками?
Мы стояли и смотрели друг на друга в упор, как мне казалось, бесконечно долго. Он не отвел глаз даже после того, как я стянула перчатки и рассовала их по карманам. Взгляд его упал на мою левую руку. Ни один мускул на его лице не дрогнул, зато рабочие залопотали промеж себя.
— Вы все, чего ждете? Пока трава вырастет? — Аритомо хлопнул в ладоши. — А ну, за работу!
Двое рабочих, приподняв, держали первый камень над землей, пока Аритомо просовывал под ним оплетку из прочной веревки. Оплетку подцепили к лебедке, свисавшей с восьмифутовой[116] деревянной треноги. Опоры треноги были обвязаны по верхушкам кольцами веревки, и каждую из трех можно было перемещать, применяясь к контуру местности. Каннадасан крутанул рукоять лебедки, и валун тяжело оторвался от земли: гора, сбрасывающая оковы гравитации. Когда валун поднялся фута на три[117], Аритомо остановил рабочего и вручил мне щетку с жесткой бамбуковой щетиной. Я дотянулась до проемов в оплетке и счистила с валуна комья земли, корни и всяких личинок. Когда я закончила, мы обвязали камень веревками, привязав их к центру тяжелого шеста. Я вскинула передний конец шеста на плечо, но от тяжести осела на одно колено. Рабочие бросились было мне на помощь, но я только отмахнулась от них. Услышала, как Каннадасан пробормотал сзади:
— Мисси, он слишком тяжел для вас, лах.
Аритомо, стоя в стороне, следил за мной. Меня ожгло ненавистью к нему. «Сейчас все по-другому, — говорила я себе, чуя, как пот катится по спине. — Я больше не узница джапов, я свободна, свободна. И я жива».
Тошнота отступила, но оставила кислый осадок в глотке. Я облизнула губы и глотнула — разок, другой.
— Подожди, Каннадасан, тунгу секейап[118], — подправила веревки и подала ему знак: — Сату, дуа, тига[119]!
На счет «три» мы снова подняли шест на плечи. Мужчины гикали, подбадривали криком, пока я, словно раненое животное, шаталась на ногах, отбиваясь от врезавшейся в плечо боли.
— Джалан![120] — крикнула я, указывая дорогу.
Утро было потрачено на чистку валунов и перенос их на участок перед верандой у входной двери. Когда был опущен последний камень, Каннадасан с рабочими уселись на корточки на травке, пустив по кругу пачку сигарет и утираясь полотенцами. Я последовала за Аритомо в дом, в гостиную. Оклеенные бумагой двери были закрыты, и я обнаружила, что за ними находится целый ряд раздвижных застекленных дверей. Аритомо кивнул мне на место, где можно было присесть. Я показала свою перепачканную в грязи одежду:
— Я перемазалась вся.
— Садитесь.
Дождавшись, когда я исполнила приказ, он раздвинул сначала застекленные двери, а потом — и бумажные ширмы, открывая вид на сад. Над деревьями по небу зубчатой линией тянулись горы.
Аритомо опустился на колени рядом и руками показал Каннадасану и другим рабочим, где, по его замыслу, должен быть помещен первый валун. Наконец они установили камень так, как он считал нужным. То же самое садовник проделал с четырьмя оставшимися камнями, утверждая каждый на коротком расстоянии от предыдущего, настраивая гармонию музыки, слышимой только им самим.
— Они похожи на строй придворных, кланяющихся и отшатывающихся от императора, — заметила я.
Он одобрительно хмыкнул:
— Мы строим композицию картины вот в этой рамке, — и, очерчивая пальцами прямоугольник в воздухе, провел линии по крыше, опорам и полу. — Когда смотришь на сад, смотришь на произведение искусства.
— Но композиция не выверена, — вытянула я руку. — Зазор между первым и вторым камнями слишком широк, а последний камень слишком близок к третьему. — Я еще раз осмотрела ландшафт. — Они смотрятся так, будто вот-вот повалятся в пустоту.
— И тем не менее именно в этом расположении чувствуется динамика! Взгляните на наши картины — большие пустуты, композиция асимметрична… в них — ощущение неуверенности, зыбкости, готовности к изменениям. Именно это мне здесь и нужно.
— Как мне узнать, куда помещать камни?
— Каков первый совет, который дает «Сакутей-ки»?
Я подумала секунду.
— «Следуй требованию камня».
— Эти слова открывают книгу, — согласно кивнул он. — Место, где вы находитесь, это отправная точка. Именно отсюда гость обозревает сад. У всего посаженного и созданного в Югири есть своя дистанция, свой масштаб и свое пространство, исчисленные в отношении к тому, что видится отсюда. Это место, где первый камешек разбивает гладкость воды. Поместите первый камень как следует, и остальные подчинятся его требованиям. Этот эффект распространяется на весь сад. Если исполнить пожелания камней, они будут счастливы.
— Вы так говорите, будто у них есть души.
— Разумеется, есть, — слегка пожал он плечами.
Мы сошли с веранды и присоединились к рабочим.
— Всего лишь треть каждого камня должна быть видна над землей, — сказал Аритомо, подавая мне лопату. — Так что копайте глубже.
И он оставил нас наедине с работой.
Ручка лопаты быстро натерла волдыри на моих голых ладонях. Земля не была твердой, но уже через несколько минут я обливалась потом. Не один и не два года прошло с тех пор, когда я последний раз выполняла тяжелую физическую работу, эту или другую, так что приходилось частенько брать передышку. Аритомо вернулся два часа спустя, когда я уже закопала все пять камней до нужного ему уровня. Встав на колени, он принялся плотно уминать почву вокруг основания камней, велев мне делать то же самое.
Я погрузила пальцы в рыхлую почву — земля дарила коже ощущение прохлады и влаги, успокаивая боль в левой руке. Такое простое, элементарное действие: голыми руками притронуться к земле, по которой ходим, — а вот поди ж ты, я и не помнила, когда делала это в последний раз…
К вечеру тело у меня одеревенело и болело. Прежде чем отправиться домой, я прошла мимо участка, где мы раньше днем посадили камни. По одну сторону его стояли мешки с гравием: его приготовили для того, чтобы в завершение работ разровнять по площадке. Я коснулась округлой верхушки одного из камней, толкнула его. Он стоял прочно, недвижимо, словно бы пророс от каменного ствола, вознесшегося из несусветной глубины под ногами, а не был уложен нами всего лишь утром.
Аритомо вышел из дома, за ним мягко вышагивал большой шоколадный бирманский кот. Садовник заметил, что я смотрю на кота.
— Это Кернильс, — возвестил он. — Мне его Магнус подарил.
Несколько мгновений мы следили, как тянутся по земле тени от камней.
— Где планы и чертежи этого сада? — спросила я. — Хотелось бы взглянуть на них.
Аритомо повернулся ко мне и слегка коснулся рукою головы.
И в тот момент меня поразило, до чего же он похож на эти валуны, которые мы переносили и закапывали все утро.
Миру видна всего лишь малая его часть — все остальное запрятано глубоко внутри и скрыто от глаз.
Глава 8
В бунгало, снятое мною у Магнуса, можно было вселиться уже к концу моей первой недели ученичества у Аритомо. Фредерик, каждый вечер заходивший в Дом Маджубы, в пятницу за ужином предложил мне помочь перевезти вещи.
— Завтра утром устроит? — спросил он. — Скажем, часов в девять?
— Лучше соглашайся, — проворчал с другой стороны стола Магнус. — Молодой человек вскоре покидает нас.
— В девять вполне годится, — сказала я.
От работы неделю напролет в Югири у меня ломило все тело, а потому мысль, что кто-то будет помогать с переездом, была приятна.
В ту ночь, прежде чем лечь спать, я несколько минут простояла у балюстрады террасы между тенями от двух мраморных статуй. Надвигавшийся дождь привносил в воздух запах свежести с легким металлическим привкусом, словно бы его прожгла затаившаяся в туче молния. Запах напомнил мне о времени в лагере, когда мой разум цеплялся за малейший, самый несущественный пустяк, чтобы отвлечься: бабочка, вспорхнувшая с куста, паутина, растянутая по веточкам нитями шелка и просеивающая воздух для насекомых…
Начальные такты мелодии «Und ob die wolke»[121] тягуче полились из открытых окон гостиной. Магнус опять поставил пластинку с Сесилией Весселс[122]. Внизу, в долине, бусинки света засияли на деревьях вокруг Югири. Я смотрела туда, пытаясь угадать, чем занимался в своем доме Аритомо.
Ария закончилась. Я выжидала, зная, что последует. Еще немного — и, словно примериваясь, зазвучал рояль, постепенно придавая звукам форму ноктюрна Шопена. У Магнуса вошло в привычку каждый вечер играть на «Бехштейне», прежде чем погасить свет. Один ноктюрн сменился другим, а вскоре до меня донеслись печальные вздохи начала «Романса» (Larghetto) из первого концерта для фортепиано с оркестром Шопена[123]. Магнус сам переложил его для соло на рояле. И всегда играл вечером напоследок. «Романс» — любимое произведение Эмили, сказал он мне как-то. И в данный момент она лежала в постели, засыпая под музыку, которую он исполнял для нее.
Я закрыла глаза и отдалась музыке, плывшей во тьму гор. Последние несколько нот, отзвучав, еще парили в воздухе, чтобы мгновение спустя растаять в тишине. Я знала: мне будет недоставать этого ежевечернего ритуала Магнуса, когда я перееду в свое бунгало.
Совсем уже собравшись вернуться в дом, я вновь обратила взгляд к Югири. Отыскивала свет среди деревьев, но не находила: его погасили, покуда я смотрела в другую сторону.
Коттедж «Магерсфонтейн»[124] стоял на четырех приземистых бетонных опорах на склоне холма в четверти мили[125] от Дома Маджубы и выстроен был в обычном англо-индийском стиле. Пятна ржавчины покрывали перфорированную жестяную крышу, штукатурка на дымоходе обвалилась, обнажив кладку красного кирпича. Широкая веранда выходила на укрытые чайными кустами склоны. С одной стороны бунгало к окну клонилось дождевое дерево, подслушивая разговоры, которые многие годы велись в этих стенах.
— Слуги, как могли, прибрались тут, — сказал Фредерик, вытаскивая мой чемодан из своего «Остина». — Водопровод с электричеством у вас есть, но нет телефона. И не ждите, что жилье окажется пяти-… — он засмеялся, — …или хотя бы четырехзвездочным отелем на Пенанге.
Дом пропах сыростью и плетеными креслами из ротанговой пальмы, а расшатанные столы к ним не подходили. На обвислых книжных полках валялось несколько заплесневелых номеров «Панча» и «Еженедельника малайских плантаторов». Камин с деревянной решеткой у очага занимал одну сторону небольшой гостиной. Ребячливая радость охватила меня: представилось, как в холодные вечера я развожу огонь (бывали дни, когда я напрочь забывала, что живу в тропиках, что линия экватора не дотягивает на карте до Малайского полуострова всего-то на ноготь мизинца).
— Для меня он вполне хорош, — сказал я.
— Вам надо чем-то смазать это, — Фредерик указал на ссадину у меня на локте. — Попросите у Эмили немного генцианвиалета[126].
— Это всего лишь царапина, — я опустила рукав, прикрывая ранку.
— Я еду в Танах-Рату, — сказал он. — Поехали со мной.
— Мне надо вещи разобрать.
— Так запас продуктов-то вам нужен, верно?
Он был прав. Отныне мне придется готовить для себя самой.
— Поехали, — повторил он, почувствовав, что я теряю решимость. — Я угощу вас в копитьям[127] у А Хуата завтраком: люди приезжают туда издалека со всей округи отведать его роти бакар[128].
Расположенное на плато, от которого ему досталось имя, селение Танах-Рата было окружено низкими холмами. То тут, то там среди поросших лесами вершин виднелись бунгало: эти домики принадлежали европейским каучуковым компаниям, в них устроили дома отдыха для старшего (чаще всего — европейского) персонала.
— Когда я в первый раз приехал сюда, — сказал Фредерик, сбавляя ход «Остина» при въезде в деревню, — то решил, что принят какой-то закон, требующий, чтобы у всех домов здесь были эти жуткие ложнотюдоровские фасады. Магнус, по крайней мере, проявил хоть какую-то оригинальность, когда строил свой дом.
Мы встали на свободное место возле пасар-паги[129]. Утренний рынок на открытом воздухе уже заполнили толпы людей, все вокруг пропахло тяжкими запахами свежей крови и потрохов кур, убитых по желанию покупателей. На толстых крюках висели мясные туши; рыба, креветки и молочно-белые кальмары кучами лежали на подстилках из тающего колотого льда, вода стекала на землю, заставляя всех обходить лужи стороной. Старухи-малайки сидели на корточках возле глиняных горшков с карри. Мы протискивались между китайскими и индийскими домохозяйками, которые могли запросто остановиться посреди дороги посплетничать, не обращая внимания на то, что они перекрыли проход всем, идущим за ними.
В лавках вдоль главной улицы было потише, там толпились по большей части европейцы (одно из самых вежливых слов, которыми мы когда-то обозначали всех без разбора людей с белой кожей — не важно, откуда они на самом деле прибыли). Мы вручали владельцам лавок список нужных нам товаров, предъявляли им разрешение от окружных властей и требовали, чтобы все закупленное было доставлено в Маджубу.
— А вот и заведение А Хуата, — Фредерик указал на лавку в конце ряда точно таких же. — Пойдемте. Надеюсь, свободный столик найдется.
Копитьям, куда мы зашли, ничем не отличалась от себе подобных в любом городке или селении: местечко, где старики в майках и просторных шортах коротали утренние часы в разговорах, попивая кофе из блюдечек. Каллиграфически выписанные красными иероглифами приветствия полосками свисали с большого зеркала без рамы на одной стене. Мраморные столешницы, желтые от нескольких слоев старых пятен от пролитого кофе. По радио какая-то певица пела китайскую песню. За стойкой и как раз под зеркалом сидел толстый китаец средних лет, его на диво изящные пальцы щелкали костяшками счетов, одновременно он криками извещал кухню о заказах. Иногда он запускал в ухо длиннющий ноготь мизинца, а потом внимательно разглядывал извлеченное оттуда.
— А-а, мистер Фледлик! Cho san! — закричал он, увидев нас. — Уах[130], ваш подруцка?
— Доброе утро, А Хуат. Cho san. — Фредерик бросил на меня полуизвиняющийся, полусмущенный взгляд. — И… нет, она не моя подружка.
Наш заказ: яйца всмятку, кофе и роти бакар — был принесен спустя всего несколько минут. Прямоугольники хрустящего поджаренного белого хлеба, покрытые маслом и кокосовым джемом, оказались такими вкусными, как обещал Фредерик.
По примеру стариков Фредерик налил себе кофе в блюдечко и подул на него.
— Меня мама обычно ругала, если я так делала, — заметила я. — Низкое воспитание, так она это называла.
— Зато так куда вкуснее получается. — Он поднял блюдечко и, смачно причмокивая, втянул в себя кофе. — Попробуйте.
Я покрутила чашкой, взбалтывая со дна осевшую сгущенку. Быстро глянув вокруг, налила кофе в блюдечко и поднесла его ко рту. Но тут же снова его опустила: это слишком напоминало мне о том, как я принимала пищу, будучи узницей.
— Вы тоже на Мысе выросли? — спросила я Фредерика. — Выговор у вас совсем не такой, как у Магнуса.
— Моя мать засияла бы от радости, услышав это, — хмыкнул он. — На буров она смотрела сверху вниз. О, как презрительно она на них смотрела!
— Почему?
— Она была англичанка, родилась в Родезии. Одному богу известно, почему она вышла замуж за моего отца: он не был богачом, да и жить с ним — радости было мало. Даже совсем мальчишкой я понимал, что родители несчастливы вместе. После того как он умер, мы переехали в Булавайо, в Родезию.
— Сколько вам тогда было?
— Лет восемь или девять. Отец всегда принимал сторону англичан, чем вызывал великое презрение у Магнуса. Потому-то они и не ладили, думаю.
Он объяснил, в какое восхищение приводил его дядя в Малайе, дядя, который владел целой чайной плантацией в горах:
— Когда мне было пятнадцать, я отправился из Кейптауна на круизном судне, чтобы провести у дяди Рождество. Это настолько отличалось от того, что я читал, от всех этих писаний Моэма, к которым моя мать не позволяла мне и притронуться!..
— Мои родители тоже не разрешали читать Моэма, — сказала я с улыбкой. — Но сестра брала его книги у подруги и передавала их мне.
— Магнус рассказал мне, что случилось с вашей сестрой. Сочувствую.
Я отвернулась от него.
Копитьям все больше заполнялась народом. Фредерик разбил яйцо всмятку о блюдце и выскреб чайной ложкой все, что было внутри скорлупы. Несколько раз сыпанул в водянистое содержимое белого перца и щедро сдобрил соевым соусом.
— Ну, вы и впрямь набрались наших привычек, — сказала я. — Сколько времени вы оставались здесь в тот ваш первый приезд?
— Всего месяц, — ответил Фредерик, вытирая губы носовым платком. — Я знал, что захочу снова когда-нибудь вернуться сюда. Не было другого места на свете, где мне хотелось бы жить.
От счастливых воспоминаний глаза его засияли, но несколько секунд спустя блеск угас, наверное, от осознания утраченного детства. В тот краткий миг я увидела мальчика, каким он когда-то был, а в воображении моем промелькнул старик, каким ему еще предстояло стать.
— Вы вернулись в конце концов, — произнесла я.
— Четыре года назад умерла моя мать. Я написал Магнусу. Он попросил меня перебраться сюда, чтобы помогать ему управлять плантацией, — рассказывал Фредерик. — Принять предложение я не мог: хотелось завершить учебу. Вы будете это есть?
Он кивнул на последний кусок тоста у меня на тарелке. Я подвинула ее к нему.
— Родезийские африканские стрелки после войны были распущены, но в прошлом году полк собрали снова. Когда я услышал, что прежнюю мою часть отправляют в Малайю сражаться с красными, я вновь пошел на службу. — Он умолк, оглядывая кофейню. — Думал, кампания будет легкой — поохотимся на коммунистов. Только вышло все совсем не так.
— Вы где были во время войны?
— В Бирме. Насмотрелся там настоящих ужасов… — Фредерик нерешительно примолк. — Так… как это у вас получается, а? Как вы смотрите джапу в лицо… день за днем… после того, что они с вами сделали?
Обдумывание ответа заняло у меня несколько минут.
— Дел так много, что, по правде говоря, когда мы работаем, у меня нет времени думать о чем-то еще, — выговорила я наконец.
Фредерик смотрел на меня недоверчиво, и я решила быть с ним откровенной:
— Только время от времени что-то им сказанное: слово или фраза — впиваются в память и воскрешают то, что я считала уже похороненным навечно.
Мне припомнилось случившееся накануне вечером.
Аритомо подвел меня к штабелю из деревьев, которые спилил месяцем раньше. Стволы были очищены от веток. «Возьмите одного из рабочих, распилите эти марута[131] на поленья поменьше и уберите их», — распорядился он. Вместо того чтобы выполнять его приказ, я развернулась и быстро поспешила прочь. Слышала, как он звал меня, но не остановилась. Я шла все быстрее, забираясь в глубь сада. Спотыкалась, падала, вставала и шла, шла вверх по склону, пока не оказалась на краю высокого обрыва — лишь горы да небо были передо мною.
Не знаю, сколько времени я простояла там.
Потом я почувствовала, как ко мне приближается Аритомо. «Марута», — заговорила я, глядя прямо перед собой. — Так офицеры в лагере звали нас: бревна. Мы для них были всего лишь бревна. Можно рубить, можно пилить, можно в пепел сжечь». Какое-то время садовник молчал. Потом тронул меня за руку: «У вас кровь течет». Взял меня за локоть и прижал свой носовой платок к моей ссадине…
— «Чжоу нех ах мах чау хай!» — громкое дружелюбное ругательство на кантонском китайском вернуло меня обратно в копитьям. Фредерик смотрел на меня во все глаза. Я моргнула несколько раз, допила кофе и повернулась на стуле. Через пару столиков от нас сидели несколько седовласых китайцев. Один из них, тощий и сухопарый, развернул какую-то китайскую газету. Кто-то выкрикнул: «Дьям, дьям! Mo чу»[132], — и разговор сменился молчанием ожидания. Выкрикнувший оглядел каждого из своих приятелей и принялся медленно с расстановкой вслух читать что-то из газеты.
— И вот это я вижу в каждой копитьям, в какую ни зайду, — сказал Фредерик. Всем было известно, что К-Ты наведываются в заведения вроде этого, чтобы разузнать новости и передать донесения своим курьерам.
— Я завтра уезжаю, — сообщил Фредерик. — Моих солдат попросили помочь перевезти скваттеров из их поселения в новую деревню.
Во время японской оккупации тысячи китайцев перебрались жить на окраины джунглей, изо всех сил стараясь не попасться на глаза Кэмпэйтаю, надеясь, что в зарослях их не обнаружат и не поубивают. Уже шесть лет, как кончилась война, но люди так и остаются во временных поселениях, добывая себе пропитание крестьянским трудом на земле. Коммунисты использовали скваттеров как источник продуктов и медикаментов, информации и денег по подписке: скваттеры составляли Мин Юн, «народное движение». Генерал-лейтенант сэр Гарольд Бриггс[133], начальник оперативного управления, осознавал, что во время Чрезвычайного положения они представляют собой серьезную опасность. По всей стране армия занималась переселением полумиллиона человек: всех, до каждого ребенка, до каждой бабульки, до каждой семьи со всем ее скарбом скотиной — в специально отстроенные «новые деревни».
— Вы какое поселение переселяете? — спросила я.
— Я бы на вашем месте не интересовался этим, — усмехнулся он, грозя мне пальцем. — И выпытывать у меня, где находится Сан-Чуен, вам тоже нельзя.
— Просто проверяю, как вы умеете тайны хранить.
Помолчав немного, я добавила:
— Мне пришлось съездить в одну из таких «новых деревень», когда я была обвинителем.
— Это вы вели… дело Чан Лю Фунг? — Он глянул на меня с возросшим интересом. — Об этом в новостях все время трубили.
— Это было последнее дело, в котором я представляла обвинение.
Чан Лю Фунг, тридцатилетняя сборщица каучука, была поймана на снабжении террористов продовольствием и изобличена как их курьер. Я побывала в ее доме в Салак-Саут, милях в десяти[134] от Куала-Лумпура, чтобы составить себе представление, как она умудрялась тайком передавать продукты и сведения. «Новая деревня», куда ее переселили, стала домом для шести сотен скваттеров и их семей. Двойная ограда в семь футов высотой, с колючей проволокой поверху, защищала открытую полоску ничейной земли шириною в десять футов[135]. Вооруженные охранники на сторожевых вышках несли вахту по периметру. Жителей деревни обыскивали, а лица сличали с фото на их удостоверениях личности — каждое утро, когда они проходили через ворота. Процедура повторялась, когда они вечером возвращались домой.
— Полиция привела меня в дом Чан Лю Фунг, — рассказывала я. — Он был пуст. Специальная служба забрала мужу в кутузку, а их четырехлетнюю дочь поместили в учреждение социального обеспечения.
Я помнила мрачные лица, взиравшие на меня из окошек соседних домов. Дабы лишить других жителей деревни возможности помогать коммунистам, был введен комендантский час. Большинство работали сборщиками каучука на плантации в пяти милях[136] от деревни. За оградой им разрешалось находиться только с восьми утра до часу дня. Это сильно поубавило шансы сельчан добыть средства пропитания: каучук надо было собирать на рассвете, до того, как сок деревьев высохнет.
— Ее же ведь в конце концов выслали в Китай? — сказал Фредерик.
Я кивнула.
— А муж и дочь? Им разрешили с ней уехать?
— Мое дело заключалось в том, чтобы террористы понесли наказание.
Фредерик оторвал от тоста кусочек, вытер им остатки яйца на блюдечке и кинул хлеб в рот.
Когда мы вышли из копитьям, хлынул дождь. Мы укрылись в узком проходе за рядом лавок, дожидаясь, пока прояснится небо. На возвышении, прямо у поворота уходившей вниз дороги, стояло низкое здание из красного кирпича.
— Что это? — спросила я.
— Когда-то была монастырская школа, пока джапы не превратили ее в госпиталь для своих солдат. Сейчас это госпиталь британской армии, — ответил Фредерик. — Мне рассказывали, что вскоре после капитуляции японцев наши солдаты нашли в этом доме нескольких молоденьких китаянок. Джапы пытались выдать их за больных туберкулезом.
— Ёгун-янфу[137], — произнесла я.
— Простите?
— Женщины — утешительницы военных.
— А-а. Мы встречали таких в Бирме, когда джапы сдались. Они направлялись по домам. Мы их подвозили.
— Семьи никогда не принимали обратно тех девушек.
Я вздрогнула: небо прорезала молния.
— Слишком уж велик был позор, каким они себя покрыли.
— То была не их вина.
— Никто на них ни за что бы не женился, зная, что всю войну им пришлось ублажать по три-четыре сотни мужчин на каждую.
Фредерик глянул на меня и высунул руку из-под навеса:
— Дождь слабеет. Давайте бегом — и побыстрее.
Вернувшись к коттеджу «Магерсфонтейн», он выключил двигатель и, обернувшись к заднему сиденью, вытащил что-то, завернутое в коричневую бумагу, из сумки с покупками:
— Это вам. Подарок.