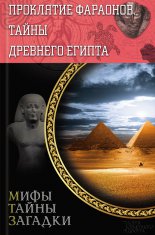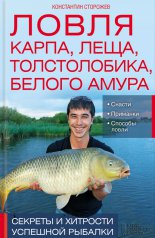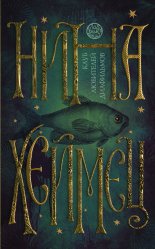Сад вечерних туманов Энг Тан Тван
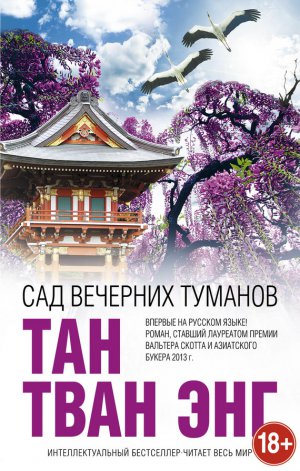
Глава 1
Когда-то на горе, выше облаков, жил человек, который прежде был садовником императора Японии. Немногие знавали о нем до войны, но я знала. Он покинул свой дом на краешке восходящего солнца, чтобы поселиться на центральном нагорье Малайи. Мне было семнадцать, когда я впервые услышала от сестры рассказ о нем. Пройдет десять лет, и я отправлюсь в горы, чтобы встретиться с ним.
Он не извинялся за то, что его соотечественники сотворили с моей сестрой и со мной. Ни в то иссеченное дождем утро, когда мы впервые увиделись, ни во всякое иное время. Какие слова уняли бы мою боль, вернули бы мне сестру? Никакие. И он понял это.
Немногим это удавалось.
И через тридцать шесть лет после того утра я вновь слышу его голос, приглушенный, но звучный. Воспоминания, которые я держала взаперти, стали пробиваться на свободу, как ледяные торосы, разрывающие трещинами арктическое мелководье. Течение сна плавно несет эти треснувшие льды к утреннему свету памяти.
Недвижимая тишина гор будит меня. Глубина молчания — вот что позабылось мною о жизни в Югири[2]. Когда я открываю глаза, воздух наполнен невнятным ропотом дома.
«Старый дом хранит свои потаенные воспоминания», — приходят на память слова, сказанные мне однажды Аритомо.
А Чон стучит в дверь и негромко окликает меня. Я встаю с постели, надеваю халат. Оглядываюсь, ища перчатки, и нахожу их на столике у кровати. Натягивая их на руки, разрешаю домоправителю войти. Он входит, ставит на стол у стены оловянный поднос с чайником чая и тарелкой нарезанной папайи: то же самое он проделывал каждое утро для Аритомо. Повернувшись ко мне, говорит:
— Желаю вам долгой, наполненной покоем отставки, судья Тео.
— Да, похоже, в этом я тебя опередила.
А Чон, если прикинуть, лет на пять-шесть старше меня. Когда вчера вечером я приехала, его здесь не было. Внимательно разглядываю его, сопоставляя увиденное с тем, что помню. Низенький, опрятный мужчина, ростом ниже, чем мне помнится, голова нынче совсем лысая. Наши взгляды сталкиваются.
— Вы вспоминаете, как в первый раз увидели меня, да?
— Не в первый раз, а в последний день. День, когда он ушел.
Он кивает:
— А Фун и я… мы всегда надеялись, что когда-нибудь вы вернетесь.
— Она здорова? — Я подалась в сторону, заглядывая ему за спину, надеясь увидеть его жену, стоящую у двери в ожидании приглашения войти. Они живут в Танах-Рате и каждое утро добираются на велосипедах до Югири по горной дороге.
— А Фун умерла, судья Тео. Четыре года назад.
— Ах да. Да, конечно.
— Она хотела выразить вам признательность за оплату ее больничных счетов. И я тоже.
Я приоткрыла крышку чайника, потом закрыла ее, пытаясь вспомнить, в какой больнице она лежала. Название всплыло в памяти: Госпиталь леди Темплер.
— Пять недель, — говорит он.
— Пять недель?
— Через пять недель будет тридцать четыре года, как господин Аритомо покинул нас.
— Ради всего святого, А Чон!
Я не бывала в Югири почти так же давно. Неужто домоправитель меряет жизнь числом лет, которые прошли с последнего моего пребывания тут, как отец очередной зарубкой на кухонной стене отмечает рост своего ребенка?
Пристальный взгляд А Чона устремлен в какую-то точку над моим плечом.
— Если больше ничего… — произносит он и уже поворачивается, чтобы уйти.
Тоном помягче я говорю:
— Сегодня утром, в десять часов, я жду гостя. Профессор Йошикава. Проводи его в гостиную на веранде.
Домоправитель кивает и уходит, закрывая за собою дверь. Уже не в первый раз я прикидываю, сколько ему известно, чего он насмотрелся и чего наслушался за все годы службы у Аритомо.
Папайя охлаждена — как раз так, как я люблю. Выжав на нее ломтик лайма, я съедаю два кусочка, прежде чем поставить тарелку на место. Открыв раздвижные двери, выхожу на веранду. Дом стоит на низких сваях, и веранда всего на два фута[3] возвышается над землей. Бамбуковые ставни постукивают, когда я подворачиваю их вверх. Горы такие же, какими я их помнила всегда, первый утренний свет оплавляет их склоны. Сырые опавшие листья и сломанные ветки устилают лужайку. Эта часть дома отгорожена от основного сада деревянным забором. Одна его секция рухнула, и высокая трава пробивается сквозь щели между упавшими досками. Я, положим, была готова к такому, но все же эта запущенность потрясает меня…
На восток от забора виден участок чайной плантации Маджуба[4]. Впадина долины напоминает мне ладони монаха, сложенные в горсти для получения ежедневного благословения. Сегодня суббота, но сборщики чая, занятые работой, двигаются вверх по склонам. Ночью была гроза, вершины все еще мрачны от бордовых облаков. Ступаю с веранды на узкую полоску из керамических плиток, холодных и влажных под моими босыми подошвами. Плитки эти Аритомо привез из разрушенного дворца в древней столице Таиланда, Аютхайе, где они когда-то устилали двор древнего и безымянного короля. Плитки — всё, что осталось от рухнувшего царства, все истории которого преданы забвению.
Наполняю легкие до краев и выдыхаю. Вижу, как мое дыхание обретает форму — конфигурация воздуха, всего лишь секунду назад находившегося во мне, и вспоминаю, какое ощущение чуда вызывало в душе когда-то это явление. Опустошение минувших месяцев уходит из моего тела — только для того, чтобы мгновение спустя заполнить его снова. Странное ощущение: мне больше не придется тратить выходные на чтение груд апелляций и исков или на завершение неоконченного за неделю бумаготворчества. Еще несколько раз ртом вдыхаю и выдыхаю полной грудью, следя за тем, как паутинки моего дыхания уносятся в сад и тают там…
Перед самым выходом из кабинета в зал судебных заседаний моя секретарша Азиза принесла конверт.
— Только что доставили для вас, пуан[5], — поясняет она.
Внутри — коротенькое письмо от профессора Йошикава Тацуджи[6] с подтверждением даты и времени нашей встречи в Югири. Послано неделю назад. Всматриваясь в аккуратный почерк, я раздумываю: не было ли с моей стороны ошибкой согласиться на встречу с ним? Совсем было собралась позвонить ему в Токио и все отменить, но сообразила, что профессор уже на пути в Малайзию. В конверте лежало еще что-то. Когда я, перевернув, тряхнула его, на мой стол выпала деревянная палочка дюймов в пять[7]. Подняв, окунаю ее в свет настольной лампы. Дерево темное и гладкое, кончик палочки украшен тонкими заходящими друг на друга желобками.
— Какая короткая лах[8], палочка для еды. Это для детей? — спрашивает Азиза, входя в кабинет с пачкой документов мне на подпись. — А где другая?
— Это не палочка для еды.
Так и сидела, разглядывая палочку на столе, пока Азиза не напомнила, что церемония, посвященная моему уходу в отставку, вот-вот начнется. Она помогла мне облачиться в мантию судьи, и мы вместе вышли в коридор. Азиза, как обычно, пошла вперед, чтобы предупредить адвокатов, что пуан хаким[9] уже на подходе: те всегда старались угадать по ее лицу, в каком я настроении. Идя за нею следом, осознаю: вот сейчас я в последний раз проделаю этот путь от своего кабинета до зала судебных заседаний…
Возведенное в Куала-Лумпуре около века назад здание Верховного суда имело все признаки колониального сооружения, призванного пережить империи. Под его высокими потолками, в толстых его стенах воздух сохранял прохладу в самые жаркие дни. Мой зал судебных заседаний был достаточно велик, чтобы вместить сорок, а может, даже и пятьдесят человек, но в этот вторник адвокатам, не побеспокоившимся приехать пораньше, днем, пришлось толпиться сзади у дверей. Азиза уведомила меня о количестве принимающих участие в церемонии, но все равно я опешила, занимая свое место под портретом Агонга и его королевы[10]. Тишина установилась в зале, когда пришел Абдуллах Мансур, председатель Верховного суда, и сел рядом со мной. Склонившись, он шепнул мне на ухо:
— Еще не поздно передумать.
— Вы никогда не прекратите меня уговаривать?.. — сказала я, сверкнув улыбкой.
— А вы никогда не меняете своих решений.
Он вздохнул:
— Разве нельзя остаться? Вам всего-то и осталось два года.
Глядя на него, я припомнила тот день, когда в его кабинете сообщила ему о решении пораньше выйти в отставку. За долгие годы мы спорили и вздорили по многим поводам — о положениях законов или о том, как он руководил судами, — но я всегда уважала в нем интеллект, чувство справедливости и его доверие к нам, судьям. В тот день он, в первый и в последний раз, утратил самообладание, говоря со мной. Нынче же от той вспышки осталась только печаль в его лице. Я буду скучать по нему.
Глядя поверх очков, Абдуллах принялся пересказывать собравшимся мою жизнь, вплетая в свою речь фразы на английском, не обращая внимания на висевшее в зале предостережение, требовавшее употреблять в суде только малайский язык.
— Судья Тео была лишь второй женщиной в нашей стране, назначенной членом Верховного суда, и прослужила последние четырнадцать лет…
Сквозь высокие запыленные окна мне виден уголок поля для игры в крикет через дорогу и, чуть подальше, клуб «Селангор»[11], чей ложнотюдоровский фасад напоминает мне о бунгало на Камеронском нагорье. Пробили часы на башне над центральной галереей, вялый их перезвон пробивался сквозь стены зала суда. Слегка повернув руку, сверяю время: одиннадцать минут четвертого, башенные часы, как всегда, надежно отстают, их точность много лет назад похитила молния.
— …сегодня немногим из нас известно, что в девятнадцать лет она стала узницей японского лагеря для интернированных, — говорит Абдуллах.
Адвокаты зашептались, поглядывая на меня с возросшим интересом. Я никогда и никому не рассказывала о трех годах, проведенных мною в лагере. Переживая день за днем, старалась не думать о том прошлом, и почти всегда мне это удавалось. Но время от времени воспоминания пробуждались — услышанным звуком, брошенным кем-то словом, уловленным на улице запахом…
— Когда война закончилась, — продолжал председатель Верховного суда, — судья Тео была сотрудницей Трибунала по военным преступлениям и ожидала разрешения изучать право в Гиртон-колледже[12] Кембриджа. Получив диплом выступающего в суде адвоката, она в 1949 году вернулась в Малайю и почти два года проработала заместителем государственного обвинителя…
Внизу, в первом ряду, напротив меня, сидят четверо пожилых британских адвокатов, их костюмы и галстуки были почти так же стары, как и они сами. Тридцать лет назад они, наряду с некоторым числом каучуковых плантаторов и госслужащих, предпочли остаться в обретшей независимость Малайе. Состарившиеся англичане вызывали жалость своим видом, делавшим их похожими на пожухлые страницы, вырванные из старой и позабытой книги.
Председатель Верховного суда откашлялся, и я взглянула на него.
— …Судье Тео оставалось еще целых два года до отставки, а потому вы, несомненно, можете себе представить, каково было наше удивление, когда она сообщила о своем намерении оставить работу в Суде. Подготовленные ею судебные решения известны своей четкостью и изящностью формулировок…
Речь оратора расцветилась, становясь все более хвалебной. Я же пребывала далеко в ином времени, думая об Аритомо и его саде в горах.
Председатель умолк. Я мысленно перенеслась обратно в зал судебных заседаний, надеясь, что никто не заметил провалов моего внимания: не пристало принимать отсутствующий вид на церемонии собственных проводов в отставку! Я обратилась к собравшимся с кратким выступлением без затей, после чего Абдуллах объявил церемонию закрытой. Я пригласила нескольких доброжелательных членов Судебного совета, своих коллег и старших партнеров по крупным городским юридическим фирмам на небольшой фуршет у себя в кабинете. Какой-то репортер задал мне несколько вопросов и сделал снимки. После ухода гостей Азиза обошла помещение, собирая чашки и бумажные тарелки с остатками съестного.
— Возьми себе эти карри с приправами, — сказала я, — и ту коробку с пирожными. Не пропадать же добру.
— Я знаю, лах. Вы всегда мне это говорите. — Она убрала и упаковала съестное, потом спросила: — Вам еще что-нибудь нужно?
— Можешь отправляться домой. Я закрою, — именно это я обычно говорила ей в конце каждого судебного слушания. — И — спасибо, Азиза. За все.
Она стряхнула складки на моей черной мантии, повесила ее на вешалку и, обернувшись, взглянула на меня:
— Нелегко было работать с вами, пуан все эти годы, но я за себя рада. — Слезы блеснули в ее глазах. — Юристы… им трудно от вас приходилось, но они всегда вас уважали. Вы их выслушивали.
— Это долг судьи, Азиза. Слушать. Так много судей, похоже, забыли об этом.
— А-а, но ведь только что вы не слушали, когда туан[13] Мансур все говорил и говорил. Я смотрела на вас.
— Он говорил о моей жизни, Азиза, — улыбнулась я ей. — Вряд ли в его речи было что-то, о чем я уже не знала, ты так не считаешь?
— Это оранг-джепун[14] вам сделали? — Она указала на мои руки. — Мааф[15], — извинилась Азиза, — только… я всегда боялась у вас спросить. Знаете, никогда не видела вас без перчаток.
Я медленно повернула левую кисть, словно поворачивала невидимую ручку двери.
— Одно хорошо с наступлением старости, — сказала я, глядя на ту часть перчатки, где были отрезаны и зашиты два из ее пальчиков. — Люди, если не слишком присматриваются, наверное, считают меня просто тщеславной старушенцией, прячущей свой артрит.
Обе мы застыли в нерешительности, не зная, как завершить наше расставание. Азиза пришла в себя первой, ухватила меня за правую руку и — не успела я опомниться — притянула в объятья, облепившись вокруг меня, как тесто вокруг палочки. Потом отпустила меня, подхватила свою сумку и ушла.
Я обвела взглядом кабинет. Книжные полки пусты. Мои вещи упакованы и увезены ко мне домой в Букит-Тунку[16]: ненужные обломки вновь поглотило море во время прилива. Коробки с протоколами заседаний малайских судов и общеанглийскими отчетами сложены в углу — они предназначались в дар Судебной библиотеке. Осталась заполненной только одна полка — с изданными протоколами Верховного суда, на корешках которых золотом был вытеснен год, когда рассматривались дела. Азиза обещала прийти завтра и забрать их.
Я подошла к висевшей на стене картине: акварель, на которой изображен дом, где я выросла. Нарисовала ее моя сестра. Это единственная ее работа, которая у меня осталась, одна-единственная, которую удалось отыскать после войны.
Я сняла ее с крюка и поставила возле двери.
Груду картонных папок, перевязанных розовыми ленточками, которая обычно громоздилась на моем столе, разобрали другие судьи, стол показался мне больше обычного, когда я села за него в кресло. Деревянная палка все еще лежала там же, где я ее и оставила. За полуоткрытыми окнами сумерки призывали ворон устраиваться на ночлег. Листва деревьев нарра по сторонам дороги стала еще гуще от спрятавшихся в ней птиц, которые заполонили улицы своим гомоном. Сняв телефонную трубку, я стала набирать номер и остановилась, не в силах припомнить оставшиеся цифры. Поворошила странички записной книжки, позвонила в главное здание чайной плантации Маджуба и попросила ответившую горничную позвать к телефону Фредерика Преториуса[17]. Долго ждать мне не пришлось.
— Юн Линь? — произнес он, похоже, слегка запыхавшись, когда взял трубку.
— Я еду в Югири.
Молчание зависло на линии.
— Когда?
— В эту пятницу.
Я помолчала. Семь месяцев минуло, как мы говорили друг с другом в последний раз.
— Будь любезен, передай А Чону, чтоб приготовил для меня дом.
— Он всегда держит его в готовности для тебя, — ответил Фредерик. — Но я передам. Загляни ко мне по дороге на плантацию. Можем чайку попить. Я отвезу тебя в Югири.
— Я еще не забыла, как туда добираться, Фредерик.
Еще одно протяженное молчание соединило нас.
— Сезон дождей кончился, но тут все еще дождит. Будь осторожней на дороге. — Он повесил трубку.
С минаретов Джамека[18] за рекой по всему городу разнеслись призывы к молитве. Я вслушивалась, как пустело здание суда. Звуки были настолько для меня знакомые, что я перестала обращать на них внимание много лет назад. Взвизгнуло колесо тележки: кто-то (наверное, Рашид, служащий регистратуры) вез пришедшие за день обращения в картотеку. Телефон в кабинете кого-то из судей звонил с минуту, потом смолк. Эхом разносились по коридорам громыханья закрываемых дверей: я даже не подозревала, до чего они громкие.
Взяла портфель, разок тряхнула его. Он был легче обычного. Уложила в него свое судейское одеяние. У двери обернулась посмотреть на свой кабинет. Вцепилась в край дверного косяка: понемногу доходило, что я больше никогда не переступлю порога этой комнаты. Слабость прошла. Я выключила свет, но продолжала стоять у двери, вглядываясь в тени. Взяла акварель сестры, закрыла дверь, несколько раз повернув ручку, чтобы убедиться, что замок сработал надежно. Затем привычным путем пошла по скудно освещенному коридору. С одной из стен галереи на меня взирали бывшие судьи, чьи лица на портретах менялись от европейских до малайских, китайских и индийских, от черно-белых до цветных. Миновала пустое место, куда вскоре добавят мой портрет. В конце коридора спустилась по ступенькам. Вместо того чтобы повернуть налево, к выходу на стоянку машин «только для судей», пошла к саду во внутреннем дворике. Эту часть судебного здания я любила больше всего. Часто захаживала сюда посидеть, подумать над юридическими проблемами судебного решения, которое готовилось мною. Немногие из судей приходили сюда, и обычно весь сад словно бы принадлежал мне одной. Иногда, если Карим, садовник, случалось, задерживался на работе, я говорила с ним накоротке, давая советы: что посадить, а что следует убрать. Сегодняшним вечером я была одна.
Заработали поливалки, вздымая в воздух запах пропеченной солнцем травы. Листья, сброшенные гуавами[19], росшими по центру сада, были собраны в кучу. Вдалеке сплетались воедино реки Гомбак и Кланг, забивая воздух илистым запахом земли, содранной с гор хребта Титивангса на севере. Большинство жителей Куала-Лумпура не переносят эту вонь, особенно когда между сезонами дождей река мелеет, я же всегда была не против тут, в самом центре большого города, ощутить запах гор, отстоявших за сотни миль. Села на привычную свою лавочку и всей душой предалась утверждавшемуся в здании спокойствию, становясь частью его. Через некоторое время встала. Чего-то этому саду недоставало. Проходя мимо кучи листьев, я подхватила несколько пригоршней и как попало разбросала по лужайке. Стряхивая прилипшие к рукам кусочки жухлых листьев, сошла с травы. Ну, конечно, теперь сад смотрится лучше! Гораздо лучше.
Ласточки стремительно ринулись вниз из своих гнезд под крышами, кончики их крыльев едва не чиркали меня по голове. В памяти всплыла известняковая пещера, в которой я побывала однажды, высоко-высоко в горах. С портфелем и акварелью в руках я вышла из дворика. В небе надо мной уплывала вдаль отлетевшая от мечети последняя строка молитвы, оставляя там, где только что звучало ее эхо, полное безмолвие.
Югири расположена в семи милях[20] к западу от Танах-Раты, второго из трех больших селений по дороге, ведущей к Камеронскому нагорью. Я добралась туда после четырех часов езды на машине из Куала-Лумпура. Я не спешила, останавливаясь по пути в разных местах. Через каждые несколько миль мне попадались придорожные лотошники, продающие дымчатые бутылочки с диким медом, стреляющие духовые трубки и вонючую фасоль петаи. Дорога стала значительно шире с тех пор, как я ездила по ней в последний раз, крутые повороты сглажены, зато теперь на ней теснилось слишком много машин и туристических автобусов, слишком много роняющих гравий и цемент грузовиков, торопящихся на очередную строительную площадку в горах.
Стояла последняя неделя сентября, над горами витало дождливое время года. Когда я въехала в Танах-Рату, вид бывшего госпиталя Королевской армии, расположенного на отвесном подъеме, вызвал во мне знакомое волнение: не так давно Фредерик сообщил, что теперь там школа. За нею высилась новая гостиница с неизбежным ложнотюдоровским фасадом. Танах-Рата была уже не деревней, а небольшим городком, главную улицу которого заполонили рестораны-пароходы, туристические агентства да сувенирные лавки. Я была рада оставить все это позади.
Когда я проезжала мимо Маджубы, страж закрывал чугунные ворота чайной плантации. Я еще с полмили держалась основной дороги, прежде чем поняла, что прозевала съезд на Югири. Досадуя на себя, развернула машину и двигалась потихоньку, пока не отыскала поворот, скрытый за рекламными щитами. Красноватая каменистая дорога через несколько минут закончилась у входа в Югири. На обочине стоял припаркованный «Лендровер». Я остановила свою машину рядом и вышла из нее, подрыгала ногами, стряхивая с них онемелость. Ограждавшую сад высокую стену покрывали мох и застарелые водяные пятна. Из трещин выбивались стрелки папоротника. В стену вделана дверь. К дверному косяку гвоздями прибита деревянная табличка с выжженными на ней двумя японскими иероглифами. А ниже название сада по-английски: «Вечерние туманы». Я почувствовала, что вот сейчас вступлю в место, существовавшее только в наслоениях воздуха и воды, света и времени.
Поверх стены проследила взглядом неровную линию деревьев гребня горы, вздымавшейся за садом. Отыскала деревянную смотровую вышку, наполовину скрытую в деревьях, похожую на воронье гнездо[21] галеона, затонувшего среди ветвей и сделавшегося добычей моря листвы. Ниточка тропинки тянулась в горы, и несколько мгновений я не сводила с нее глаз, словно могла увидеть там идущего домой Аритомо. Тряхнув головой, толкнула дверь, вошла в сад и закрыла ее за собой.
Звуки оставшегося снаружи мира затихли, впитанные листвой. Я стояла не двигаясь. На мгновение ощутила, что ничего не изменилось с тех пор, как я была здесь в последний раз, почти тридцать пять лет назад: воздух так же напоен запахом сосновой смолы, так же потрескивает и постукивает бамбук на ветру, так же устилает землю неровная мозаика солнечного света.
Сверяясь с компасом памяти, я зашагала по саду. Раз или два повернула не туда, но в конце концов вышла к пруду. Остановилась. Извилистая дорожка в туннеле из деревьев усилила эффект безбрежно распахнутого над водой неба. В центре пруда шесть высоких узких камней сгрудились в миниатюрный известняковый горный хребет. На противоположном берегу стоял павильон. Соединяясь со своим отражением в воде, он казался висящим в воздухе бумажным фонариком. В нескольких шагах сбоку от павильона росла ива, ее опущенные ветви припадали к воде пруда.
На мелководье стояла серая цапля, повернув ко мне склоненную набок голову, одна ее нога застыла в воздухе, словно рука пианиста, забывшего ноты исполняемой им музыки. Секунду спустя цапля опустила ногу и метнула клюв в воду. Была ли она потомком той самой, что устроила себе тут дом, когда я впервые оказалась в Югири? Фредерик рассказывал мне, что в саду всегда жила одна цапля: нерушимая цепочка птиц-одиночек. Понимая, что это никак не может быть та самая птица, залетевшая из почти сорокалетнего прошлого, я смотрела на нее и надеялась, что она — именно та. Хотелось верить, что попавшей в это святое прибежище цапле как-то удалось ускользнуть из цепких пальцев времени…
Справа от меня, на возвышении, стоял дом Аритомо.
Свет лился из его окон, дым от кухонной трубы неровной струйкой рвался выше макушек деревьев. Мужчина появился у входной двери и направился вниз по склону мне навстречу. Остановился в нескольких шагах, видимо чтобы мы могли хорошенько рассмотреть друг друга. «Мы похожи, — подумалось мне, — на каждое одинокое растение или камень, на каждый вид в этом саду, где расстояния между всем и вся тщательно отмерены».
— Я уж было решил, что ты передумала, — произнес он, пересекая пространство меж нами.
— Путь сюда оказался дольше, чем мне помнилось.
— Места, похоже, все дальше уходят одно от другого… верно?.. чем старее мы делаемся.
В свои шестьдесят семь Фредерик Преториус вел себя с достоинством, которое исходит от древнего произведения искусства, защищенного осознанием собственной редкости и ценности. Мы с ним поддерживали отношения много лет, всякий раз, когда он приезжал в Куала-Лумпур, встречались выпить по рюмочке или пообедать, но я всегда противилась его приглашениям наведаться на Камеронское нагорье. В последние два-три года его приезды в К-Л[22] сошли на нет. Давным-давно я осознала, что он — единственный близкий друг, которого мне суждено иметь.
— Ты сейчас так разглядывала эту птицу, — сказал он, — словно всматривалась в прошлое.
Я оглянулась еще раз на цаплю. Птица ушла подальше, забираясь в пруд. Туман поднимался с поверхности воды в шорохах ветра.
— Я думала о днях былых…
— На секунду-другую, стоя там, я решил, что ты вот-вот растаешь, исчезнешь.
Фредерик помолчал, потом добавил:
— Захотелось окликнуть тебя.
— Я ушла в отставку из Суда.
В первый раз я сказала это вслух другому человеку. Похоже, что-то внутри меня сместилось и рухнуло, и я сделалась менее цельной, чем прежде.
— Я прочел об этом во вчерашних газетах.
— Фото, которое они поставили, — чудовищное, совершенно чудовищное!
Огоньки зажглись в саду, кружа голову летающим насекомым. Заквакала лягушка. Несколько подруг принялись вторить ей, потом еще, и еще — пока воздух и земля не сотряслись от тысяч утробных звуков.
— А Чон ушел домой, — сказал Фредерик. — Завтра утром придет. Я привез тебе кое-что из продуктов.
— Очень заботливо с твоей стороны.
— Мне надо кое о чем переговорить с тобой. Может, завтра утром, если ты не против.
— Я встаю рано.
— Я не забыл. — Взгляд его скользнул по моему лицу. — Ты одна справишься?
— Прекрасно справлюсь. Увидимся завтра утром.
Похоже, мои слова не убедили Фредерика, но он кивнул. Потом повернулся и устремился к выходу по той же дорожке, по которой я только что прошла. Скоро он исчез среди теней под деревьями.
Цапля в пруду встряхнула крыльями, взмахнула на пробу ими несколько раз и улетела. Сделала один круг над садом, пронесшись мимо меня. В конце петли она распахнула крылья и полетела на огоньки только-только зажигавшихся звезд. Я стояла, запрокинув лицо в небо, и следила, как растворяется в сумеречном свете улетающая птица…
Вернувшись к себе в спальню, я вспоминаю о тарелке с папайей, которую принес А Чон. Заставляю себя съесть оставшиеся дольки, потом разбираю вещи и вешаю одежду в гардероб. В последние несколько лет я наслышалась от людей жалоб на то, что климат нагорья уже не такой прохладный, каким был когда-то, однако тем не менее решаю надеть жакет.
Дом погружен в темноту. Когда я выхожу из своей комнаты, приходится вспоминать, куда сворачивать в его извилистых коридорах. Татами[23] в гостиной слегка поскрипывают, когда я прохожу по ним, давно лишенным всяких следов размягчающей ласки босых пяток. Двери на веранду открыты. А Чон поставил тут низкий квадратный столик, с каждой стороны которого уложены коврики, сплетенные из волокон ротанговой пальмы. Ниже веранды пять темно-серых валунов, расположенных на расстоянии один от другого, торчат над прямоугольным ложем из гравия, усыпанного листьями. Один из валунов отстоит от остальных подальше. За этим участком земля мягко идет под уклон, сливаясь с кромкой берега пруда.
Прибывает Фредерик, вид у него сразу делается несчастным оттого, что приходится сидеть на полу. Он бросает на столик картонную папку и опускает тело в сидячее положение со скрещенными ногами, морщась от усилий поудобнее устроиться на коврике.
— Тебе не кажется странным, что ты вернулась сюда? — спрашивает он.
— Куда ни повернусь, всюду слышу эхо звуков, давным-давно отзвучавших.
— Я тоже их слышу. — Он развязывает тесемки папки, достает и раскладывает на столе стопку бумаг. — Это рисунок для нашей последней линии. А это, вот тут… — указательный палец упирается в лист и по скользящей лаковой поверхности стола пододвигает его ко мне… — это для упаковок.
Эмблема, использованная на иллюстрациях, мне знакома: то, что, по всей видимости, первоначально было прожилками чайного листа, преобразуется в подробный рисунок долин с проступающим из переплетения штрихов изображением Дома Маджубы.
— С гравюры, которую Аритомо подарил Магнусу?
— Хотелось использовать ее, — кивает Фредерик. — Я заплачу, конечно… за использование, я имею в виду.
Аритомо оставил Югири и авторские права на все свои литературные и художественные произведения мне. За редкими исключениями, я никогда не позволяла кому бы то ни было воспроизводить их.
— Используй, — говорю я Фредерику. — Никакой платы мне не нужно.
Тот не скрывает удивления.
— Как Эмили? — спрашиваю я, не давая ему заговорить. — Ей, должно быть… сколько? восемьдесят восемь?
Я пытаюсь сообразить, сколько лет было его тетушке, когда я познакомилась с ней многие-многие годы назад.
— У нее припадок сделается, если она такое услышит. Ей в этом году восемьдесят пять исполнилось. — Фредерик замялся. — С ней неладно. Есть дни, когда ее память посрамила бы слоновью, но есть и такие дни…
Голос его умолкает, сменяясь вздохом.
— Я навещу ее, как только устроюсь.
Мне известно, что Эмили, как и многие старые китаянки, придает большое значение тому, чтобы люди помоложе наносили им визит первыми, выказывая тем самым уважение.
— Да уж, сделай милость. Я уже сообщил ей, что ты вернулась.
Взмахом руки я обвожу сад:
— Твои рабочие хорошо позаботились о Югири.
— Судьям не подобает лгать, — улыбка на лице Фредерика тает спустя всего секунду. — Нам обоим известно, что у моих ребят нет умения содержать его. У меня тоже нет знаний… равно как интереса или времени… чтобы надзирать за тем, делают ли они свою работу как следует. Саду нужна твоя забота.
Он умолкает, потом произносит:
— Между прочим, я решил произвести кое-какие изменения в саду Маджубы.
— Какого рода изменения?
— Я нанял себе в помощь ландшафтного садовника… садовницу, — говорит Фредерик. — Вималя стала заниматься садоводством в Тинах-Рате год назад. Она — отчаянная поборница дикорастущих садов.
— Следует за модой.
Я и не подумала приглушать в голосе презрительную интонацию.
Лицо его раздраженно морщится:
— Мы возвращаемся к задуманному природой. Мы используем растения и деревья, присущие этой местности. Мы позволим им расти так, как они сделали бы это на воле, при настолько малом содействии — или вмешательстве — человека, какое только возможно.
— Ты уберешь все сосны в Маджубе? И ели, эвкалипты… розы, ирисы… и… и стрелиции[24]?
— Они все — чужие. Все до единой.
— Так же, как и каждый чайный куст здесь. Как и я! Как и вы тоже, мистер Преториус. Особенно — вы.
Не мое дело, понимаю, но только с тех самых пор, как дядя Фредерика, Магнус, создал чайную плантацию Маджуба, почти шестьдесят лет его обихоженными садами восхищались, их любили. Люди съезжались со всей страны полюбоваться на английский сад в тропиках. Они ходили среди искусно подстриженных живых изгородей и роскошных цветочных клумб, цветочных бордюров и роз, посаженных Эмили. Мне даже слышать больно, что сад должны переделать, придать ему вид части тропических джунглей, которые обступают нас со всех сторон — разросшиеся, неухоженные, лишенные всякого порядка.
— Я тебе и раньше говорил, давным-давно: сады Маджубы чересчур искусственны. Чем старше я становлюсь, тем больше не верю в возможность управлять природой. Деревьям следует позволить расти, как им угодно. — Фредерик бросает взгляд на сад. — Будь моя воля, я бы все это повыдергал.
— Что такое садоводство, как не управление природой и не улучшение ее? — Я ловлю себя на том, что повышаю голос. — Когда ты болтаешь про «естественное садоводство», или как там ни назови, ты уже задействуешь человека. Ты копаешь клумбы, срубаешь деревья, приносишь семена и саженцы. Для меня это выглядит весьма натянуто…
— Сады, подобные Югири, — обманки. Они фальшивы. Все здесь — результат продуманности формы и построения. Мы сидим в одном из самых искусственных мест, какие только сыскать можно.
Ласточки взмыли с травы на деревья, словно опавшие листочки, возвращающиеся на родные ветви. Я думала о том, что составляет искусство создания садов, противником которых выступает Фредерик, о подходах, так любимых японцами: приемах воздействия на природу, которые оттачивались больше тысячи лет. Не оттого ли, что жили они на землях, которые регулярно корежили землетрясения и природные бедствия, проистекало их стремление укротить мир вокруг себя? Взгляд мой перенесся в гостиную, на бонсай сосны, за которым так преданно ухаживал А Чон. Громадина-ствол, в который вымахала бы на воле сосна, ныне сведен к размеру, который вполне уместно смотрится на столе ученого, обуздан до желаемой формы медной проволокой, обвивающей его ветви. Есть люди, вроде Фредерика, кому чудится, будто подобные выкрутасы — сродни попыткам править силами небесными на земле. И все же — именно в тщательно продуманном и сотворенном саду Югири обрела я чувство порядка и покоя. И даже (на очень краткий отрезок времени) — забвения.
— Сегодня утром ко мне один человек приедет повидаться, — говорю я. — Из Токио. Он хочет взглянуть на ксилографии Аритомо.
— Ты продаешь их? С деньгами плохо?
Его обеспокоенность трогает меня, остужает мой гнев. Творец садов, Аритомо к тому же был мастером гравюры на дереве. После того как я призналась (одна неосмотрительная фраза во время какого-то интервью), что он оставил мне коллекцию своих ксилографий, знатоки и ценители из Японии пытались убедить меня расстаться с ними или устроить их выставку. Я всегда отказывалась, к их великому возмущению: многие из них дали ясно понять, что не считают меня законной владелицей.
— Профессор Йошикава Тацуджи обратился ко мне год назад. Он намеревался написать книгу о ксилографиях Аритомо. Я уклонилась от разговора с ним.
Брови Фредерика взметнулись вверх:
— Однако сегодня он приезжает?
— Недавно я навела о нем справки. Он историк. И уважаемый. Писал статьи и книги о действиях его страны во время войны.
— Отрицая, что некоторые факты вообще имели место, я уверен.
— У него репутация объективного исследователя.
— С чего бы это историку интересоваться искусством Аритомо?
— Йошикава еще и знаток японской гравюры на дереве.
— Ты читала что-нибудь из его книг? — спрашивает Фредерик.
— Все они на японском.
— Ты ж говоришь на их языке, разве нет?
— Говорила когда-то, немного, только-только чтоб объясниться. Говорить одно, а вот читать на японском… это совсем другое.
— За все эти годы, — говорит Фредерик, — за все эти годы ты так и не рассказала мне, что джапы[25] сделали с тобой.
— То, что они сделали со мной, они сделали с тысячами других.
Пальцем я обвожу контуры чайного листа на упаковке.
— Однажды Аритомо прочитал мне стихотворение о потоке, который пересох, — на мгновение я задумываюсь, потом произношу: «Пусть иссякло теченье воды, все равно слышен нам ее имени шепот».
— Тебе все еще тяжело, ведь так? — говорит Фредерик. — Даже спустя столько времени после его смерти.
Мне всегда делается не по себе, как только я слышу, что кто-то упомянул о «смерти» Аритомо, даже спустя столько лет.
— Бывают дни, когда я думаю, что он все еще там, бродит в горах, как один из Восьми Бессмертных в даосской легенде, мудрец, держащий путь домой, — признаюсь я. — Но меня поражает, что все еще находятся люди, которые знай себе приезжают сюда только потому, что наслушались всяких сказок.
— Ты ж знаешь, он жил здесь… сколько? Тринадцать лет? Четырнадцать? Он каждый день ходил по тропинкам в джунглях. Знал их получше иных лесничих-проводников. Как мог он потеряться?
— Даже обезьяны падают с деревьев, — я силюсь припомнить, где слышала это, но память подводит. Пытаюсь утешиться тем, что она еще вернется ко мне. — Возможно, Аритомо не так хорошо знал джунгли, как сам полагал.
Изнутри дома слышится звон колокольчика: кто-то тянет за шнурок у входа.
— Это, должно быть, Йошикава.
Фредерик упирается руками в стол и встает, по-стариковски кряхтя. Я продолжаю сидеть, следя за тем, как исчезают с лаковой поверхности следы его ладоней.
— Мне бы хотелось, чтоб ты был здесь, Фредерик, когда я буду говорить с ним.
— Я должен бежать. Забот полон рот.
Медленно распрямляю тело, пока, выпрямившись, не могу взглянуть на него глаза в глаза.
— Прошу тебя, Фредерик.
Он смотрит на меня. И через мгновение кивает.
Глава 2
Историк прибыл точно в назначенное время, и я подумала: уж не прослышал ли он про то, как я обходилась с адвокатами, которые позволяли себе с опозданием являться на мои судебные заседания. Еще несколько минут — и А Чон проводит его на веранду.
— Профессор Йошикава, — приветствую я его по-английски.
— Прошу вас, зовите меня Тацуджи, — просит он, низко мне поклонившись, на что я поклоном не отвечаю. Повожу головой в сторону Фредерика:
— Мистер Преториус, мой добрый приятель.
— А-а! С чайной плантации Маджуба, — кивает Тацуджи, взглянув на меня, прежде чем поклониться Фредерику.
Я указываю Тацуджи на традиционное место почетного гостя, с которого лучше всего, во всей красе, виден сад. Тацуджи под шестьдесят пять, на нем светло-серый полотняный костюм, белая сорочка из хлопка, бледно-голубой галстук. По возрасту, прикидываю я, вполне мог воевать на войне: этой меркой я, почти подсознательно, меряю всякого встреченного японца. Он обводит взглядом низкий потолок, стены и деревянные стойки, прежде чем обратить его на сад.
— Югири, — негромко роняет он.
Появляется А Чон с подносом чая и маленьким бронзовым колокольчиком. Я разливаю чай по чашкам. Тацуджи отводит глаза, когда я ловлю его на том, что он разглядывает мои руки.
— Ваше нежелание беседовать с кем-либо из нашей братии хорошо известно, судья Тео, — говорит он, когда я ставлю перед ним чашку с чаем. — Признаться честно, меня не удивил ваш отказ принять меня, зато я был буквально огорошен, когда вы передумали.