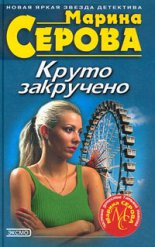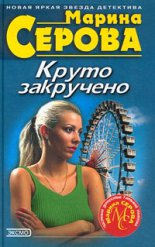Мамочки мои… или Больничный Декамерон Лешко Юлия
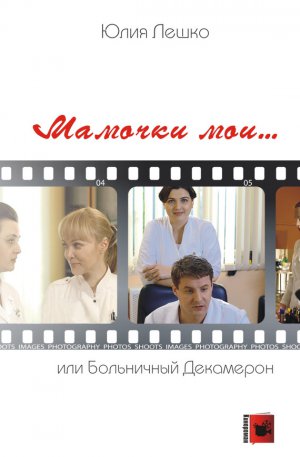
Все, тайм-аут закончился, и мать закричала с новой силой:
– Заявление! Мы бы! Они бы! Если бы да кабы!.. Я еще и на него заявление могу написать! В милицию! Ты несовершеннолетняя!
Вера Михайловна бросила взгляд на молчаливого отца, но тот стоял в прежней позе, не выражая никаких эмоций.
– Может быть, вы тут в семейном кругу все решите, а потом я подойду, – сказала Вера, настойчиво глядя на отца. Но мать не давала своему супругу никаких шансов:
– Так, я уже все решила. Работу бросила, сюда приехала за дочкой. Давайте… Что там нужно? Тоже заявление какое-то? Нечего тянуть.
И только тогда Лена начала плакать. Отец протянул было к ней руку – погладить по головке, но под взглядом жены опустил, так и не дотянувшись до дочери…
Дверь открылась внезапно и эффектно. С громким «Разрешите!» в ординаторскую, наконец, зашли долгожданные (исключительно Верой Михайловной) обитательницы одиннадцатой палаты. Замыкающей шла медсестра Света. Красавица Дороганова, проинструктированная Светой, сразу перешла к цели визита:
– И чего это вы тут разорались на два этажа? Здесь женщин волновать нельзя! Мы на сохранении лежим.
Вера Михайловна чуть заметно улыбнулась. К счастью, эту улыбку, кроме Светы, никто не заметил. Мать Лены, женщина далеко не робкого десятка, грозно спросила:
– А вы кто такие?
– Будущие матери – это в наши-то годы! – в тон ответила тридцативосьмилетняя Дороганова. – Другие уже бабушки, кому повезло, а мы вот только рожать собрались!
Шустова, немногим младше Дорогановой, встав рядом с пряменько сидящей на стуле Леной и приобняв ее за плечи, тоже взяла слово:
– Рассказать, как я ребенка у Бога вымолила? Чем я за свои аборты заплатила?…
Вопрос был риторический, но отец Лены даже поежился от неловкости. Движение было замечено Дорогановой. Как никогда похожая на мятежную цыганку, она плавной походкой подошла к мужику и вперила в него сверкающие глазищи:
– А ты чего стоишь, голову свесил? Мужик ты или пустое место? Где твое слово? Твоего внука сейчас жизнь решают – убивать или не убивать. Или тоже, как твоя благоверная, внука на свиней меняешь? И внука у тебя не будет, и дочь потеряешь. Она ведь не простит.
Лена все же не выдержала этой сцены, встала и вышла за дверь, закрыв лицо ладошкой. За ней ушла Света, сверившись взглядом с Верой Михайловной. А две беременные женщины остались стоять, в упор глядя на Ленину мать.
Та, пристыженная, но не сдавшаяся, стояла с гордо поднятой головой и не хотела признавать поражения:
– Коля, поехали. Пусть своим умом живет. У нее тут, кроме нас, советчиков полно. Все. На выход!
И только тогда доселе бессловесный Коля подал голос, чуть охрипший после долгого молчания:
– Что надо подписать, доктор? Я разрешаю… Делайте, что надо. Сохраняйте. Пусть рожает Ленка. Не слушайте вы мать, поможем… И мать… она тоже поможет.
Губы задрожали у вышеназванной матери, полезла в сумку, ничего подходящего там не нашла, махнула рукой, выскочила за дверь…
– Ой! – Шустова положила руку на живот и улыбнулась. – Толкнулся! Радуется, наверное…
– И он позвонил, Костя этот? – уютно закутавшись в одеяло, спросила Оля Захарова. Ей не терпелось услышать хеппи-энд.
Варя нажала кнопку на мобильнике: было уже почти семь часов вечера…
– Нет, но его телефоном воспользовался тот, кто надо.
– Как это? – спросила Лазарева, очищающая мандаринку.
Варя улыбнулась:
– А вот так…
В телецентре Дворца спорта за пультом видеомонтажа сидел, не сводя глаз с монитора, рыжеволосый Алексеев. Вот уже несколько раз он гонял взад-вперед запись, на которой две красивые девушки в форме стюардесс размахивали флажками и кричали вместе с толпой, заполнившей трибуны стадиона. Вернее, гонял запись его коллега Дима, а Алексеев с довольно озадаченным видом всматривался в изображение.
– А ну-ка, возьми чуть крупнее, – попросил он. Дима укрупнил картинку.
– Что, знакомый кто-то? – спросил он.
– Варька… – не то товарищу, не то себе объяснил Алексеев и снова уставился в экран.
– Которая из них? Блондинка, да?… Что они, стюардессы, что ли? – уточнил Дима.
Телевизионная картинка получилась очень эффектная, почти рекламная: красивая девушка-блондинка открыто выражает свои эмоции, волосы растрепались, глаза блестят… Алексеев перебил коллегу:
– Димон, какой это сектор?
Поворот верньера – и вот он, номер сектора на мониторе.
– Ага, – удовлетворенно произнес Алексеев, глядя, как в замедленном темпе Варя машет рукой – явно кому-то на площадке, – а отследи-ка, кому это она машет.
Увлеченный телевизионным расследованием Дима старательно отследил: вот, Варя машет центровому.
– Мастерски! – хлопнул Диму по плечу Алексеев.
…Ровно два звонка и десять минут понадобилось Алексееву для того, чтобы «выйти» на центрового. И вот уже оператор установил свою аппаратуру, и вот уже Алексеев обращается к Косте, протягивая микрофон:
– Зрители все видели, поэтому – всего несколько слов: как настроение и какие, по-вашему, у нашей команды шансы на победу на чемпионате мира?…
Костя ответил лаконично, как попросил Алексеев:
– Если честно, игра была неровная, но победителей не судят. Поэтому настроение праздничное и боевое. Выводы мы уже сделали, на «мир» поедем, скажем так, обогащенные опытом. На победу надеемся! Шансы есть, вы сами видели.
Алексеев сделал руками «крест» оператору – все! – и снова повернулся к спортсмену:
– И еще один, личный вопрос: где девушка, которой вы махали рукой, забив тот шикарный мяч на шестнадцатой минуте?…
…Варя и Надя уже ехали в автобусе по летному полю, когда в сумочке у Вари зазвонил телефон. Варя посмотрела на незнакомый номер, а потом поняла: Костя. Улыбнулась и нажала клавишу:
– Костя, я слушаю!
Но голос, который зазвучал в трубке, застал ее врасплох: это был Алексеев.
– Я… Ты откуда? Да нет, это я с неба! – скрывая волнение, отвечала Варя.
В это время Алексеев шел по коридору Дворца спорта и на ходу разговаривал по телефону с Варей. За ним, на некотором удалении, шел озадаченный Костя. Казалось, журналист просто забыл о его существовании:
– Я работаю на чемпионате. Увидел тебя и… Не знал, что ты стала стюардессой.
Задержавшись на трапе самолета, Варя отвечала ему, уже совсем справившись с волнением, спокойно, почти весело:
– Я и сама не знала, что буду летать. Стечение обстоятельств… Удобный график, ранняя пенсия, много льгот. Надбавки за вредность…
Алексеев по привычке перебил:
– Неужели, Варька, тебе за твою вредность теперь еще и приплачивают? Не обижайся, шучу, как всегда…
Из салона выглянул второй пилот Володя, жестом поманил – «давай, заходи!». Варя медленно двинулась в салон, продолжая разговаривать:
– Алексеев, я не вредная, я очень полезный член экипажа. Но если бы даже надбавок не было: языки не забываю. И мир можно повидать без отрыва от производства, Южную Америку, например… Я слышала, ты там работал какое-то время.
Двигатели рядом стоящего самолета включились неожиданно: Варя закрыла второе ухо ладонью. Хорошо поставленный голос Алексеева был слышен по-прежнему четко:
– Да, работал, два года собкором. Вырванные годы… Зато я теперь – ТОРО КОРРИДА, стреляный воробей! – гул двигателей донесся и до него. – Ты уже улетаешь?
Варя почувствовала, что слезы помимо ее воли выступают на глазах. Но продолжала говорить:
– Нет, вылет через два часа.
Алексеев уже заходил в монтажную:
– Так я еще успею? – он посмотрел на часы и на монтажера, сделав несколько движений пальцами свободной руки: сначала изобразил «два», в смысле часа, а потом «пошагал» по направлению к двери, в которую только что вошел… Дима все понял без лишних слов, но отрицательно повертел головой.
Алексеев взъерошил рыжую копну:
– Черт, не выйдет… Понимаешь, нужно еще все смонтировать и срочно в эфир.
Варя, глядя в синее вечернее небо, печально кивнула невидимому собеседнику:
– Да, монтаж – это серьезно.
Сделала паузу и подождала реакцию. Но ее не было.
Варя едва заметно нахмурилась и тут же, почти с усилием возвратив лицу обычное, приветливо-безмятежное выражение, легко произнесла:
– А ты не изменился…
Алексеев, уже устроившись за монтажным столом, не прекращая разговора, жестами давал распоряжения монтажеру. Но на этих Вариных словах вздохнул и он:
– Ну, как сказать… А вот ты все такая же.
И, конечно, Алексеев не мог видеть, как зажмурилась Варя на том конце «провода»… Ей все же удалось ничем не выдать своих чувств:
– Я очень изменилась, ты просто не заметил. Прошло ведь уже… пять лет… и девять месяцев.
Она замерла, ожидая ответной реплики. А Алексеев и не заметил ничего особенного, только удивился:
– Господи, да неужели? Ты так быстро посчитала…
На этот раз Варя нашла в себе силы для иронии:
– Да, в таких пределах я довольно бегло считаю. Ну ладно, Алексеев. Будешь в наших краях – заходи… Пока!
И, сделав над собой никому не заметное, но титаническое усилие, Варя «отключилась». А потом, запрокинув голову, еще минуту смотрела в стремительно темнеющее небо. И слезы высохли, так и не пролившись.
– Что было дальше, мне рассказал уже сам герой моего романа, – сказала Варя и почему-то посмотрела на Берестень. Света сидела на своей кровати, прислонившись спиной к стене, и внимательно смотрела на Варю. Кажется, и у нее в глазах стояли непролитые слезы…
Голос Кости, зашедшего в монтажную, окончательно вернул Алексеева в реальность:
– Я прошу прощения, но можно я заберу свой мобильный телефон?
Алексеев смутился:
– Тьфу… Прости. Да, да… конечно, я сейчас номер перепишу.
И пока он царапал маркером Варин номер, Костя не удержался и выдал:
– Опоздали…
Алексеев внимательно посмотрел на парня:
– Кто опоздал?
Тот смотрел на него без всякого вызова:
– Ну, и вы опоздали, и я тоже… Девушка Варя замужем, у нее двое мальчишек. Близнецы. Петя и Паша. Тоже рыжие, между прочим… Ну, привет!
Костя вышел, так и не заметив, как поменялся в лице Алексеев…
Из коридора раздался командный голос Прокофьевны:
– Мамочки! Кефир!..
Но тринадцатой палате разве было до кефира…
– Так он нашел тебя? – спросила нетерпеливая девчонка Лазарева.
И в эту самую минуту в оконное стекло что-то мягко стукнуло.
– Конечно, нашел, – улыбнулась Варя, поднимаясь с кровати. Она подошла к окну, оглянулась на подруг и сказала просто:
– Идите сюда…
Любопытные мамочки с разной скоростью приблизились к окну. А там, за окном, во дворе, стояла очень симпатичная троица – высокий красивый папа и двое близняшек в одинаковых пуховиках и шапках. Завидев Варю, мальчишки закричали:
– Мама! Мама! – и стали бросать в воздух свои шапчонки…
– Какие рыжие! – прижала к груди руки Оля Захарова.
– Так есть в кого, – засмеялась Варя.
Негромкий звук закрывающейся двери заставил их обернуться: это Света Берестень вышла из палаты.
Вера Михайловна сидела за столом и заполняла истории болезни: работа нудная, но необходимая. «Вернется Наташа, сброшу на нее всю писанину», – мечтала Вера, зная при этом наверняка, что фантастическим мечтам ее вряд ли суждено сбыться. Заполнение документации всегда напоминало ей рабочий процесс в обувной мастерской: только починишь партию, как тут же накидают новую гору… Наташа не в пример лучше ее владела компьютером, так что по-любому будет легче. Так, еще шесть… Нет, уже пять дней до ее возвращения.
Раздался негромкий стук в дверь.
– Войдите, – позвала Вера Михайловна.
В ординаторскую вошла Берестень. Вошла и встала, глядя, как обычно, куда-то вбок, вертя в руках свою пеструю кружечку.
Вера Михайловна удивилась этому явлению. Однако отметила про себя, что злостная нарушительница режима уже сходила в столовую, выпила на ночь кефир… Молодец, что тут скажешь. Ну, и чего стоит, чего молчит?…
И все же не стала спрашивать, зачем пожаловала к ней пациентка: захочет – сама расскажет. Однако ручку отложила, выжидательно глядя на молодую женщину.
Берестень, так и не услышав приглашения, робко присела на диван.
Молчание затянулось. В этой странной тишине с резким щелчком отключился вскипевший чайник, стоящий на столике в углу.
Вера Михайловна неторопливо встала и подошла к столику. Взяла чашку и положила в нее пакетик с чаем.
Оглянулась на Берестень:
– Чай будешь?
Берестень, наконец, посмотрела ей прямо в глаза и улыбнулась. Улыбка – как трещинка…
– Да… – почти прошептала Светлана. И добавила: – Без сахара.
А в одиннадцатой палате на сон грядущий молоденькая мамочка Васильева вспомнила вдруг еще одну важную примету:
– Чтобы роды были легкими – надо в доме все открыть.
Экономист Шустова на автомате поддержала разговор:
– Это типа двери?
Васильева кивнула:
– Да, все, что открывается… Окна, двери, кастрюли и духовки…
Реалистка Аль-Катран все же усомнилась:
– А если зима? Вот как теперь?
Шустова тоже «въехала»:
– Да, странная какая-то примета. Входную, значит, дверь открыть и на работу? Ну-ну.
Дороганова неожиданно засмеялась:
– Ой, мамочки! Не могу… Мой-то муж примет никаких не знает, но эту точно соблюдет!
Шустова уточнила:
– В смысле?
Дороганова беззаботно махнула рукой:
– Вот как срок придет, что мой в первую очередь откроет, я знаю…
Наивная Васильева спросила:
– А что?
Тут уж, переглянувшись, засмеялись и Дороганова, и Шустова. И до Васильевой дошло:
– А, бутылку…
– Да уж не Америку! – добродушно сказала Дороганова. Помолчала и сказала: – А я ругать не буду. Сколько ждали мы, сколько надеялись…
Коридор опустел, отделение затихло. Из ординаторской вышли Светлана Берестень и Вера Михайловна. Вера закрыла дверь, посмотрела на Свету. Та, в свойственной ей манере, сказала только:
– Пойду.
Вера кивнула и спокойно пошла к выходу из отделения…
…Она не видела, как, оглянувшись на удаляющуюся по коридору фигуру врача, Света Берестень осторожно поставила на голову свою пеструю кружечку. И пошла вперед – шаг, другой, третий, изящно подняв вверх руки, балансируя ими на ходу, чтобы не уронить свою хрупкую фарфоровую «корону».
Чашечка не упала – до самых дверей палаты № 13, самой экстремальной из палат Веры Михайловны Стрельцовой…
Уже в дверях, выходящих во двор Большого Роддома, Вера Михайловна и медсестра Света столкнулись с вновь прибывшей беременной. Она была очень веселая и молодая, рядом с ней шел такой же молодой муж. В руках он нес пакеты с какими-то вещами, а жена шла налегке, если это вообще возможно на таком сроке…
Муж шутливо подтолкнул женщину в сторону двери.
– Иди уже, чудо пузатое…
И, безошибочно почувствовав в проходящих мимо женщинах медиков, на всякий случай вежливо поздоровался:
– Добрый вечер!
Вера Михайловна ответила с улыбкой:
– Здравствуйте…
А потом наклонилась и сказала на ухо Свете:
– Ты поняла, что такое «ЧП»? «Чудо пузатое»!
Света рассмеялась:
– Эх, всегда бы так…
И еще раз с улыбкой оглянувшись на будущего папашу, они вышли на вечернюю улицу, где Веру уже ждал терпеливо сидящий в машине Сергей.
– Ну, пойду, – помахала она спешащей в ближайший магазин Свете.
…Телефон в сумочке зазвонил неожиданно. Сначала Вера глянула на Сергея: нет, не он. Может, шеф?… Но нет: это была Наташа!
– Наташка! Привет! Ты телепат! Я тебя сто раз сегодня вспоминала! – закричала Вера в трубку.
Звонкий голос подруги звучал как всегда весело:
– Верунчик! А я сегодня все экстерном сдала! В комиссии Селивончик и Паршин сидели, ну, ты понимаешь – учителя, отцы родные…
– Что, и спрашивать не стали? – спросила Вера.
– У меня же Селивончикова невестка рожала! Ему ли не знать, с какими проблемами была девушка… Так что я свой экстерн ему два года назад сдала. Короче, завтра выхожу. По работе соскучилась, веришь?
– Приходи, заждались тебя уже. До завтра!
И Вера почти побежала к машине. У нее было очень хорошее настроение…
Глава вторая
Трусишка зайка серенький…
Вера Михайловна захлопнула дверцу машины, и она сразу, ворчливо фыркнув выхлопной трубой, тронулась с места. Вера немного постояла, провожая взглядом отъехавшего мужа. Ей показалось, что даже задний бампер их машины удалялся от нее с сердитым выражение «лица».
Еще бы: ведь Вера с мужем вполголоса пререкались все утро дома и еще полчаса по дороге на работу. Да и расстались, в который раз не придя к компромиссу, твердо уверенные в своей правоте, каждый – в своей. Тема стара как мир: Вера, мол, горит на работе, не жалеет себя, принимает чужие проблемы куда ближе к сердцу, чем свои. Работает за двоих, и не только когда Наташа отсутствует – на курсах повышения квалификации, в отпуске или на больничном, а постоянно. Вера, конечно, цветущая красавица и все такое прочее, но годы-то идут, и здоровье не добавляется, а с таким режимом жизни – тем более.
Ну, может быть, кое в чем Сергей и был прав. Только Вера, по ее разумению, не совершала ничего экстраординарного, тем более, героического, а просто любила свою работу!
Очень любила и очень часто говорила об этом. И при этом места ни пафосу, ни романтике, ни пионерскому задору в ее речах не было. Потому что делала она это не в публичных выступлениях – такого случая до сих пор как-то не выпадало: вариации на тему «Я очень люблю свою работу и не поменяю ее ни на какую другую» чаще всего звучали в домашних разговорах, которые время от времени случались с мужем. К примеру, когда он пытался доказать ей преимущества научной деятельности по сравнению с практической гинекологией и намекал, что не худо было бы сменить роддом на институтскую кафедру. Когда увлеченно рисовал радужные перспективы врачебной деятельности в коммерческих медицинских центрах, о которой при этом имел самое поверхностное представление… Или когда Сергей просто высказывал что-нибудь похожее на утреннее недовольство по поводу частых дежурств и сосредоточенно-отсутствующего вида, с которым Вера ходила по дому уже несколько дней кряду. Она и в самом деле ходила: в отделении, в палате Веры Михайловны лежала очень трудная пациентка – каждый день ее беременности был… Вот именно – маленьким женским подвигом.
Вообще-то, откровенно говоря, на протяжении всей семейной жизни Вера Михайловна вынуждена была отстаивать собственное право заниматься любимым делом. Да, работа, в самом деле, трудная во всех смыслах: бывало тяжело физически, нелегко морально, порой невыносимо нервно, постоянно суетно. А еще – к счастью, иногда – даже обидно… Да и бессонные ночи врачей – это не красивая метафора, а скучная обыденность. И все-таки ни одна профессия в мире не приносила бы Вере такого яркого ощущения счастья. В этом она была абсолютно убеждена, потому что рождение ребенка – это именно счастье! Не удача, не производственное достижение, не научное открытие, не баснословная прибыль, не престижная награда, ЭТО – СЧАСТЬЕ! Ну-ка, кто еще каждый день работает со счастьем? Два шага вперед! А, то-то же…
Итак, Вера Михайловна открывала дверь приемного покоя и думала: «Доброе утро. Еще одно утро еще одной жизни…» И улыбка сама собой растягивала ее губы…
Да, случалось, – вот как сегодня – она приходила на работу уже усталая. Если бы Сергей хоть иногда задумывался: их распри выбивают из колеи куда сильнее, чем больничная текучка. Но в отделении усталость проходила сама собой. Очень уж всегда бодрила обстановка, да и контингент держал в тонусе.
Хотя здесь, в отделении патологии, выражение «в тонусе» в положительном смысле, как правило, не употребляют: на местном языке «тонус» – совсем не хорошо, тонус матки – это угроза выкидыша. А отделение патологии для того и существует, чтобы никакой угрозы ничему и никому не было…
Сняв пальто, переменив обувь на удобные туфельки, Вера Михайловна вышла из гардероба для медперсонала, мельком глянула в окно… И тут ее внимание привлекла интересная кавалькада, въехавшая во двор Большого Роддома. Первым на территорию ворвался, сделав крутой «полицейский разворот», милицейский газик с «мигалкой». Следом въехало такси. Если бы наоборот, то было бы понятно: таксист превысил скорость, за ним рванули бдительные «дпсники»… А тут было что-то не так. Вера прищурилась: ух ты! В окне такси совершенно определенно виднелась… чья-то белая меховая задница с пушистым круглым хвостом!
Передняя дверца машины открылась и из нее выскочила – батюшки-светы! – Лисичка-сестричка, с сильно загримированным, но очень хорошеньким личиком, высокая, фигуристая, с самым настоящим, пушистым лисьим хвостом, украшающим ярко-оранжевую стильную юбку… Из другой двери синхронно появился высокий плечистый Дед Мороз. Лисичка метнулась к милицейской машине и стала, кивая украшенной рыжими ушками головкой, судя по всему за что-то благодарить милиционеров… А Дед Мороз открыл дверцу с задницей и извлек оттуда ее… хм… обладателя, коим оказался невысокий, но очень упитанный Зайчик. Газик уехал, а Дед Мороз без особого усилия подхватил Зайца на руки и широкими шагами пошел к приемному покою. Лисичка семенила следом. Хвост, похоже, жил своей, увлекательно-кокетливой жизнью…
– Дверь открой, – не слишком любезным, но мелодичным сопрано скомандовала Лисичка подошедшему к двери чуть раньше человеку в белом халате. Тот послушно отворил входную дверь. Процессия прошествовала мимо врача, тот вошел замыкающим.
Вера, разумеется, этого не слышала. Но общая картина происходящего была ей и без этого ясна. «Так, кажется, нашего полку прибыло, – подумала Вера, – вряд ли роженица: на сносях Зайцами не скачут. Ладно, если к нам – познакомимся позже, когда начну обходить двенадцать моих палат…»
Владимир Николаевич Бобровский шел к приемному покою, не глядя по сторонам. Настроение у него было, как и давление, – ниже нормы. И так же, как давление, его уже можно было признать «рабочим». Вчера вечером и сегодня с утра несколько раз звонила бывшая жена Оля с разнокалиберными материальными требованиями: никак не могла смириться с решением суда, разделившего их совместно нажитое имущество. Причем, разделившего вполне по справедливости. Мало того, Бобровский судебную справедливость усугубил, добровольно расставшись с частью библиотеки, огромным диваном, всеми имевшимися сервизами и столовым мельхиором. Но вот машину отдавать по-прежнему не хотел. А бывшая жена, сроду не имевшая водительских прав и панически боявшаяся дороги, требовала отдать и ее.
На самом деле ей просто хотелось сбросить на бывшего мужа раздражение, которого скопилось очень много за эти полгода их жизни в статусе официального развода. Для Бобровского поведение жены было и понятно, и необъяснимо одновременно. В самом деле: какого черта? Сначала на протяжении примерно четырех лет инициировать развод, последние полгода жить в добровольной ссылке у родителей, а потом, добившись-таки своего, обвинять мужа в том, что он поломал ее жизнь. Да еще и требовать дополнительной компенсации в виде оставшегося семейного скарба!
Бобровский догадывался, что Оля давно изменяла ему. Впервые заподозрил, когда однажды жена устроила ему душераздирающую сцену ревности на ровном месте. Так бешено ревнуют только те, у кого совесть нечиста. А поводом был пустяк: как-то в универсаме случайно встретились со знакомой дамой из горздрава. Поздоровались, поулыбались – и все! Дама была очень симпатичная и довольно дельная, она нравилась Бобровскому. Но мало ли кто кому нравится!
…Если уж на то пошло, то по-настоящему ему нравилась Вера Стрельцова, его непосредственная подчиненная. Вот она – точно нравилась! И всегда, то есть с первой встречи, привлекала его как мужчину – между прочим, и своим мягким очарованием порядочной женщины, в том числе. Но, в первую очередь, конечно, чем-то другим. Красотой… Статью… Манерами: она всегда такая серьезная – на первый взгляд, а на самом деле на губах дремлет всегда готовая расцвести улыбка, а в глазах – юмор, а уж в ее умной головке всему хватает места: и профессиональным знаниям, и житейской мудрости. И еще – она добрая. А древние, которые никогда не трепались зря, утверждали: если женщина добра, она уже состоялась как женщина. Во всех смыслах… Или это не древние придумали, а сам Бобровский?… Неважно, это истина, и Вера ей – живое подтверждение.
Он шел, машинально здороваясь с проходившими мимо коллегами, привычно обозревая обычный для больницы интерьер: вереницу палат, украшенных розовыми табличками, холл с креслами и телевизором под потолком, на стенках – яркие плакаты с разнообразными полезными советами, многие украшены фото толстеньких, большей частью импортных карапузов и улыбающихся модельных матерей…
В приемном покое было, как обычно, людно и пестро. Но неожиданный «ай-стоппер» все же тормознул опущенный долу взгляд Владимира Николаевича: на скамейке так же понуро, как шел он сам, сидел Дед Мороз. Не удержавшись, Бобровский подошел к «старику»:
– Дедуля, а ты не рановато?
– Что? – переспросил от неожиданности «дед» и поднял на врача молодое веснушчатое лицо. – А… Я это…
– Снегурочку привез? – пришел на помощь Владимир Николаевич.
– Нет, – застенчиво улыбнулся ранний вестник Нового года, – Зайку. Коллегу, то есть. Вот, – и для пущей убедительности поднял за уши пустой меховой комбинезончик с хвостом.
– Здрасьте, доктор, – мелодичный голос заставил Бобровского обернуться. Даже сквозь густой фантазийный грим можно было разглядеть красавицу: большие светлые глаза, аккуратный носик, красивый ротик. Черное блестящее пятно на кончике носа и нарисованные над верхней губой, уходящие на щеки усики общего впечатления не портили.
– Здравствуй… Белочка, – осторожно ответил Владимир Николаевич на приветствие. Ошибся! Потому что красавица даже несколько обиделась:
– Я – Лисичка. Доктор, мы волнуемся, как там у нашей подруги дела. Может, ей что-то понадобится, мы ведь прямо с утренника сюда.
– А вот сейчас и узнаем, – заверил доктор и вошел в смотровой кабинет.
Лисичка присела рядом с Дедом Морозом:
– Слушай, а у нас же еще сегодня в 16.00 во Дворце железнодорожников утренник. Ладно, я на всякий случай Людке Колесовой позвоню, подменит Зойку.
Дед Мороз издал какое-то хрюканье:
– В Людке метр восемьдесят без каблуков. Заяц-мутант, блин…
Лисичка покосилась на коллегу:
– Ну и ладно, смешнее будет. Лишь бы тут, – она кивнула в сторону закрытой двери, – все в порядке было.
А за дверью врач приемного покоя заполняла карточку сидящей на кушетке мамочки. Бобровский, скрестив руки на груди, внимательно слушал и так же внимательно разглядывал молодую женщину. Хотя разглядеть было мудрено: большущий казенный халат скрывал небольшое тельце, а уж лица было и вовсе не разглядеть. Кроме глаз, конечно. Глаза – наивные, голубые, с наклеенными длинными ресницами, вполне подошли бы Мальвине, например. Однако два больших белых зуба, мастерски нанесенные рукой художника-гримера сразу под носом, не оставляли никаких сомнений: это – Заяц. Бобровский стоял и думал: как бы так изловчиться, да и сфотографировать этот персонаж на телефон, но чтобы мамочка не обиделась?…
– Сколько полных лет?
Заяц ответил вполне женским, чуть с хрипотцой голосом: