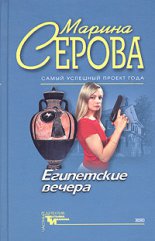Пусть льет Боулз Пол

— Не забуду.
У самих главных ворот на площадь Тами остановился и показал местное кафе сравнительно больше и вычурнее остальных, а внутри в нем ревело радио.
— Я иду сюда, — сказал он. — Когда только захотите меня увидеть, всегда сможете меня найти тут внутри. Через несколько дней поедем кататься на моей лодке. Прощайте.
Даер остался один на оживленной площади. С дальнего конца сквозь деревья несся бой барабанов, отбивавших сложный, хромой берберский ритм откуда-то с гор. Он нашел небольшой итальянский ресторан на улочке, отходившей от Соко, и безразлично поел. Несмотря на свое нетерпение вернуться на улицы и поискать бар «Люцифер», он расслабился с кофе эспрессо и выкурил две сигареты, прежде чем уйти. Являться туда слишком рано смысла не было.
Он смутно побрел вниз по склону, пока не наткнулся на улочку, которая, показалось ему, могла бы вести в нужную сторону. Мимо медленно гроздьями проходили девушки, сбившись вместе, словно бы для защиты, пялясь на него, но делая вид, что не смотрят. Легко было отличить евреек от испанок, хотя и те и другие выглядели и одевались одинаково: первые скакали, блуждали, ковыляли, чуть не падая на мостовую, словно никак себя не контролировали, и без всякого подобия изящества. А мусульманские женщины проталкивались мимо, как огромные белые тюки стирки, и откуда-то сверху у них выглядывал глаз. Впереди него под уличным фонарем собиралась толпа мужчин и мальчишек вокруг двух рассерженных юношей, каждый держал другого за лацканы на расстоянии вытянутой руки. Поза была формальна, будто замерзшая хореография. Они сверкали глазами, изрыгали оскорбления, рычали и делали угрожающие жесты свободными левыми руками. Он немного посмотрел; удара никто не нанес. Внезапно один дернулся прочь. Второй рванулся куда-то и, пока еще длилась последовавшая общая краткая беседа, вернулся откуда ни возьмись с полицейским — классический сценарий. Хранитель порядка раздвинул толпу и встал впереди Даера, очень мягко постукивая белой дубинкой по рукам и плечам. Даер рассмотрел его: на нем были форма американского солдата и металлическая каска, выкрашенная в белый. В белой кожаной кобуре он носил револьвер, тщательно обернутый в жатую бумагу, как подарок на Рождество. Словно фермер, понукающий своих лошадей, идущих за плугом, он тихо бормотал толпе:
— Э. Э. Э. Э.
И толпа медленно рассеялась, два противника уже растворились в ее глуби.
Медленно он пошел вперед, как ему показалось, в нужном направлении. Ему требовался всего один ориентир — и он на верном пути. Из индусских шелковых лавок лилось храмовое благоухание, целая берберская семья сидела на корточках в тени от небольшой горы апельсинов, механически выкрикивая цену за килограмм. А потом вдруг сразу начались темные улицы, и те немногие ларьки, что еще оставались открыты, были крохотными и освещались карбидными лампами или свечами. Один раз он остановил человека в европейской одежде и спросил:
— Бар «Люцифер»? — Шанс был невелик, и он, вообще-то, не ожидал полезного ответа.
Мужчина хрюкнул и показал в ту сторону, откуда Даер только что пришел. Он поблагодарил его и двинулся дальше. Довольно забавно так вот заблудиться; от этого у него возникло странное ощущение надежности — ощущение, что в это конкретное мгновение никто на свете никак не сумеет его найти. Ни его семья, ни Уилкокс, ни Дейзи де Вальверде, ни Тами, ни Юнис Гуд, ни мадам Жувнон и даже ни, наконец прикинул он, американское представительство. От мысли об этих двух последних он несколько упал духом. В этот миг он был дальше от свободы, чем вчера в это же время. Мысль привела его в ужас; она была неприемлема. Вчера в это время он выходил из дворца Бейдауи в хорошем настроении. Случился эпизод с котятами, который, как он сейчас прикидывал, похоже, на это хорошее настроение как-то повлиял. С ума сойти, но правда же. Он шел вперед, все меньше и меньше замечая, где он, и дальше прокручивал воспоминание о вчерашнем вечере, словно кинопленку, назад. Добравшись до холодного сада с каменной скамьей, где он сидел на ветру, он понял, что отыскал декорацию. Это случилось, пока он там сидел. Сказанное Холлэндом запустило его скорее в чувстве, не в мысли, но Холлэнд сказал недостаточно, не довел до конца. «Вот он я, и что-то произойдет». Никакой связи. Он сказал Холлэнду: «Вы тоже умрете, но пока же вы едите». Вообще никакой связи, однако все тут связано. Все это части одного и того же.
Сеялся мелкий дождик, холодный и пахнущий свежестью. Затем полило сильнее и решительней. У него был плащ. Если польет слишком сильно, он все равно промокнет, но это без разницы. Уже некоторое время улицы были почти пусты. «Трущобы, — подумал он. — Бедняки ложатся спать рано». Места, что он проходил, были как мучительные коридоры из снов. Невозможно считать их улицами и даже переулками. Там и сям между зданий имелись пространства, вот и все, и некоторые открывались в другие пространства, а некоторые нет. Если он отыскивал правильную череду связок, он мог переходить из одного места в следующее, но только сквозь сами здания. А здания, казалось, начинают существовать, как растения, хаотично, никуда не смотря, громоздкие сверху, одно вырастало из другого. Иногда он слышал отзвуки шагов, если кто-то проходил каким-нибудь склепообразным тоннелем, и звук зачастую замирал, а человек на глаза не показывался. Повсюду высились кучи мусора и отходов, кошки, чьи яростные вопли раздирали воздух, и эта вездесущая едкая вонь мочи: стены и мостовые все были в корке мочевого рассола. Он немного постоял тихо. Издалека, сквозь падающий дождь, подплыл перезвон колоколов. То часы на звоннице католической церкви в Сиагинах отбивали четверть. Впереди слабо ревело море, бившееся об утесы под бастионами. И пока стоял, он снова поймал себя на тех же вопросах, что задавал тем же днем раньше: «Что я тут делаю? Что произойдет?» Он даже не пытался найти бар «Люцифер»; это он уже бросил. Он пытался потеряться сам. Что означало, понял он, что прямо сейчас величайшая его задача — сбежать из клетки, обнаружить путь из ловушки для мух, взять в самом себе аккорд, который высвободит те качества, что способны преобразовать его из жертвы в победителя.
— Скверное это дело, — прошептал он себе.
Если он зашел так далеко, что, выйдя искать Хадижу, не стал прилагать все усилия к тому, чтобы найти место, а позволил себе час или около того спотыкаться в темноте по вонючим проходам вроде того, в котором сейчас стоял, значит пора брать себя в руки. А вот как именно? Мысль утешала — сказать, что возьмешь себя в руки. Она предполагала возможность вынудить перемену. Но между словами и делом лежала пропасть, от падения в которую тебя не удержат никакие твои знания, сила и мужество. Например, завтра вечером в это время он будет еще туже связан, сидя в квартире Жувнонов после ужина, с подготовленным для него каким-нибудь ничтожным планом действий. В каждый миг положение поражало его своей все большей нелепостью и несостоятельностью. У него не было желания заниматься такой работой, и его не интересовала помощь мадам Жувнон в ее деле.
Вместе с тем располагать деньгами было мило: удобно иметь возможность взять такси, когда идет дождь, а он устал и хочет домой; приятно зайти в ресторан и сперва посмотреть на левую сторону меню; забавно войти в лавку и купить Хадиже подарок. (Шкатулка с браслетом внутри выпирала в кармане его плаща.) Нужно сделать выбор. Но выбор уже сделан, и он чувствовал, что сделал его не он. Из-за этого ему было трудно поверить, что он морально с ним связан. Конечно, завтра вечером он может не появиться, но это ни к чему хорошему не приведет. Они его найдут, потребуют объяснений; вероятно, будут угрожать. Он мог бы даже вернуть деньги, обналичив аккредитивы, положив сто долларов обратно на счет и выписав чек на имя мадам Жувнон на пятьсот. Это сделать еще не поздно. Или же поздно — ей нужно только отказаться. Ее чек обналичили; это оставалось фактом, в банке записано.
Вдруг ему показалось, что он до какой-то степени может нейтрализовать причиненный им самим вред, сообщив о своих действиях в американское представительство. Он тихонько рассмеялся. Тогда у него возникнут неприятности, а к тому же не будет больше денег. Он знал, что таковы действия жертвы. Типично: жертва всегда сдается, если осмелиться мечтать об изменении своего состояния. Однако в этот миг перспектива была притягательна.
Прямо сейчас ему хотелось выбраться из этой мусорной кучи и оказаться дома в постели. Идя на шум моря, подозревал он, можно оказаться на какой-то определенной большой улице, которая поведет его внутри вдоль бастионов. Так он выйдет к морю. Оказалось, это сложнее, чем он думал, но в итоге ему удалось спуститься на улицы пошире. Здесь ходили люди; они всегда были не прочь показать, как выйти из марокканского квартала, даже под проливным дождем, а часто их и спрашивать не приходилось. В этом отношении их фундаментальная враждебность к немусульманам проявлялась ясно.
— Выход там, — окликали его дети на том языке, который знали. Таков был припев. Или, если он ломился внутрь: — Здесь не пройдете, — говорили они.
Он вышел на главную улицу напротив большой мечети. Немного за ней, на бастионах, высился клуб «Замок» (Открыто Всю Ночь… Подаются Лучшие Вина и Ликеры… Знаменитые Развлечения… Оркестр Гавайского Свинга Эрнесто), и из его открытых окон лился высокий тенор, вывший в микрофон.
Оттуда путь был прям и открыт для ветра с моря. Двадцать минут спустя он чертыхался перед входом в «Отель де ла Плая», звонил в колокольчик и колотил в стекло запертой двери, стараясь разбудить марокканца, спавшего в шезлонге по другую сторону. Когда тот наконец его впустил — укоризненно посмотрел на него, повторяя:
— S, s, s.
В его почтовом ящике вместе с ключом была записка. Он зашел к себе в номер, стянул мокрую одежду и шагнул в угол принять горячий душ. Горячей воды не было. Он растерся турецким полотенцем и влез в халат. Сидя на кровати, вскрыл записку. «Вы где это, к черту? — говорилось в ней. — Буду в девять завтра утром. Джек».
Даер отложил листок бумаги на ночную тумбочку и лег в постель, оставив окно закрытым. По звуку он мог сказать, что льет слишком сильно, открывать не стоит.
3
Эпоха чудовищ
15
За ночь ветер сменился, и погода улучшилась, принеся с собой сияющее небо и яркую луну. В постели у себя в «Атлантиде» Уилкокс винил в своей бессоннице несварение. Сны его были бурны и ломаны; ему приходилось шагать из дверей на улицу, кишевшую людьми, которые делали вид, что не обращают на него внимания, но он знал, что среди прохожих прячутся те, кто его ждал. Они схватят его сзади и втолкнут в темный переулок, а там ему никто не поможет. Всякий раз, просыпаясь, он оказывался на спине, дышатьбыло трудно, сердце стучало сбивчиво. Наконец он зажег свет и закурил. Полулежа на кровати, оглядывая комнату, казалось освещенную слишком полно, он успокаивал себя, доказывая, что никто не видел Даера у него в конторе, а стало быть, никто и не узнает, что деньги были при нем, когда он выходил из лавки Рамлала. Чтобы ясно рассмотреть ситуацию, он заставил себя признать, что у банды Ларби и впрямь имелись способы все выведывать. С тех самых пор как он обнаружил, что кошмарный Эль-Кебир вернулся после своего короткого срока в тюрьме Порта-Лиотэй (он заметил его на улице в тот самый день, когда оставлял Даера в конторе одного), страх, что кто-то из них может как-то узнать о связи Даера с ним, не шел у него из головы. Но на сей раз он был поистине осмотрителен; он не считал, будто они что-то знают. Только все должно быть сделано немедленно. С каждым проходящим часом все вероятнее, что они прослышат об этом замысле. Он не понимал, разумно ли было ему ходить в «Отель де ла Плая» и оставлять там записку, не лучше ли было просто звонить всю ночь, пока не застанет Даера. Интересно, не возбудились ли еще, случайно, подозрения англичан. Он начал задаваться всяческими вопросами, с каждым мигом чувствуя все меньше и меньше сонливости. «Чертов дзабальоне, — думал он. — Слишком жирный». И он встал принять мятной соды. У шкафчика с аптечкой вытряс из тюбика заодно и таблетку гарденала, но затем подумал, что от нее может проспать, а звонку портье снизу он не доверял. Они иногда ошибались, а ему настоятельно требовалось проснуться в восемь. Он снова лег и принялся читать редакционную страницу парижского «Хералда».
Примерно в это же время Дейзи де Вальверде проснулась, чувствуя необъяснимую нервозность. Луис на несколько дней уехал в Касабланку по делам, и хотя в доме полно было слуг, одной ей никогда не спалось хорошо. Она прислушалась, не внезапный ли шум вытащил ее из сна: слышался лишь нескончаемый шум моря у скал, так далеко внизу, что к уху будто поднесли раковину. Она открыла глаза. Комнату омывал яркий свет луны. Лился он с запада, но со всех сторон она видела сияние чистого ночного неба над водой. Соскользнув с кровати, она подошла и попробовала дверь в коридор, просто убедиться, что та заперта. Так и оказалось, и она вернулась в постель и натянула на себя лишнее одеяло, изводя себя фантазией, что она могла оказаться незапертой, что приоткрылась бы, когда она на нее нажала, и она бы увидела стоящего снаружи прямо перед ней огромного оборванного мавра с бородой, он бы злобно смотрел на нее, сощурив глаза. Она бы захлопнула дверь, но тут же поняла бы, что в щель тот просунул одну громадную ногу. Она бы навалилась на дверь изо всех сил, но…
«Я что, никогда не повзрослею?» — подумала она. Неужели никто не достигает той стадии, когда полностью себя контролирует, чтобы можно было думать то, что хочешь думать, чувствовать то, что хочешь чувствовать?
Тами вернулся домой поздно. Значительное количество трубок кифа, что он разделил с друзьями в кафе за весь вечер, вызвало в нем некую беспечность, поэтому в процессе раздевания он довольно сильно шумел. Младенец проснулся и взвыл, а киф, вместо того чтобы вынести его через недолгую область видений в сон, придал ему бодрости и одышки. В ранние утренние часы он слышал все до единого зовы к молитве с минарета ближайшей мечети Эмсалла и получасовые распевы, убеждавшие, что у правоверных все спокойно; всякий раз, когда в недвижном воздухе раздавался стреловидный голос, случался всплеск петушиной переклички. Наконец птица отказалась снова засыпать, и гомон ее на крышах домов стал непрерывным. Инстинктивно, ложась, Тами положил чек Юнис под подушку. На рассвете он на час уснул. Когда открыл глаза, жена шлепала повсюду босиком, а младенец снова орал. Он посмотрел на часы и крикнул:
— Кофе! — В банке он хотел быть до того, как тот откроется.
Даер некоторое время поспал урывками, ум его отягощался полумыслями. Около четырех он сел, чувствуя, что окончательно проснулся, и заметил яркость снаружи. Воздух в комнате был сперт. Он подошел к окну, открыл его и высунулся, рассматривая залитые лунным светом черты холмов на другой стороне гавани: ряд черных кипарисов, дом, бывший крохотным кубиком сияющей белизны на полпути между узким пляжем и небом, посреди мягкой бурой пустоши склона. Все это было выписано со скрупулезным тщанием. Он вернулся в постель и забрался под теплые покрывала. «Никуда не годится», — сказал он себе, думая, что если и дальше будет себя так чувствовать, то уж лучше навсегда остаться жертвой. По крайней мере, он будет себя чувствовать собой, а вот в данный момент слишком уж сознает давление этого чуждого присутствия, требующего, чтобы его выпустили. «Не годится. Не годится». Изнывая, он перевернулся. Вскоре свежий воздух, поступавший в окно, усыпил его. Когда он снова открыл глаза, комната пульсировала светом. Вышло солнце, огромное и ясное в утреннем небе, и его сияние дополнялось водой, отбрасываемой на потолок, где она шевелилась пламенем. Он вскочил, встал у окна, потянулся, почесался, зевнул и улыбнулся. Если вставать достаточно рано, размыслил он, можно успеть на борт дня и ехать на нем легко, а иначе он обгонит тебя и придется по ходу толкать его самому перед собой. Но как ни сделаешь, вы с днем вместе сойдете во тьму, снова и снова. Перед открытым окном он принялся делать приседания. Много лет он жил незаметно, не замечая себя, сопровождая дни автоматически, преувеличивая усилия и скуку дня, чтобы ночью дать себе сон, а сон использовал для предоставления себе энергии пережить следующий день. Обычно он не утруждался говорить себе: «Тут только это, больше ничего; отчего же стоит это преодолевать?» — потому что чувствовал, что на такой вопрос ответить нельзя никак. Но в этот миг ему казалось, что он нашел простой ответ: удовлетворение оттого, что он может это преодолеть. Если посмотреть с одной стороны, это удовлетворение — ничто, а если с другой — оно было всем. По крайней мере, таково ему было тем утром; достаточно необычайно, чтобы он дивился решению.
От ясности воздуха и силы солнца он под душем засвистал, а когда брился — отметил, что очень проголодался. Уилкокс явился без пяти девять, тяжко забарабанил в дверь и сел, отдуваясь, на стул у окна.
— Ну, сегодня великий день, — сказал он, пытаясь выглядеть и небрежно, и жовиально. — Очень не хотелось поднимать вас в такую рань. Но лучше сделать все как можно быстрее.
— Что сделать? — сказал Даер в полотенце, вытирая лицо.
— Деньги Эшкома-Дэнверза тут. Вы их забираете у Рамлала в «Креди Фонсье». Помните?
— А! — Лишнее и неприятное усложнение дня. Недовольство просквозило у него в голосе, а Уилкокс заметил.
— Что такое? Дела мешают вашей светской жизни?
— Нет-нет. Ничего такого, — сказал Даер, причесываясь перед зеркалом. — Мне просто интересно, почему мальчиком на побегушках вы выбрали меня.
— В каком смысле? — Уилкокс выпрямился на стуле. — Уже десять дней назад мы вроде договорились, что разгрузите меня от этого поручения. Вы скандалили и требовали начать работу. А я вам даю первое конкретное задание — и вы меня спрашиваете, почему я вам его даю! Я попросил вас это сделать, потому что мне очень поможет, вот почему!
— Ладно, ладно, ладно. Я же не возражаю, правда?
Уилкокс заметно успокоился.
— Но боже ж ты мой, какое-то вывихнутое у вас ко всему этому отношение.
— Вы так считаете? — Даер встал на солнце, глядя на него сверху вниз, по-прежнему причесываясь. — А может, все это — вывихнутое.
Уилкокс собрался заговорить. Затем, передумав, решил дать Даеру высказаться до конца. Но что-то у него на лице, должно быть, предупредило Даера, потому что он не стал продолжать и упоминать британские валютные ограничения, как собирался, чтобы только позволить Уилкоксу понять, что под «вывихнутым» он имел в виду «незаконное» (поскольку Уилкокс, похоже, считал, будто он пребывает в невежестве относительно даже этой детали), сказал просто:
— Ну, много времени это не должно занять, во всяком случае.
— Пять минут, — сказал Уилкокс, вставая. — Кофе пили? — (Даер покачал головой.) — Тогда пойдемте.
— Господи, ну и солнце! — воскликнул Даер, когда они вышли из гостиницы. То было первое ясное утро, что он здесь видел, оно творило вокруг него новый мир, словно выходишь на дневной свет после нескончаемой ночи. — Принюхайтесь только, — сказал он, остановившись постоять, положив руку на ствол пальмы, лицом к пляжу, слышимо сопя носом.
— Да бога ради, пойдемте же! — вскричал Уилкокс, подчеркнуто продолжая идти как можно быстрее. Он поддался своему раздражению.
Даер догнал его, с любопытством глянул; он не знал, что Уилкокс такой нервный. А Уилкокс, в нетерпении делая широкие шаги, наступил в собачьи отходы и, поскользнувшись, грохнулся на мостовую в полный рост. Поднимаясь, еще даже не встав, он рявкнул Даеру:
— Валяйте, смейтесь, черт бы вас побрал! Смейтесь!
Но Даер лишь озабоченно смотрел на него. В такой ситуации не до смеха. (Внезапное зрелище человека, лишившегося достоинства, никак не казалось ему ни смехотворнее, ни нелепее тех постоянных усилий, что требовались для поддержания этого достоинства, как и само состояние человечности в этом, казалось, бесспорно бесчеловечном мире.) Однако нынешним утром, чтобы быть любезным, он улыбнулся, помогая отряхнуть пыль с пальто Уилкокса.
— Прилипло? — резко спросил Уилкокс.
— Не-а.
— Ну, пойдемте же, черт побери.
Они зашли выпить кофе в то место, где Даер накануне завтракал, но садиться Уилкокс не пожелал.
— У нас нет времени.
— У нас? А вы куда?
— Назад в «Атлантиду», как только пойму, что вы действительно идете к Рамлалу, а вовсе не на пляж загорать.
— Я уже туда иду. Не волнуйтесь за меня.
Они дошли до дверей.
— Ну, тут я вас оставлю, — сказал Уилкокс. — Вы все поняли?
— Не волнуйтесь за меня!
— Когда закончите, приходите в гостиницу. Тогда и позавтракаем.
— Прекрасно.
Уилкокс двинулся вверх по склону, чувствуя себя изможденным. Добравшись до «Атлантиды», он разделся и снова лег в постель. У него будет время подремать до прихода Даера.
Идя по Авениде де Эспанья вдоль пляжа к старой части города, Даер забавлялся мыслью заглянуть в американское представительство и выложить им всю историю мадам Жувнон. Но кем окажутся эти «они»? Какая-нибудь личность из «Светского альманаха»[91] с лоснящимися щеками, кто поначалу будет едва слушать его, а затем уставится на него неприязненно, холодно задаст несколько вопросов, запишет ответы. Он воображал, как входит в безукоризненный кабинет, ему сердечно жмут руку, предлагают присесть на стул перед конторским столом.
— Доброе утро. Чем я могу вам помочь?
Долгая заминка.
— Ну, как бы трудно сказать. Я не очень понимаю, как вам сообщить. По-моему, я впутался в неприятности.
Консул или вице-консул вопросительно на него посмотрит.
— По-вашему? — Пауза. — Быть может, вам лучше начать с того, что сообщить мне, как вас зовут. — После чего Даер сообщит ему не только, как его зовут, но и всю дурацкую историю о том, что случилось вчера в полдень в «Ампире». Человека это, похоже, заинтересует, он кашлянет, положит руку на стол, скажет: — Во-первых, давайте взглянем на чек.
— У меня его нет. Я положил его в банк.
— Это была блестящая мысль! — Сердито: — Так работы у нас раз в десять больше.
— Ну, мне нужны были деньги.
Голос человека станет неприятным.
— О, вам нужно были деньги, вот как? Вы открыли счет и что-то сняли с него, так?
— Верно.
Что он скажет тогда?
— А теперь струсили и хотите удостовериться, что у вас не будет неприятностей.
Даер вообразил, как его собственное лицо заливается жаром смущения, пока он говорит:
— Ну, тот факт, что я сюда пришел сообщить вам об этом, должен вроде бы доказывать, что я хочу поступить правильно.
Второй ему скажет:
— Мистер Даер, не смешите меня.
К чему приведет его такое вот собеседование? Помимо того что его сделают объектом подозрения на весь остаток его пребывания в Международной зоне, чего именно добьется представительство?
Начав подниматься по пандусу, ведшему к стоянке такси перед клубом «Замок», он миновал дверной проем, где на солнце лежали собака и кошка, обе взрослые, лениво заигрывая друг с другом. Он остановился и немного понаблюдал за ними в обществе нескольких прохожих — все они полунедоверчиво, довольно улыбались. Как будто без их ведома это зрелище служило доказательством, что враждебность не есть неизбежный закон, управляющий существованием, что прекращение боевых действий по крайней мере представимо. Он прошел вверх по улице под жарким утренним солнцем через Соко-Чико к лавке Рамлала. Дверь была заперта. Он вернулся на Соко, в кафе «Сентраль», и позвонил Уилкоксу, стоя у барной стойки возле кофейной машины, а все официанты его толкали.
— Еще не открыто! — воскликнул Уилкокс, после чего умолк. — Что ж, — наконец сказал он, — погуляйте там, покуда не откроется. Больше ничего не поделать. — Он снова умолк. — Но бога ради, не околачивайтесь перед лавкой! Просто проходите мимо каждые пятнадцать-двадцать минут и быстро поглядывайте.
— Хорошо. Хорошо.
Даер повесил трубку, заплатил бармену за звонок и вышел на площадь. Было без двадцати десять. Если Рамлал еще не открылся, чего ради ему открываться в половину одиннадцатого или в одиннадцать? «Ну его к черту», — подумал он, легким шагом направляясь еще раз в сторону лавки.
Она была по-прежнему закрыта. Это для него все и решило. Он спустится на пляж и какое-то время полежит на солнышке. Такую мысль ему в голову вложил Уилкокс. Нужно будет только снова подняться сюда незадолго до половины первого, когда закрывается «Креди Фонсье». Сначала он зашел и выпил кофе с несколькими ломтями тоста с маслом и клубничным конфитюром.
Пляж был плосок, широк и бел, изгибался идеальным полукругом к мысу впереди. Он пошел по полосе твердого песка, обнаженного отступившей водой; тот служил небу влажным и лестным зеркалом, усиливая его яркость. Оставив за спиной полмили или около того заколоченных купальных кабинок и баров, он снял ботинки и носки и закатал брючины. До сих пор пляж был совершенно пуст, но спереди приближались две фигуры с осликом. Когда они подошли ближе, он увидел, что это две старухи-берберки, одетые так, словно погода была нулевой, в красно-белую полосатую шерсть. На него они не обратили внимания. Здесь, где за береговой линией не было никаких холмов, дул пронизывающий ветерок, остужал все поверхности, не попавшие на солнце. Перед собой он теперь видел несколько крохотных рыбачьих лодок на берегу, лежавших бок о бок. Он подошел к ним. Их бросили тут давно: дерево сгнило, в корпуса набился песок. Ни признака человека ни в одну сторону. Две женщины и ослик ушли с пляжа, скрылись за дюнами в глубине суши и пропали. Он разделся и сел в лодку, полупогребенную. Песок заполнил весь нос и покато сходил к центру лодки, образуя идеальный топчан, обращенный к солнцу.
Снаружи мимо дул ветер; а здесь, внутри, не было ничего, кроме биения жаркого солнца о кожу. Даер немного полежал, остро сознавая долгожданную жару, в состоянии самонаведенной неги. Когда он смотрел на солнце, глаза его зажмуривались почти накрепко, он видел, как паутины кристаллического огня ползут по узкому зазору между прищуренными веками, а его ресницы заставляли мохнатые лучи света вытягиваться, сокращаться, вытягиваться. Давно не лежал он голым на солнце. Он вспомнил, что, если задержаться надолго, лучи выгонят из головы все мысли. Этого ему и хотелось, испечься насухо и жестко, ощутить, как парообразные заботы одна за другой улетучатся, наконец понять, что все влажные мелкие сомнения и раздумья, покрывавшие пол его существа, сморщиваются и издыхают в печном пекле солнца. Постепенно он забыл обо всем этом, мышцы его расслабились, и он слегка задремал, то и дело просыпаясь, чтобы приподнять голову над источенным червями планширем и оглядеть пляж. Никого не было. Наконец он прекратил делать и это. В какой-то момент перевернулся и улегся ниц на отвердевшем песке, чувствуя, как ему на спину опускается горящее покрывало солнца. Мягкий, размеренный лязг волн был как дальнее дыхание утра; звук просеивался сквозь мириады полостей воздуха и достигал его ушей с большим запозданием. Когда он снова повернулся и посмотрел прямо на небо, оно показалось дальше, чем он вообще раньше видел. Однако Даер чувствовал себя очень близко к себе, вероятно, потому, что, для того чтобы почувствовать себя живым, человек сперва должен прекратить думать о себе как об идущем куда-то. Должна совершиться полная остановка, все цели — забыты. Голос говорит: «Подожди», — но он обычно не слушает, потому что если станет ждать — может опоздать. Затем, опять-таки если впрямь станет ждать, может случиться так, что он поймет: когда снова тронется с места, окажется, что он идет в другом направлении, а эта мысль тоже пугает. Потому что жизнь — не движение к чему-то или от чего-то: даже не от прошлого к будущему, не от юности к старости, не от рождения к смерти. Вся жизнь не равняется сумме ее частей. Она не равняется никакой части; суммы не существует. Взрослый человек в жизнь вовлечен не больше новорожденного; его единственное преимущество в том, что ему иногда перепадает осознавать субстанцию этой жизни, и если он не дурак — причин или объяснений искать не станет. Жизни не требуется разъяснение, не требуется оправдание. С какой бы стороны ни осуществлялся подход, результат одинаков: жизнь ради жизни, запредельный факт отдельного живого человека. Тем временем — ешь. И вот он, лежа на солнце и чувствуя близость с самим собой, знал, что он там, и радовался этому знанию. Он мог притвориться, если бы понадобилось, американцем по имени Нелсон Даер, с четырьмя тысячами песет в кармане пиджака, брошенного на банку в корме лодки, но он знал бы, что это далекая и незначительная часть всей правды. Перво-наперво он был человеком, лежавшим на песке, покрывавшем дно развалившейся лодки, человеком, чья левая рука была в дюйме от нагретого солнцем корпуса, чье тело вытесняло данное количество теплого утреннего воздуха. Все, о чем он когда-либо думал или что делал, думалось и делалось не им, а членом огромной массы существ, которые действовали так лишь потому, что были на пути от рождения к смерти. Он членом больше не был: приняв решение, он не мог рассчитывать ни на чью помощь. Если человек никуда не направляется, если жизнь — что-то другое, совершенно отличное, если жизнь — вопрос бытия и на долгий продолжительный миг все это — одно, то лучшее для него — расслабиться и просто быть, а что бы ни случилось, он все равно есть. Что бы человек ни думал, ни говорил или ни делал, факт его бытия оставался неизменным. А смерть? Даер чувствовал, что однажды, если подумает достаточно далеко, он откроет, что и смерть ничего не меняет.
Приятной ванны смутных мыслей, в которой отмокал его разум, уже не хватало, чтобы поддерживать в нем дрему. С некоторым усилием он приподнял голову и повернул к себе запястье посмотреть, который час. Десять минут первого. Он вскочил, быстро оделся, кроме носков и ботинок, и двинулся обратно по пляжу, по-прежнему пустынному. Хоть и шел он так быстро, что болезненно запыхался, когда добрался до первых зданий, было уже без четверти час. «Креди Фонсье» уже закроется; задание придется выполнять после обеда. Он поравнялся с «Отелем де ла Плая», пересек пляж, взобрался по ступеням на улицу и вошел босиком. Мальчик за стойкой портье вручил ему записку. «Звонил Джек; он сходит с ума», — подумал он, глядя на клочок. Но там говорилось: «Sr. Doan, 25–16. Immediatemente».[92] По-прежнему полагая, что это, вероятно, Уилкокс неистово дозванивается до него, может из конторы, или из дому, или еще откуда-то, он дал мальчику номер и встал, постукивая пальцами по стойке, пока не соединили.
Он взял трубку и услышал мужской голос:
— Американское представительство.
Тихонько Даер повесил трубку и, не объясняя ничего мальчику, отошел и сел в углу, где надел носки и ботинки. Аккуратно завязав второй шнурок, он откинулся на спинку и закрыл глаза. Под пальцами обеих рук он ощущал гладкое скошенное дерево подлокотников. Мимо медленно проехал грузовик, треща выхлопом. В вестибюле слабо пахло хлоркой. Первые несколько минут он не чувствовал ни спокойствия, ни тревоги; его парализовало. Открыв глаза, он подумал едва ли не с торжеством: «Так вот оно, значит, как». И тут же вслед, уже вторично в тот день, осознал, что до крайности проголодался. У него не было плана действий; ему хотелось поесть, хотелось покончить с этим делом Рамлала и сообщить Уилкоксу, что все закончено. После, в зависимости от того, каково ему будет, он может позвонить мистеру Доуну в представительство и узнать, чего тому надо. (Его утешало думать: нет уверенности в том, что звонок связан с чепухой Жувнон; вообще-то, в какие-то моменты он был уверен, что дело тут вовсе не в этом.) Но что касается ужина в квартире мадам Жувнон…
Он вскочил и крикнул мальчика, скрытого стойкой.
— Такси! — воскликнул он, показывая на телефон.
Подошел к двери и встал, глядя вдоль проспекта, стараясь придать себе больше уверенности раздумьями о том, что, возьмись они разбираться с этим грубо, не начинали бы звонить. Но затем он вспомнил, что ему говорила среди прочего Дейзи: Зона настолько мала, что полиция вообще способна сцапать любого за несколько часов. Представительство может сидеть себе и быть учтивым, по крайней мере — пока не убедятся, как именно он намерен это разыграть.
По боковой улочке из города сверху подкатило такси, поравнялось со входом. Он поспешно сел и, нагнувшись с заднего сиденья, направил его по Авениде де Эспанья к подножию Медины.
* * *
День длился; город нежился в жарком ярком воздухе. Около полудня на горе, в розовом саду виллы «Геспериды», Дейзи де Вальверде занималась небольшой прополкой. Затем, когда усталость взяла свое, она велела разложить у бассейна резиновый матрас и легла на него в купальнике. Слишком редки были такие дни зимой в Танжере. Когда Луис вернется из Касабланки, она с ним снова серьезно поговорит насчет Египта. Каждый год после войны часть зимы они проводили в Каире, Луксоре или Вади-Хальфе, но в этом году почему-то не собрались с силами поехать. Потом она попробовала в последний миг раздобыть номер в «Мамунии» в Марракеше, а обнаружив, что это невозможно, задумала присвоить бронь мадам Уэрт, обосновывая тем, что в любом случае дама эта, вечно хворавшая, скорее всего, не сможет ею воспользоваться, когда придет время. Этот маленький план, конечно, оказался расстроен взбесившим ее поведением Джека Уилкокса.
«На самом деле он довольно мил», — сказала она себе, думая не о Уилкоксе, а о Даере. Вскоре поднялась, вошла в дом и позвонила Марио.
— Дозвонитесь мне до «Отеля де ла Плая», — сказала она.
Уилкокс ушел в «Атлантиду», разделся и лег в постель. Там, несмотря на тревогу из-за передачи фунтов Эшкома-Дэнверза, он глубоко заснул наконец, изможденный оставшейся позади бессонной ночью. Проснулся в двадцать пять минут второго (как раз когда Даер входил в лавку Рамлала), увидел, сколько времени, и в ярости позвонил вниз узнать, что произошло. Когда что-то шло не так, виноват обычно бывал какой-нибудь служащий за стойкой.
— Мне звонили? — резко спросил он; молодой человек не знал; он только в час заступил на смену. — Ну так посмотрите у меня в ячейке! — закричал Уилкокс; молодой человек засуетился; он начал читать ему записку человеку в номере этажом ниже. — Ох боже ты мой всемогущий! — завопил Уилкокс, оделся и спустился к портье проверить лично.
Его ячейка была пуста. Он ничего не мог поделать, поэтому юношу за стойкой просто отчитал и зашел в бар — мрачно сидеть с виски и время от времени кратко мыкать в ответ на спорадическую болтовню бармена, думая, мог ли Даер прийти, представиться у стойки и получить ответ, что мистер Уилкокс вышел.
16
Несколько вспотев после быстрого подъема от порта, Даер шагнул с желтого зарева улицы во тьму лавки. Молодой Рамлал читал газету; он сидел, болтая ногами, на высоком столе, который был единственным предметом мебели в крохотной комнате. Когда он поднял взгляд, черты его гладкого лица не выразили никакого узнавания, но он соскочил и сказал:
— Доброе утро. Я рассчитывал, вы придете раньше.
— Ну, я заходил дважды, но вы были закрыты.
— А, слишком рано. Желаете сигарету?
— Спасибо.
Швырнув на стол зажигалку, индиец продолжил:
— Я ждал вас. Видите ли, я не мог оставить пакет здесь и не хотел носить его с собой, когда пойду обедать. Если бы вы не пришли, я бы ждал. Поэтому видите, я вам рад.
— Ох, — сказал Даер. — Простите, что заставил вас ждать.
— Ничего, ничего. — Рамлал, довольный, что выжал извинение, вытащил из брюк ключ и отпер ящик стола. Оттуда он вынул большую картонную коробку, помеченную: «Консул. Двадцать банок по пятьдесят. Смесь высококачественных выдержанных табаков, выращенных в Виргинии». — Я бы не советовал считать здесь, — сказал он. — Но вот они. — Он открыл коробку, и Даер увидел стопки тонкой белой бумаги. Затем Рамлал быстро закрыл крышку, как будто даже таким быстрым доступом воздуха можно было испортить ее нежное содержимое. Оберегающе возложив тонкую смуглую руку на коробку, он продолжал: — Их, конечно, сосчитал мой отец в Гибралтаре, и я пересчитал еще раз вчера вечером. Следовательно, могу вас заверить, что в коробке одна тысяча восемьсот пятифунтовых банкнот. Если желаете пересчитать сейчас, все в порядке. Но… — Он выразительно махнул в сторону уличной суеты, происходившей всего в нескольких шагах от них, и улыбнулся. — Нипочем не знаешь, понимаете.
— Ох, черт. Это не важно. — Даер пытался выглядеть дружелюбно. — Поверю вам на слово. Если какая-то ошибка, мы, наверное, знаем, где вас найти.
Второй, по виду слегка обидевшись, когда услышал последнюю фразу, отвернулся и вытащил большой лист сияющей сине-белой оберточной бумаги со словами «Галереи Лафайетт», напечатанной на ней через равные интервалы. С профессиональной сноровкой он сделал симпатичную упаковку и перевязал куском безупречной белой бечевки.
— Вот, прошу, — сказал он, отходя на шаг и слегка кланяясь. — И когда будете писать мистеру Эшкому-Дэнверзу, пожалуйста, не забудьте передать ему привет от моего отца и мое почтение.
Даер поблагодарил его и вышел на улицу, крепко держа сверток. Полдела, во всяком случае, сделано, подумал он. Когда он съест что-нибудь, «Креди Фонсье» откроется. Он прошагал по Соко-де-Фуэре к итальянскому ресторану, где ел накануне вечером. Связки больших замызганных белых купюр совсем не походили на деньги; цвет у денег — зеленый, и настоящие банковские билеты малы и удобны. Для него не было новым ощущение держать в руках крупную сумму банкнот, которые ему не принадлежали, так что мысль об ответственности не вызывала у него недолжной нервозности. В ресторане он положил сверток на пол у своей ноги и за едой время от времени поглядывал на него. Не когда-нибудь, а сегодня, думал он, ему хотелось бы стать свободным, взять напрокат небольшой автомобиль со складным верхом, быть может, и выехать на природу с Хадижей, а еще лучше — прыгнуть на поезд и просто ехать в Африку, до конца линии. (А оттуда? Африка — большая, она сама что-нибудь предложит.) Он даже удовольствовался бы еще одним паломничеством на пляж и на сей раз вошел бы в воду и немного размялся. Вместо этого лучшая часть дня будет занята визитами в «Креди Фонсье» и отель «Атлантиду», а Уилкокс найдет к чему придраться и наорет на него, как только узнает, что деньги благополучно в банке. Он решил сказать ему, что проходил мимо лавки Рамлала и видел, что она закрыта, три раза, а не два.
В несколько минут третьего он встал, взял сверток и расплатился по счету с коренастой patronne,[93] стоявшей за стойкой бара у двери. Выйдя на ослепительный солнечный свет, немного пожалел себя в такой день за взятые обязательства. Когда он дошел до «Креди Фонсье», двери его были открыты, и он вступил в затрапезный сумрак его публичного зала. За железной решеткой окошек виднелись счетоводы, сидевшие на высоких табуретах за своими хаотичными столами. Он двинулся вверх по щербатой мраморной лестнице; его позвал обратно марокканец в форме.
— Мистер Бензекри, — сказал он.
Марокканец пропустил его, но посмотрел вслед с подозрением.
Темно-желтые стены маленького кабинета были обезображены ржавыми пятнами, что чудовищно расползлись от потолка до пола. Мистер Бензекри сидел в громадном черном кресле и выглядел еще печальнее, чем при их встрече в кафе «Эспанья». Он очень медленно кивал, разворачивая коробку, словно говоря: «Ах да. Опять считать эти грязные бумажки и заниматься ими». Но, увидев тщательно перевязанные пачки внутри, он резко взглянул на Даера:
— Пятифунтовые? Мы не можем их принять.
— Что? — Громкость собственного голоса удивила Даера. — Не можете принять? — Он увидел, как пускается в нескончаемую череду походов между раздражительным Уилкоксом и улыбчивым Рамлалом.
Тем не менее мистер Бензекри был очень спокоен.
— Пятифунтовые купюры, как вам известно, здесь вне закона. — Даер собирался его перебить, возмущенно апеллируя к собственному незнанию, но мистер Бензекри, уже оборачивая коробку сине-белой бумагой, продолжил: — Шокрон вам это обменяет. Даст вам песеты, и мы купим их за фунты. Мистер Эшком-Дэнверз, конечно, желает фунтов на своих счетах. На обмене он потеряет в два раза больше, но уж простите. Эти купюры в Танжере нелегальны.
Даер по-прежнему не понимал.
— Но отчего вы решили, что этот человек… — замялся он.
— Шокрон?
— …С чего вы взяли, что он станет покупать нелегальные платежные средства?
Слабая краткая усмешка тронула меланхоличные губы мистера Бензекри.
— Он их возьмет, — тихо сказал он. И вновь откинулся на спинку, глядя прямо перед собой, точно посетитель уже вышел. Но затем, пока Даер забирал опять аккуратно перевязанный сверток, он сказал: — Постойте, — подался вперед и накарябал в блокноте несколько слов, вырвал листок и протянул ему. — Отдайте это Шокрону. Возвращайтесь до четырех. В четыре мы закрываемся. Адрес на верху листка.
«Много мне от этого пользы!» — подумал Даер. Он поблагодарил мистера Бензекри и спустился, вышел на Соко-Чико, где опускали полосатую маркизу над террасой кафе «Сентраль», чтобы защитить посетителей от жаркого дневного солнца. Там он подошел к местному полицейскому, важно стоявшему в центре пласы, и спросил, как ему пройти к калье Синагога. Та была поблизости: вверх по главной улице и налево, так он понял по жестам. Вся надежда сходить на пляж пропала. Следующий солнечный день, как этот, может случиться еще через две недели; нипочем не скажешь. Про себя он выругал Рамлала, Уилкокса, Эшкома-Дэнверза.
Контора Шокрона располагалась на вершине лестничного пролета, в захламленной комнатенке, выступавшей над узкой улочкой снизу, и седобородый Шокрон, смотревшийся очень солидно в длинном черном одеянье и ермолке, которые носили в здешнем обществе евреи постарше, просиял, прочтя записку Бензекри. По-английски вместе с тем он почти не говорил.
— Покажи, — сказал он, тыча в коробку, которую Даер открыл. — Сядь, — предложил Шокрон, снял с коробки упаковку и быстро принялся считать купюры, время от времени увлажняя палец кончиком языка.
«Они с Бензекри, вероятно, жулики», — тягостно подумал Даер. Но все равно ценность фунта в песетах объявлялась на грифельных досках каждые несколько шагов вдоль по улице; обменный курс не мог слишком отклоняться. А может, и мог, если фунты нелегальны. Даже если сами купюры имели силу, само их присутствие здесь было результатом нарушения закона; не было никакой возможности обратиться к властям, какие бы курсы обмена ни пришли в голову Шокрону и Бензекри. Внизу на улицах долгие крики медленно проходившего мимо торговца сластями звучали как религиозные распевы. Умелые пальцы мистера Шокрона продолжали перебирать уголки банкнот. Иногда он поднимал какую-нибудь к свету, поступавшему через окно, и, прищурившись, рассматривал. Покончив с пачкой, он скрупулезно вновь ее обвязывал, ни разу не посмотрев на Даера. Наконец сложил все пачки обратно в коробку и, взяв клочок бумаги, который ему прислал мистер Бензекри, перевернул его и написал на обратной стороне: 138 песет. Бумажку он подвинул Даеру и уставился на него. То было немного выше уличного курса, который колебался от 133 до 136 за фунт. По-прежнему подозревая, кривясь и жестикулируя, Даер сказал:
— Что вы делаете с такими деньгами? — (Похоже было, что Шокрон понимает по-английски больше, чем говорит.)
— Палестина, — лаконично ответил он, показав за окно.
Даер начал умножать 138 на 9000, просто развлечения ради. Затем выписал цифры: 1, 4, 2 — и передал бумажку обратно — посмотреть, какой будет реакция. Шокрон залопотал по-испански, и легко было видеть, что у него нет намерения так повышать. Где-то в потоке слов Даер уловил фамилию Бензекри; это, а также мысль, что сто сорок две — это слишком много песет на фунт, было единственным, что он ухватил из монолога. Тем не менее он разогревался для игры. Если сидеть спокойно, подумал он, Шокрон поднимет свое предложение. Заняло какое-то время. Шокрон вытащил записную книжку из ящика стола и принялся за серию сложных арифметических упражнений. В какой-то момент он извлек маленькую серебряную коробочку и сделал понюшку каждой ноздрей. Подчеркнуто убрал ее и продолжил работу. Даер пристукивал правым носком по красным плиткам пола, отбивая марш, ждал. Здесь можно менять цену чего угодно, утверждал Уилкокс, если умеешь это делать, и первейшие достоинства в деле — терпение и напускное безразличие. (Он вспомнил анекдот Уилкокса о марокканском селянине на почте, который пять минут пытался купить семидесятипятисентимовую марку за шестьдесят сентимо и отвернулся оскорбленный, когда почтовый служащий отказался с ним торговаться.) В этом случае безразличие было более чем притворным: он не был заинтересован в сбережении Эшкому-Дэнверзу нескольких тысяч песет. Это была игра, и только. Он попробовал вообразить, каково ему было бы в этот миг, будь деньги его собственные. Вероятно, вообще не хватило бы мужества на попытки торговаться. Есть разница между игрой с деньгами, которые не настоящие, и с настоящими. Но в данный момент ничто не было настоящим. Маленькая комната, загроможденная старой мебелью, бородатый человек в черном напротив него, механически пишущий цифры в тетрадке, золотой свет увядающего дня, уличные звуки чьей-то жизни за окном — все это было проникнуто необъяснимым свойством неуверенности, что отнимало у них знакомое ощущение спокойствия, содержавшегося в самой мысли о реальности. Превыше прочего он сознавал нелепость собственного положения. В уме у него не было сомнения, что звонок из американского представительства как-то связан с предполагаемым разбирательством насчет мадам Жувнон. Если он пренебрежет и звонком, и приглашением на ужин, к завтрашнему дню его начнут дергать с обеих сторон.
С каждым днем по мере его прохождения Даер чувствовал себя немного дальше от мира; неизбежно было, что в какой-то момент ему следует предпринять добровольное усилие и снова поместить себя в гущу его. Чтобы оказаться способным полностью поверить в реальность обстоятельств, в которых оказывается человек, он должен чувствовать, что они как-то соотносятся, пусть и отдаленно, с другими известными ему ситуациями. Если он не может отыскать эту связь, он отрезан от того, что снаружи. Но поскольку его внутреннее ощущение ориентированности зависит от точности в должном функционировании, по крайней мере — в его собственных глазах, — внешнего мира, он произведет любую подгонку, сознательно или же иначе, чтобы восстановить ощущение равновесия. Он — инструмент, стремящийся приспособиться к новой наружности; он должен вновь свести эти незнакомые контуры более-менее в фокус. А наружность теперь была очень далеко — так далеко, что ножка стола Шокрона могла оказаться чем-то, рассматриваемым в телескоп из обсерватории. У него было такое чувство, что, если сделает ужасное усилие, — сможет вызвать какую-то перемену: либо ножка стола исчезнет, либо, если останется, он сумеет понять, что означает ее присутствие. Он затаил дыхание. Сквозь последовавшую дурноту он услышал голос Шокрона, произносивший такое, в чем не было смысла.
— Cientocuarenta. Mire.[94] — Он показывал ему бумажку.
С ощущением, словно берет огромный вес, Даер поднял взгляд и увидел написанные на ней цифры, одновременно сознавая, что внутри у него происходит громадный и неодолимый переворот.
— А? — сказал он; Шокрон написал «140». — Ладно.
— Одна минута, — сказал Шокрон; он встал, взял коробку с деньгами и вышел в соседнюю комнату, закрыв за собой дверь.
Даер не шевелился. Он смотрел в окно на стену здания напротив. Сотрясение успокаивалось; основные слои сместились, и новые места их казались удобнее. Как будто бы убралось что-то на линии его зрения, нечто, бывшее препятствием для постижения того, как изменить наружную сцену. Но он не доверял всей этой серии личных переживаний, что навязались ему после того, как он сюда пришел. Он привык к долгим отрезкам невыносимой скуки, перемежавшимся небольшими кризисами отвращения; эти жестокие возмущения у него внутри не казались частью его жизни. Они скорее принадлежали этому бессмысленному месту, где он был. И все же, если это место намерено так на него влиять, лучше ему привыкнуть к воздействиям и научиться с ними справляться.
Вернувшись, Шокрон вынес с собой коробку, но теперь купюры были меньше, буровато-зеленые, фиолетовые, и их было не так много. Он поставил коробку на стол и, не садясь, написал в своем блокноте так, чтобы Даер видел: 1260 @ 1000п.
— Считай, — сказал он.
Заняло долго, хотя большинство купюр были новые и хрусткие.
Ну, это прекрасно, подумал он, когда закончил. Двадцать пять тысяч двести долларов или около того, и никто тебя не остановит. Просто выходишь. Он посмотрел в лицо Шокрону — с любопытством, секунду. Никто, кроме Уилкокса. Это правда. И Уилкокс один — не Уилкокс с полицией. Ей-богу, ну и положение, подумал он. Сыграть чуть ли не стоит, просто на слабо.
Он не обратил большого внимания на рукопожатие Шокрона и крутую лестницу, ведшую вниз на улицу. Медленно бредя, толкаемый водоносами и пожилыми еврейками в платках с бахромой, он не сводил глаз с мостовой, не думая. Но он ощущал глянцевую бумагу на коробке и знал, что Шокрон завернул ее аккуратно, что она снова — сверток из «Галерей Лафайетт». Он прошел под высокой аркой, где марокканцы торговали бананами и посудой из толстого стекла; слева он узнал кафе Тами.
Когда он заглянул в двери, радио не играло. В кафе было темно, и у него создалось впечатление, что внутри практически никого нет.
— Quiere algo?[95] — сказал кауаджи.
— Нет-нет.
Воздух был ароматен от дыма кифа. Кто-то схватил его за руку, мягко сжал ее. Он повернулся.
— Здравствуйте, — сказал Тами.
— Привет! — Почти как встреча со старым другом; он не знал почему, если не считать того, что был один весь день, казавшийся нескончаемым. — Не думал, что вы здесь будете.
— Я вам говорил, я всегда здесь.
— Зачем же вам дом тогда?
Тами скривился и сплюнул.
— Спать, когда другого места нет.
— А жена? Зачем вам тогда жена?
— То же самое. Садитесь. Выпейте стакан хорошего ча.
— Не могу. Мне надо идти. — Он посмотрел на часы: было без четверти четыре. — Нужно быстро идти. — Прогулка до «Креди Фонсье» заняла бы минуты три, но он хотел добраться наверняка, пока там не закроют эту железную решетку.
— Идете вверх или вниз?
— На Соко-Чико.
— Пойду с вами.
— Ладно. — Он не хотел, чтобы Тами шел с ним, но этого никак не избежать, и все равно, подумал он, после они выпьют вместе.
На ходу Тами пренебрежительно смотрел на свои брюки, которые очень сильно измялись и были заляпаны жиром.
— Моя старая одежда, — заметил он, показав. — Очень старая. Для работы на лодке.
— О, вы купили ту лодку?
— Конечно купил. Я же говорил вам, что куплю. — Он ухмыльнулся. — Теперь она у меня есть. Мистер Тами Бейдауи, proprietario[96] одной старой лодки. Одной очень старой лодки, но она быстро плавает.
— Быстро плавает? — повторил Даер, не вникая.
— Не знаю, как быстро, но быстрее здешних рыбачьих лодок. Знаете, это старая лодка. Она не может плавать как новая.
— Нет. Конечно.
Они миновали лавку Рамлала. Та была закрыта. К разложенным авторучкам, целлулоидным игрушкам и наручным часам Рамлал добавил шесть батареек для портативных радиоприемников. Они прошли мимо «Эль Гран Пари», в витринах — хаос плащей. Всегда трудно было перемещаться по Соко-Чико с его компаниями неподвижных говорунов, будто скалами в море, вокруг которых во все стороны плескались толпы. Подойдя, как решил Даер, ко входу в «Креди Фонсье», наверху каких-то ступеней между двумя кафе, он увидел, что даже вход в наружный двор преграждается высокими воротами, которые закрыты.
— Это не тут, — сказал он, смятенно оглядывая площадь.
— Вы чего хотите? — спросил Тами, быть может слегка раздраженный тем, что Даер еще не сказал ему, куда именно идет и с каким поручением.
Даер не ответил; сердце у него упало, потому что теперь он знал, что это «Креди Фонсье» и он уже закрыт. Он взбежал по ступенькам и потряс ворота, поколотил по ним, не понимая, донесется ли его грохот через обширный гомон голосов, плывший с соко.
Тами медленно поднялся по лестнице, хмурясь.
— Зачем вам внутрь? Хотите пойти в банк?
— Еще даже не без пяти четыре. Не должно быть закрыто.
Тами с жалостью улыбнулся:
— Ха! Вы думаете, это Америка, люди все время смотрят себе на часы, пока не увидят, что ровно четыре часа или ровно десять часов? Сегодня они могут быть открыты до двадцати минут пятого, завтра могут запереть дверь без десяти четыре. Как им захочется. Сами понимаете. Иногда много работы. Иногда не очень.
— Черт побери, мне надо туда попасть! — Даер еще немного постучал в ворота и покричал: — Эй!
Тами привык к такой настоятельности у иностранцев. Он улыбнулся:
— Можете попасть туда завтра утром.
— Черта с два завтра утром. Мне нужно сейчас.
Тами зевнул и потянулся.
— Ну, мне бы хотелось вам помочь, но я ничего не могу сделать.
Стучать и звать казалось довольно бесцельным. Даер продолжал и то и другое, пока из-за угла во дворе не появился очень худой марокканец с метлой в руке и не встал, глядя между прутьев.
— Ili firmi! — возмущенно сказал он.
— Мистер Бензекри! Мне надо его увидеть!
— Ili firmi, m’sio. — И Тами: — Qoullou rhadda f’s sbah.[97]
Но Тами не соизволил заметить дворника; он снова спустился по ступеням на соко и крикнул оттуда Даеру:
— Пойдемте!
Видя, что последний остается у ворот, пытаясь спорить с человеком, он сел на стул, стоявший поблизости на тротуаре, ждать, когда тот закончит. Наконец Даер спустился к нему, бормоча себе под нос:
— Сукин сын не хотел даже сходить и позвать мне мистера Бензекри.
Тами рассмеялся:
— Сядьте. Выпейте. Я угощаю.