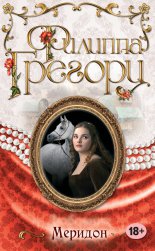«Фрам» в Полярном море Нансен Фритьоф
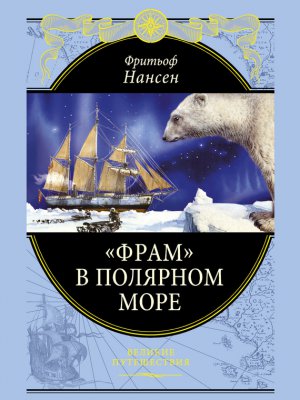
«Среда, 26 февраля. Сегодня должно было показаться солнце, но небо заволокло облаками».
«Пятница, 28 февраля. Я открыл, что из одного обрывка бечевки можно сделать двенадцать ниток, и счастлив, как юный бог. Теперь ниток у нас хватит, и мы быстро починим одежду. Кроме того, можно расщепить ткань мешка и пустить ее в ход вместо ниток».
«Суббота, 29 февраля. Сегодня солнце стоит высоко над ледником. Теперь нам приходится серьезно экономить ворвань, если мы хотим уйти отсюда, иначе у нас останется слишком мало сала на дорогу».
«Среда, 4 марта. Когда Йохансен вышел сегодня утром из хижины, утес, нависший над нами, был покрыт люриками[344]. Они, щебеча, перелетали с выступа на выступ или рассаживались повыше над ледником, озаряемые лучами утреннего солнца. Позже их уже не было».
«Пятница, 6 марта. Нам приходится теперь туговато: ради экономии горючего спим впотьмах и варим пищу только раз в день».
«Воскресенье, 8 марта. Убили медведя. Йохансен видел десять стаек люриков, летевших утром вдоль пролива».
«Вторник, 10 марта. Весьма кстати явился к нам позавчера медведь – славный малый в сущности; у нас уже и сало и мясо были на исходе; особенно плохо дело было с салом, и мы жаждали медведя. По нашим расчетам, пора бы им уже появиться. Я воспользовался воскресным утром для того, чтобы положить заплаты на свои «ветряные» штаны и починить комаги, как раз на случай, если появятся медведи. Йохансен, дежуривший эту неделю поваром, сначала тоже немного шил, а затем по случаю воскресенья занялся уборкой хижины, выкидывая в проход объедки мяса и кости. Потом он решил вычистить самый лаз, но едва откинул шкуру, прикрывающую входное отверстие, как ринулся назад. Споткнувшись о кучу костей, с криком «Медведь, у самой двери медведь!» он с молниеносной быстротой схватил висевшую на стене под крышей винтовку и снова высунул голову из прохода, но тут же поспешно отдернул ее. «Он стоит совсем рядом, у самой двери! Кажется, думает войти сюда!» Отвернув угол шкуры, Йохансен стал осторожно просовывать в отверстие свою винтовку, готовясь выстрелить.
Но прицелиться не так-то легко: проход, и без того узкий, теперь был весь завален мясными объедками и костями. Я видел, как Йохансен, скорчившись, приложил винтовку к щеке, но потом опять опустил ее: он забыл взвести курок! Медведь немножко отодвинулся, и Йохансен видел только кончик его носа да лапы.
Но вдруг медведь начал скрести когтями землю и запустил одну лапу в проход, словно желая влезть. Тогда Йохансен, не видя цели, решил, что пора стрелять. Он сунул дуло в верхний край дверного отверстия, надеясь попасть медведю прямо в грудь, и выстрелил. Послышался глухой рев и хруст снега под тяжелыми шагами удалявшегося зверя. Йохансен снова зарядил винтовку и высунул голову в отверстие. «Да, он действительно уходит. Но отошел еще не очень далеко». С этими словами Йохансен бросился за улепетывающим медведем, которому, видимо, не поздоровилось от выстрела. Тем временем я лежал в мешке вниз головой и беспокойно искал носок, который куда-то запропастил. После долгих поисков я его, наконец, нашел – разумеется, на полу. Итак, я был готов и солидно вооружен ружьем, патронами, ножом, напильником (для оттачивания ножа при сдирании шкуры). Пустился вслед за Йохансеном.
На мне были надеты «ветряные» штаны: они провисели всю зиму, все холода без употребления, так как не было ниток, чтобы починить их. А теперь, когда всего -2 °C, штаны к моим услугам! Я шел по следам: они тянулись вдоль берега на северо-запад. Вскоре встретил Йохансена. Он сказал, что медведь убит и лежит немного подальше. Йохансен настиг его и прикончил выстрелом в спину. Йохансен отправился за нартами, а я пошел туда, где лежал медведь, чтобы немедленно приняться за свежевание. Но этим делом удалось заняться не так-то скоро.
Приблизившись к месту, где должен был лежать медведь, я увидел, что «убитый» быстро трусит вдоль берега и успел уже отбежать довольно далеко. Время от времени он останавливался, чтобы оглянуться. Я погнался за ним по льду, пытаясь обойти и заставить бежать обратно, чтобы потом не пришлось тащить его издалека. После длительного бега я почти нагнал его, как вдруг зверь стал карабкаться вверх по леднику, выбирая самые скверные уступы. Вот уж никак не думал, что «убитый» медведь способен на такие шутки! Надо было возможно скорее остановить его. Но едва я успел подойти к нему на выстрел, как он исчез за гребнем.
Вскоре, правда, я снова увидел его, но гораздо выше. Он был вне выстрела. Вытягивая шею, медведь поглядывал, иду ли я. Я полез было за ним, но он взбирался куда быстрее, тем более что под глубоким снегом было немало трещин, в которые я проваливался выше пояса. В конце концов пришлось спуститься на фьордовый лед. Некоторое время спустя медведь показался под отвесным утесом, от которого круто шла вниз каменистая россыпь. Он стал осторожно пробираться среди камней. Я опасался, что зверь уляжется где-нибудь в таком месте, куда нам не добраться, и, хотя расстояние было велико, решил выстрелить, чтобы заставить его скатиться вниз. С виду он держался наверху не особенно крепко. Под скалою дул сильный ветер, и было видно, как при особенно сильных шквалах медведю приходилось ложиться на брюхо и цепляться когтями за лед; притом он мог орудовать только тремя лапами: правая передняя была у него прострелена. Я присел за большой камень у нижнего края россыпи, прицелился хорошенько и выстрелил. Пуля ударилась в снег под самым медведем; попала она в него или нет, я не знаю, но только в ту же самую минуту он подскочил и хотел перепрыгнуть через сугроб, но поскользнулся и покатился вниз. Несколько раз он безуспешно пытался вцепиться в лед когтями. Наконец, ему удалось-таки стать на лапы, и он начал снова понемногу карабкаться вверх.
Тем временем я успел вложить новый патрон. Расстояние между мной и медведем теперь уменьшилось; я выстрелил. Зверь постоял одно мгновение спокойно, потом скользнул вниз и покатился кувырком по снегу, сначала медленно, потом все быстрее и быстрее. Я подумал было, что так, чего доброго, он наскочит прямо на меня, но утешил себя тем, что камень, за которым я стоял, держался прочно. Присев на корточки, я мигом вложил в ствол новый патрон. Медведь докатился до россыпи и шумно помчался дальше, вместе с камнями и комьями снега, подпрыгивая после каждого нового толчка все выше. Странно было видеть это огромное белое тело, летящее по воздуху, словно полено. Наконец, подпрыгнув особенно высоко, он ударился о большой камень и растянулся возле него. Что-то громко хрустнуло, и вот он лежит возле меня. Две-три судороги – и все было кончено. Медведь оказался необычайно крупным самцом с великолепным густым мехом. Такую шкуру не худо было бы привезти домой. Но самым лучшим было обилие в этой туше сала.
Ветер, все крепчавший, к этому времени задул с такой силой, что мог бы свалить человека, если бы застал его врасплох. Однако было так тепло, что на ветер можно было не обращать внимания. Освежевать медведя было бы нетрудно, если бы он, на беду, не завалился в яму: вытянуть такую тяжесть одному было не под силу. К счастью, вскоре подоспел Йохансен, и мы, разрубив медведя на части, стащили его на лед и погрузили на нарты. Но отъехав немного, мы убедились, что нам не свезти всего медведя за один раз – ветер с силой дул навстречу, а путь был не близкий. Пришлось сложить половину мяса в кучу на льду и покрыть его шкурой, чтобы прийти за ним дня через два. Даже налегке и то было трудно пробиваться вперед в темноте, против ветра, и лишь поздней ночью добрались мы к дому. Но зато как славно было в тот вечер растянуться в спальном мешке и поужинать свежим мясом и горячим супом!»
Этим медведем мы питались в течение 6 недель.
«Йохансен сегодня часов в шесть утра видел якобы миллионы люриков, летевших к проливу. Позже, когда мы вышли часа в два дня, птичьи стаи непрерывной цепью одна за другою летели над морем, и так продолжалось до самого вечера. Я видел также двух чистиков (Una grylle), прилетевших над нами. Это были первые виденные нами чистики[345]».
«Четверг, 2 апреля. Когда я проснулся часов в 8 вечера (в этот день наше «утро» пришлось на вечер), мы услыхали, что снаружи у хижины бродит какой-то зверь и что-то гложет. Мы не обратили на это никакого внимания, полагая, что по обыкновению на крышу за куском мяса взобрался песец. Правда, шум был, пожалуй, сильнее того, что производил песец, уже ставший для нас привычным. Но все же он был не настолько силен, как мы могли ожидать от медведя. Мы не учли, что снег теперь не такой холодный и не так сильно хрустит, как зимой.
Позднее Йохансен вышел, чтобы посмотреть на термометр, и только тогда обнаружилось, что тут побывал медведь. Он пришел со льда, взобрался по косогору на холм, все время держась против ветра, и обошел кругом хижины. По-видимому, ему не понравились медвежьи остовы, и он не решился пробраться мимо них на крышу за моржовым салом. Он довольно долго стоял у входа в хижину и против трубы, принюхиваясь к живительному запаху жареного сала и живого человеческого мяса, потом стащил и отволок подальше одну из моржовых шкур и соскреб с нее сало.
Затем он пошел по нашим следам от хижины до того места, где мы берем соленую воду, и оттуда пустился снова по льду, пока не почуял запах моржовых остатков и направился к ним. В этот-то момент и увидел его Йохансен. Медведь раскапывал моржовые отбросы. Так как мое ружье было не совсем в порядке, я схватил ружье Йохансена и пошел один. Медведь был настолько занят обгладыванием и облизыванием моржовины, что я подошел к нему сзади вплотную, без каких-либо особых предосторожностей. Мне захотелось посмотреть, насколько близко смогу я к нему подойти таким образом, и я все шел да шел на него. И только, когда я приблизился к нему настолько, что почти мог дотянуться до него дулом ружья, он услыхал, наконец, мои шаги, оглянулся и поглядел на меня удивленно-вызывающе. Вместо приветствия я послал ему в морду пулю. Он мотнул головой, чихнул и закашлял кровью, потом круто повернулся и галопом побежал от меня. Я хотел перезарядить ружье, но патрон заело, и мне пришлось выковыривать его ножом.
Пока я занимался этим, медведь остановился, повел носом в мою сторону, злобно захрапел, как бы собираясь броситься на меня, потом залез на лежавшую неподалеку глыбу льда и, вытянув шею по направлению ко мне, принял оборонительную позу. Кровь ручьем струилась у него изо рта и из носа. Пуля прошла ему через голову, не задев мозга. Наконец, мне удалось вложить новый патрон. Но в медведя пришлось выпустить пять зарядов; после каждого выстрела он падал навзничь и подымался снова. Я не привык к мушке на ружье Йохансена и целился слишком высоко. Наконец, рассердившись, я бросился к медведю и покончил с ним выстрелом в упор».
Теперь у нас стали накапливаться довольно приличные запасы сала и мяса для предстоявшего путешествия. Занялись приготовлениями к походу. Дел было много. Предстояло сшить новую одежду из шерстяных одеял, починить и привести в порядок «ветряную» одежду, сделать подметки к комагам, сшить из медвежьей шкуры носки и рукавицы, наконец, изготовить легкий и удобный спальный мешок, опять же из медвежьей шкуры. На все это требовалось время, и мы прилежно работали иглой с раннего утра до позднего вечера. Наша хижина внезапно превратилась в настоящую сапожную и портняжную мастерскую. Сидя рядом в своем спальном мешке на каменном ложе мы шили и шили без устали, а мысли наши были заняты возвращением на родину. Нитки для шитья получали из парусины продовольственных мешков. Само собой разумеется, что постоянной темой разговоров было предстоящее путешествие. Успокаивало то, что на юго-западе всегда виднелось темное небо, которое говорило об обширном пространстве открытой воды в этом направлении. Я полагал, что добрую часть пути до Шпицбергена удастся проделать в каяках.
Несколько раз я упоминал об этой открытой воде в дневнике. Так, 12 апреля в нем записано: «Открытое море тянется от мыса на юго-западе и на всем виденном пространстве к северу». Под этим подразумевалось, конечно, то, что повсюду в этом направлении на горизонте было видно темное, «водяное» небо, верный признак существования там чистой ото льда воды. В сущности это не могло удивлять нас, мы были готовы к этому, так как Пайер даже севернее, на западной стороне Земли Кронпринца Рудольфа, нашел в середине апреля открытую воду, и это обстоятельство я всегда имел в виду в течение зимы.
И еще одно обстоятельство заставляло нас верить в близость открытого моря – ежедневные визиты белых чаек и глупышей (Procellaria glacialis), а иногда и моевок (Krykkjer). Первых белых чаек мы увидели 12 марта. В апреле их появлялось больше и больше. Вскоре во множестве появились и бургомистры (Larus glaucus). Рассаживаясь на крыше и вокруг хижины, они долбили кости и остатки медвежьего мяса, выклевывая все, что могли найти. Зимой обгладывание песцами мяса на крыше доставляло нам развлечение, напоминая о том, что мы не совсем еще забыты живыми существами. С наступлением весны песцы исчезли; теперь они находили для себя множество люриков в расщелинах скал, и им уже не нужно было возиться с замерзшим медвежьим мясом, твердым, как камень. Вместо них по крыше барабанили чайки. И это уже не вызывало умильных воспоминаний о домашних крысах и мышах; подчас, когда птицы усиленно долбили крышу над нашими головами, это так надоедало и раздражало нас, что просто не давало заснуть, и мы сами принимались колотить по крыше снизу или выскакивали из хижины, чтобы прогнать чаек. Это помогало, однако, всего на несколько минут.
18 апреля, углубившись с часами в руках в наблюдения за солнцем, я нечаянно приподнял голову, оторвав глаза от теодолита, и вдруг увидел прямо перед собою медведя, стоявшего на льду у берега. Он, по-видимому, давно уже наблюдал за мною, размышляя над тем, что это такое я делаю. Я побежал в хижину за ружьем, но когда вернулся, его и след простыл. Преследовать его я не был расположен.
«Воскресенье, 19 апреля. Сегодня в 7 ч утра меня разбудил тяжелый медвежий топот за стеной хижины. Разбудил Йохансена. Пока тот зажигал огонь, я натянул штаны, надел комаги и с заряженным ружьем выполз из хижины. Медвежью шкуру, прикрывавшую входное отверстие, по обыкновению за ночь завалило снегом и выбраться наружу было не так-то просто. Наконец, толкнув шкуру изо всех сил, я отшвырнул снег и высунул голову. Яркий дневной свет, после царившей в нашей хижине тьмы, ослепил глаза, и я ничего не увидел. Но я знал, что медведь стоит тут же за хижиной. Действительно, я сразу же услышал фырканье и сопение и вверх по склону неуклюжим медвежьим галопом пробежал зверь. Я не знал, стрелять или нет. По правде говоря, у меня не было никакого желания сдирать с медведя шкуру в такую отвратительную погоду. Все же я пустил в него наудачу пулю и, разумеется, промахнулся, чем, впрочем, нисколько не огорчился. Больше я не стрелял: одного выстрела вполне достаточно, чтобы напугать зверя и отбить у него охоту навестить нас в ближайшем будущем. Мы в нем нисколько не нуждались и хотели лишь одного – чтобы он оставил нас и наши запасы в покое.
Дойдя до ущелья, находившегося к северу от нас, медведь обернулся, а затем побежал дальше. Как обыкновенно, он пришел против ветра и почуял нас со льда, вероятно, когда еще находился далеко к западу отсюда. Он долго кружил с подветренной стороны, побывал у входа в хижину, где оставил после себя визитную карточку, а потом подошел к находившейся позади куче, в которой было сложено моржовое сало, обложенное со всех сторон медвежьими тушами. Они не испугали его, а медвежью шкуру, покрывавшую сало, он далеко оттащил в сторону; к счастью, непрошенный гость не успел еще ничем полакомиться, когда я выглянул и спугнул его».
«Воскресенье, 3 мая. Сегодня утром наружу выходил Йохансен. Вернувшись, он сказал, что видел на льду медведя; тот шел по направлению к берегу. Немного погодя Йохансен вышел, чтобы поглядеть на этого зверя, но больше его не увидел; должно быть, медведь завернул в бухту, лежавшую севернее. Мы, однако, ждали его посещения, так как ветер дул от нас в том направлении. И в самом деле, попозже днем, когда мы сидели и самым усердным образом шили, снаружи послышались тяжелые шаги по снегу. Медведь остановился, походил немного взад и вперед, потом что-то потащил, и все стихло. Йохансен осторожно вылез с ружьем из хижины. Подняв голову и привыкнув к ослепившему его сначала дневному свету, он увидел, что медведь стоит и гложет медвежью шкуру. Пуля в голову уложила зверя наповал.
Это было небольшое и тощее существо, но мы были чрезвычайно довольны, так как этот медведь избавлял нас от лишнего труда: не будь его, нам пришлось бы оттаивать медвежьи туши, чтобы вырезать из них себе мяса на дорогу. Они так окаменели на морозе, что не было никакой возможности разрезать эти туши на воздухе. Их пришлось бы внести в хижину, чтобы дать отмякнуть в тепле, а потом уже резать, и на все это требовалось много времени. Сегодня же ночью нас посетили два медведя, но от нарт с термометром, стоявших торчком в снегу к западу от хижины, звери повернули назад».
За завтраком 9 мая снова послышались снаружи медвежьи шаги и, опасаясь, что зверь доберется до наших запасов, сочли необходимым убить его. У нас уже было куда больше мяса, чем нужно, и мы в данную минуту вовсе не расположены были тратить патроны на этих зверей. Жаль только было оставлять здесь все эти прекрасные медвежьи шкуры. Близилось время отъезда, и мы с лихорадочным пылом готовились к нему. Одежда наша была уже приведена в порядок. Во вторник, 12 мая, у меня записано: «Сегодня я распростился со своими старыми брюками. Грустно было расставаться с ними, когда я думал, какую добрую службу они так долго служили мне верою-правдою. Но теперь они так отяжелели от жира и грязи, что весят в несколько раз больше прежнего, и если бы их выжать, то из них потекла бы ворвань. Бесспорно, очень соблазнительно надеть новые, легкие и мягкие брюки из шерстяных одеял, которые еще не успели пропитаться жиром. Впрочем, материал был довольно непрочный, и я немного боялся, что брюки протрутся прежде, чем мы доберемся до Шпицбергена. Чтобы сделать их более прочными, мы подшили к ним изнутри и снаружи заплаты из старых кальсон и рубашек.
В субботу, 16 мая, занимаясь наблюдениями возле хижины, я увидел на льду медведицу с крошечным медвежонком. Недавно я ходил по льду, и теперь звери обнюхивали мои следы. Впереди шла мать. Она влезала на каждый торос, на котором я побывал, сопела и рассматривала следы, затем спускалась вниз и шла по следу дальше. Медвежонок трусил позади и подобно ребенку с забавной важностью копировал все движения матери. Наконец, им это прискучило, они двинулись к берегу и исчезли за холмом к северу от нас.
Немного погодя вышел Йохансен; я рассказал ему о медведях, прибавив: «Наверное, они скоро появятся; ветер дует от нас в ту сторону». Едва я успел произнести эти слова, как вдали показались оба медведя: вытянув шеи и поводя носами, они нюхали воздух и глядели на нас и на хижину. Мы не собирались убивать их, так как пищи у нас было вдоволь, но решили, что любопытно было бы подойти к ним поближе, посмотреть на них и, если удастся, напугать, чтобы избавиться от ночных визитов и спать спокойно. Когда мы приблизились, мать злобно зафыркала, она несколько раз повертывалась, как бы намереваясь пойти на нас, потом уходила, подталкивая перед собой детеныша, снова оглядывалась, будто желая получше разглядеть нас. Наконец, звери потихоньку поплелись своей дорогой, все время, однако, оглядываясь. Спустившись к берегу, они стали бродить между торосами. Я побежал за ними. Мать шла впереди, медвежонок трусил за ней в точности по ее стопам. Скоро я нагнал их.
Мать, увидев меня, бросилась бежать и хотела, чтобы медвежонок бежал так же быстро рядом с ней, но сразу же стало видно, что малыш быстрее меня бежать не может. Как только медведица обнаружила это, она повернулась, фыркнула и свирепо пошла прямо на меня. Я остановился и приготовился стрелять, если она подойдет слишком близко. Медвежонок между тем улепетывал со всех ног. Медведица остановилась в нескольких шагах от меня, фыркнула и зашипела, оглянулась на детеныша и, убедившись, что тот отбежал уже на порядочное расстояние, бросилась за ним. Я опять кинулся вперед и стал нагонять медвежонка, и медведице снова пришлось повернуть. По-видимому, ей ужасно хотелось повалить меня; но детеныш успевал выиграть некоторое расстояние, и мать, не тратя лишнего времени, следовала за ним. Это повторялось несколько раз; затем они начали карабкаться на ледник – впереди медведица, за ней медвежонок. Но малыш не поспевал, хотя изо всех сил старался ступать след в след с матерью по глубокому снегу; карабкаясь вверх, он поразительно напоминал мальчугана в плюшевых штанах. Он то и дело оглядывался наполовину со страхом, наполовину с любопытством. Трогательно было видеть, как мать беспрестанно поторапливала малыша, иногда подталкивала его головой, а на меня шипела и фыркала, хотя я совершенно спокойно стоял внизу, наблюдая за ними. Наконец, они добрались до гребня. Медведица остановилась, зашипела на меня пуще прежнего, пропустила медвежонка вперед, и оба исчезли по ту сторону ледника. Я вернулся к прерванной работе.
В последние дни в нашей хижине кипела лихорадочная работа. С каждым днем все больше не терпелось двинуться в путь, но многое еще оставалось сделать. Теперь-то мы ощутили по-настоящему отсутствие запасов «Фрама». Если там не хватало кое-чего, то здесь в сущности не хватало всего. Чего бы не дали мы теперь за один единственный ящик собачьих сухарей – для нас самих! – из огромных запасов «Фрама». Где взять теперь все, что нам нужно?.. «Для санной экспедиции необходим легкий питательный и вместе с тем разнообразный провиант, нужна легкая и теплая одежда, прочные и удобные нарты и т. п., и т. п.» Да, хорошо известны эти азбучные истины арктическим путешественникам. Правда, предстоявший путь был не особенно труден: все дело сводилось только к тому, чтобы добраться до Шпицбергена. Но все же путь был достаточно дальний, чтобы эти наставления имели свое значение и для нас.
Когда мы вырыли спрятанные в начале зимы запасы и открыли мешки, то обнаружилось, что там находятся лишь жалкие остатки когда-то хорошего провианта. Значительная часть его заплесневела, испортилась от осенней сырости. Мука, драгоценная овсяная мука, покрылась грибком, и ее пришлось выбросить. Шоколад растаял от влаги, его больше не существовало. Пеммикан имел какой-то странный вид. Попробовали его – тьфу! Пришлось выкинуть и его. Итак, осталось только немного рыбной муки, некоторое количество алейронатной муки и отсыревший, покрытый плесенью хлеб; мы все это прокипятили в моржовом жире, отчасти чтобы просушить и отбить затхлый вкус и запах сырости, отчасти чтобы сделать продукты более питательными. Теперь хлеб показался нам превкусным, и мы бережно спрятали его на торжественный случай или на случай крайней нужды, когда не будет никакого другого продовольствия.
Мы ни о чем не тужили бы, если бы могли провялить медвежье мясо. Но погода стояла сырая и холодная, и повешенные вялиться ломти мяса высохли лишь наполовину. Ничего другого не оставалось, как взять с собой возможно больше разрезанного на куски сырого мяса и сала, какое только мы в состоянии были тащить с собой. Потом наполнили ворванью три жестяных бидона из-под керосина – такой запас топлива никогда не помешает. Для варки пищи в пути решили приспособить котелок от кухонного аппарата, а вместо горелки сделали чашку из нижней части резервуара от примуса: в ней мы жгли и куски сала и ворвань. Запасы пищи и топлива не отличались легкостью, но имели то преимущество, что могли быть, по всей вероятности, легко пополнены в пути. Дичи, надо надеяться, мы встретим вдоволь.
Хуже обстояло дело с короткими, обрубленными нартами. Удлинить их теперь невозможно. Но как же пробиваться вперед на этих обрубках, не разбив поставленных на них каяков о ледяные выступы и торосы? Если мы не найдем свободной воды на пути к Шпицбергену, то вынуждены будем тащиться по неровному дрейфующему льду с этими нартами, на которых каяки имеют точку опоры только в середине; оба конца – и нос и корма – свешиваются за пределы нарт; при малейшей неровности концы каяков неминуемо будут цепляться за лед, а это вряд ли благотворно отразится на их парусиновой обшивке. Необходимо было как-то предохранить каяки. Мы привязали к ним снизу медвежьи шкуры и устроили на нартах добавочные подпорки из уцелевших кусков дерева. Подпорки надо было сделать возможно длиннее, чтобы поднять повыше самые каяки и не дать им касаться льда. Веревок, чтобы привязать каяки, не было, и пришлось изготовить ремни из сырой медвежьей и моржовой кожи. А такими ремнями крепко не привяжешь. Все же преодолели и эту трудность и в конце концов хорошо и плотно пригнали каяки к нартам. Чтобы концы каяков не поломались под тяжестью груза, самые тяжелые предметы положили в середину. Получилось хорошо.
Не менее трудным оказалось снарядиться в путь нам самим. Я уже упомянул, что мы сшили себе новую одежду, и на это столь неопытным портным пришлось потратить порядочно времени. Мало-помалу мы, впрочем, так наловчились, что имели, по-моему, все основания гордиться своей работой. И когда, наконец, облеклись в новое одеяние, вид у нас получился довольно приличный – так, по крайней мере, казалось нам. Новую одежду мы берегли и не торопились надевать, желая подольше сохранить ее во всей красе для путешествия. Йохансен, насколько мне помнится, так и не надел своей новой куртки вплоть до встречи с людьми. Он объявил, что хочет сохранить ее до того дня, когда прибудет в Норвегию, – ведь не может же он предстать перед соотечественниками каким-то морским разбойником!
Жалкие остатки нижнего белья перед отправлением в путь были тщательно выстираны, чтобы можно было двигаться, не натирая себе тела до крови. Стирка производилась способами, уже описанными выше. Вот с обувью дело было совсем плохо. Чулки мы кое-как себе сшили из медвежьей шкуры; труднее оказалось заменить подметки наших комаг, которые совсем почти протерлись. Мы, однако, ухитрились сделать нечто вроде подошв из моржовой кожи, выскоблив ее примерно до половины толщины, а затем вытянув и высушив над лампой. Эти подошвы пришили к нашим комагам по финскому способу. Травы Sennegrees у нас был еще запас порядочный, и поэтому удалось сделать комаги почти непромокаемыми. Таким образом, несмотря ни на что, одежда оказалась вполне приличной, хотя и нельзя сказать, чтобы она отличалась особой чистотой.
Для защиты от ветра и дождя сохранилось старое «ветряное» платье, которое мы постарались, как могли, заштопать и починить. Времени на эти починки ушло страшно много, так как одеяние это представляло в общем заплату на заплате; на нем, как говорится, живого места не было; стоило зашить одну дыру, как рядом, едва мы напяливали одежду на себя, появлялась новая. Всего больше износились рукава; я взял да в конце концов и оторвал оба: по крайней мере не приходилось больше нервничать, глядя, как они дальше рвутся.
Весьма желательно было также иметь теплый и возможно более легкий спальный мешок. Того, с которым мы сюда прибыли, больше не существовало: его распороли и из шерстяных одеял пошили одежду. Теперь нужно было сшить новый спальный мешок из медвежьих шкур. Выбрав самые тонкие, мы сумели сделать новый мешок, лишь немногим тяжелее мешка из оленьей шкуры, взятого с «Фрама».
Труднее было устроить сносную палатку. Старая изодралась и насквозь просалилась за прошлогоднее пятимесячное путешествие; остатки ее были вконец уничтожены песцами, когда осенью мы прикрывали ею запасы мяса и сала, чтобы спасти их от чаек. Песцы либо изодрали и изгрызли все в клочья, либо растащили. Потом на снегу мы находили большие лоскутья этого плотного шелкового полотна. Долго прикидывали мы в уме, как соорудить себе новую палатку, и единственное, что могли придумать, это ставить двое наших нарт с каяками параллельно на расстоянии длины человеческого тела, сбивать из снега вал вокруг них, класть сверху поперек лыжи и бамбуковые лыжные палки и покрывать все двумя связанными вместе парусами, так, чтобы последние свешивались с обеих сторон до низу. Таким способом получался довольно сносный кров: каяки заменяли конек крыши, а паруса – боковые стенки палатки. Нельзя, конечно, сказать, чтобы такая палатка служила надежной защитой от ветра, и в пургу много хлопот доставляло затыканье щелей и отверстий «ветряной» одеждой и другими вещами.
Самой важной частью снаряжения было, конечно, огнестрельное оружие, которое, к счастью, находилось в довольно хорошем состоянии. Мы хорошо почистили ружья, смазали дула ворванью, а замки и затворы – оставшимся еще в небольшом количестве вазелином и ружейным маслом. Сосчитав патроны, мы, к величайшей радости, обнаружили, что у нас осталось еще около 100 ружейных патронов с пулями и 120 зарядов дроби. В случае надобности мы могли перезимовать еще не один раз, если бы это оказалось необходимым.
Глава двенадцатая
Путешествие на юг
Наконец, во вторник, 19 мая, мы были готовы тронуться в путь. Нарты стояли нагруженные и увязанные. Напоследок сфотографировали хижину снаружи и внутри и оставили в ней следующее краткое описание нашего путешествия:
«Вторник, 19 мая 1896 г. Мы вмерзли в лед к северу от острова Котельного, приблизительно под 78°43 северной широты, 22 сентября 1893 г. В течение следующего года, как и было предусмотрено, нас несло на северо-запад. Йохансен и я покинули «Фрам» 14 марта 1895 г. примерно под 84°04 северной широты и 103° восточной долготы[346], имея целью достигнуть более высоких широт. Руководство экспедицией передано Свердрупу. К северу никакой земли не нашли. 8 апреля 1895 г., достигнув 86°14 северной широты и около 95° восточной долготы, вынуждены были повернуть назад, так как лед стал слишком тяжелым и непроходимым. Взяли курс на мыс Флигели, но наши часы остановились, и мы не могли с достаточной точностью определить долготу. 6 августа 1895 г. обнаружили четыре покрытых ледниками острова, расположенных в северной части этого архипелага, приблизительно под 81°30 северной широты[347] и примерно 7° восточнее данного места. Сюда прибыли 26 августа 1895 г. и нашли необходимым здесь перезимовать. Питались медвежьим мясом. Сегодня отправляемся на юго-запад вдоль земли, чтобы наикратчайшим путем добраться до Шпицбергена. Полагаем, что находимся на Земле Гиллиса.
Фритьоф Нансен».
Этот самый первый отчет о нашем путешествии был вложен в медную трубку – цилиндр от воздушного насоса примуса. Трубку заткнули деревянной втулкой и подвесили на проволоке под коньком крыши хижины.
В 7 ч вечера покинули наше зимнее логово и начали путь на юг. Проторчав целую зиму на месте, преимущественно в лежачем положении, мы разучились ходить, и нарты с нагруженными каяками показались очень тяжелыми. Чтобы не слишком рьяно приниматься за дело, сначала поразмять суставы, а потом уже впрячься в лямку по-настоящему, в этот первый день шли всего несколько часов. Затем, очень довольные, расположились на стоянку. Каким блаженством было сознавать, что мы, наконец, снова в пути и на этот раз действительно идем к дому!
На следующий день (в среду 20 мая) переход был тоже небольшой. Шли курсом на юго-западный мыс, который стоял у нас перед глазами в течение всей зимы. За ним, судя по небу, должна была находиться открытая вода. С величайшим интересом ждали, в каком направлении оттуда потянется дальше земля. Если бы мы находились севернее мыса Лофлея, тогда земля здесь должна была повернуть в юго-восточном направлении. Если же, напротив, берег дальше шел на юго-запад, стало быть, мы были у какой-то новой земли, лежащей западнее, – возле Земли Гиллиса.
В четверг, 21 мая, добрались, наконец, до мыса и расположились на стоянку Всю зиму его называли «Мысом Доброй Надежды», так как надеялись найти здесь водный простор, который облегчит движение вперед. Надежда не обманула нас. С горы я увидел недалеко к юго-западу открытую воду, а так же два новых острова, покрытых снегом, – один большой впереди на Ю 40° З (по компасу) и другой поменьше на Ю 85° З (по компасу). Они были целиком покрыты ледяными щитами правильной куполообразной формы. В каком направлении тянулся дальше берег, не было видно, так как южнее выступал высокий мыс. Но незаметно было, чтобы берег сворачивал на юго-восток; вероятность того, что мы находимся вблизи мыса Лофлея, отпадала. Теперь появилась надежда, что уже на следующий день можно будет спустить каяки на воду и быстро пойти на юго-запад. Но пришлось разочароваться. На следующий день разыгралась пурга, и ничего не оставалось делать, как сидеть на том же месте.
Утром, лежа в мешке и стряпая завтрак, я вдруг увидел медведя, спокойно проходившего мимо шагах примерно в двадцати от нас. Медведь взглянул раза два на нас и на каяки, но не понял, вероятно, что это такое. Почуять людей он не мог, так как ветер дул прямо в нашу сторону, и поэтому продолжал свой путь дальше. Я позволил ему уйти, у нас еще было вдоволь пищи.
В субботу 23 мая та же дурная погода. Прошли немного вперед, чтобы выяснить состояние пути. Надо было узнать, можно ли сразу выбраться на открытую воду, которая лежала к западу от нас по ту сторону острова, или же придется идти на юг вдоль земли по береговому припаю. Подошли к скалистому мысу, который состоял из базальтовых столбов на редкость отчетливых форм, что побудило назвать этот мыс «Замком»[348]. Здесь увидели, что земля дальше тянется к югу; открытая вода простиралась в том же направлении, от земли она была отделена только узкой полоской берегового припая. Так как лед рассекали бесчисленные трещины, решили переправиться на остров, лежавший к западу от нас, и попытаться оттуда возможно скорее выйти в море. Вернувшись назад, стали готовиться к морскому путешествию; прежде всего пришлось тщательно залить растопленным стеарином швы каяков, затем переложить груз так, чтобы можно было сесть внутри. На следующий день, в воскресенье, 24 мая, двинулись на запад по направлению к острову. Ветер дул восточный, и можно было приладить к нартам паруса; по ровному льду дело шло довольно быстро. Но когда мы стали подходить к острову, внезапно поднялся свежий юго-западный ветер. Нарты несколько раз опрокидывались. Пришлось отказаться от лавирования парусами и снять их. Небо заволокло облаками, спустился туман, и дальше к земле пришлось идти против сильного ветра.
Добраться до нее следовало как можно скорее, пока еще не началась буря. Но лед теперь стал предательским. Ближе к земле он весь был изрезан вдоль и поперек трещинами; заметить их было почти невозможно, так как сверху лед замело снегом. Пока Йохансен, остановившись, привязывал покрепче к палубе каяка свернутый парус и мачту, чтобы их не унесло ветром, я один поспешил вперед, к земле, чтобы отыскать там место для привала. Вдруг почва ушла у меня из-под ног, я очутился в воде, в трещине, хорошо замаскированной снегом. Выкарабкаться своими силами я никак не мог: лыжи были привязаны к ногам и поднять их вместе со всей этой снежной слякотью и ледяной кашей, обрушившейся вместе со мной в воду, было немыслимо. К тому же я был привязан к нартам лямкой и не мог повернуться. На счастье, удалось воткнуть лыжную палку с острым наконечником в лед по ту сторону трещины. Ухватившись за нее одной рукой, а другой уцепившись за край льда, я терпеливо дожидался, когда придет Йохансен и вытащит меня. Я был уверен, что он видел, как я провалился, но обернуться назад, чтобы проверить это, не мог. Время шло. Палка начала сдавать под моей тяжестью, а я стал погружаться все глубже и глубже. Холодная вода давала себя чувствовать выше поясницы… Я стал кричать, но не слышал ответа. Тогда я завопил во весь голос и, наконец, далеко позади послышалось ответное «охо!». Некоторое время спустя, когда вода уже дошла до груди и немного осталось до того, чтобы совсем уйти под лед, прибежал Йохансен и вытащил меня. Он был так занят своими нартами, что до самого последнего моего крика не заметил, как я упал в воду. Этот опыт научил меня осторожнее ходить по предательскому льду, тем более на крепко привязанных лыжах. Выбирая путь со всей возможной осмотрительностью, мы, наконец, добрались до земли и нашли там более или менее защищенное от ветра место для ночлега. Поражало обилие моржей, стада которых лежали вдоль всего берега около трещин. Пока что нас они не интересовали: запасы мяса и сала и без того достаточно давали себя знать нашим плечам.
В течение следующих дней продолжала бушевать непогода – дождь и ветер, и мы не могли тронуться с места.
Во вторник, 26 мая, в дневнике отмечено: «Вчера и сегодня задержаны ветром и дождем под стеной ледника на северной стороне того же острова. Снег мокрый, идти по нему куда бы то ни было невозможно; но надо надеяться, что неподалеку от берега есть полынья, по которой, вероятно, быстро двинемся вперед, как только, наконец, уляжется непогода. Тогда вознаградим себя за эту долгую проволочку». Но задержка продолжалась значительно дольше, чем мы предполагали.
В четверг, 28 мая, записано: «Вчера взбирались на остров и видели к югу открытое море, но непогода по-прежнему задерживает нас на месте. Передвинули немного нашу палатку, спасаясь от трещин; лед грозил разверзнуться прямо под нами. Здесь великое множество моржей. Когда ходим по льду, они сопровождают нас, выглядывая из трещин. Часто слышим, как они хрюкают и стукаются об лед прямо у нас под ногами».
В этот день, однако, буря несколько стихла, и удалось пройти на юг вдоль восточной стороны острова. В проливе между ним и другой землей в береговом припае образовалась широкая полынья. По всей видимости, здесь мелко и наблюдается быстрое течение, из-за которого полынья остается открытой. Два стада моржей лежали на льду по соседству с полыньей. Об этом в тот же вечер записано: «К одному стаду штук из девяти моржей я подошел, чтобы их сфотографировать. Подкрадывался к ним под прикрытием небольшого тороса. В ту самую минуту, когда очутился не более чем в футах 20 от них, одна самка с детенышем кинулась в воду через продушину, находившуюся поблизости. Другие моржи, однако, не шевельнулись, даже когда я стал кричать. Подошел Йохансен и стал бросать в зверей комьями снега и кусками льда. Но и это не произвело впечатления. Моржи только нагибались к комьям снега и обнюхивали их. Я продолжал фотографировать, потом подошел совсем вплотную. Часть зверей, наконец, приподнялась и отодвинулась ближе к продушине. Один даже нырнул, но остальные приготовились уснуть. Вскоре нырнувший вернулся обратно и вскарабкался на лед. Даже те двое, что лежали ко мне ближе всех, ничуть не шевельнулись; раза два они приподнимали немного головы, высокомерно посматривали на человека, стоявшего в трех шагах от них, затем снова опускали головы и продолжали спать. Я ткнул им в морду заостренной палкой, но они едва пошевелились. Удалось снять довольно много фотографий. Найдя, что с меня их достаточно я на прощание еще раз сильно ткнул палкой в морду ближайшего моржа; тот приподнялся, сердито захрюкал и изумленно взглянул большими круглыми глазами, затем почесал у себя за ухом одним из задних ластов и спокойно улегся. Мы поехали дальше. Звери тотчас расположились на покой. Они громоздились огромными неподвижными тушами мяса, пока мы огибали мыс, и, наконец, исчезли за ним».
Потом снова поднялась вьюга, и нам опять пришлось несколько дней пережидать непогоду на южной стороне острова.
«Пятница, 29мая. Сидим на месте из-за непогоды».
«Суббота, 30 мая. Сидим все на том же месте и старательно затыкаем в палатке все щели, пытаясь спрятаться от вьюги. Ветер кружит вокруг и атакует то одну стену, то другую. Нелегко оставаться хотя бы приблизительно сухими: ветер врывается в щели со всех сторон и заметает нас снегом вместе со спальным мешком. Затем снег тает, и все вещи промокают насквозь».
«Понедельник, 1 июня. Вчера, наконец, ветер мало-помалу затих, небо прояснилось, и к вечеру ярко засияло солнце. Радуясь возможности снова пуститься в путь, приготовили каяки и все прочее к спуску на воду и заползли в спальный мешок с тем, чтобы встать на следующее утро пораньше, в полной уверенности, что день будет хороший. Единственно, что нас немного смущало: барометр не только перестал подниматься, а скорее даже упал на один миллиметр. И действительно, ночью опять пришла непогода. Разыгралась метель, с той лишь разницей, что на этот раз ветер вращался по солнцу – признак, что непогода скоро пройдет. Это уже начинает надоедать, и я не шутя начинаю опасаться, что «Фрам» придет домой раньше нас. Вчера предпринял прогулку по острову. Видел много гусиного помета, а в одном месте даже белые скорлупки – несомненно от гусиных яиц. Назвали остров Гусиным»[349].
«Вторник, 2 июня. По-прежнему не можем никуда двинуться из-за непогоды. Сегодня ночью и днем ветер был сильнее прежнего. Только к вечеру начало понемногу стихать; небо по временам проясняется. Проглядывает солнце. Надеемся, что на этот раз не шутя наступит перемена к лучшему. Лежим здесь в снежном сугробе, все больше и больше мокнем и думаем о том, что вот уже июнь, на родине так хорошо сейчас, а мы прошли не дальше этого места. Но теперь, конечно, уже недолго ждать. Скоро и мы будем там… Нет, лучше не думать об этом. Только бы нас не опередил «Фрам»! Если он вернется раньше, каково будет тем, кто ждет и не дождется нас дома»!
В среду, 3 июня, наконец, смогли двинуться дальше. Но теперь западный ветер пригнал лед к берегу, и не стало более открытой воды, по которой можно идти к югу, продвигались вдоль земли по льду. Ветер дул с севера, и мы, поставив паруса на нарты, шли довольно быстро. Встретилось на льду несколько моржей. На воде их тоже было порядочно; они бесстрашно высовывали головы из трещин и все время хрюкали на нас.
Лед был удивительно тонкий и рыхлый, по мере продвижения к югу он становился все более дряблым. Массы снега, лежавшие на нем, отягощали лед настолько, что везде под снегом проступала вода. Необходимо было как можно скорее добраться до земли, так как южнее путь, по-видимому, еще хуже. На лыжах все-таки удавалось кое-как держаться на снегу, хотя частенько нарты и лыжи проваливались, и стоило немалых усилий вытащить их на более прочный лед.
Наконец, подошли к подножию высокой отвесной базальтовой скалы, сплошь усеянной люриками[350]. В первый раз за все путешествие мы увидели такое огромное скопление этих птиц; раньше они попадались только отдельными парами. Сочли это за признак приближения к более обитаемым областям. Рядом с базальтовой скалой, к юго-востоку от нее, находилась небольшая скала, где гнездились глупыши (Procellaria glacialis). Запасы провианта стали заметно сокращаться. В последнее время очень надеялись на встречу с медведем; но теперь, когда мы в них нуждались, медведи, разумеется, не приходили. Надо было попробовать настрелять хотя бы птиц. Люрики летали слишком высоко, и удалось раздобыть только пару глупышей.
Проходя затем мимо лежавших на льду моржей, мы решили поэтому не пренебречь и таким блюдом и выстрелили по одному из них. Морж был убит наповал. Когда раздался выстрел, остальные звери слегка приподняли головы, но тотчас же опустили и опять задремали. Свежевать добычу в окружении этих тварей было, конечно, немыслимо: следовало как-нибудь спровадить их в воду. Двинулись к ним с криком и гиканьем, но они лишь тупо глядели на нас и не трогались с места. Тогда стали тыкать в них лыжными палками. Тут моржи рассердились и стали бить клыками в лед так, что полетели осколки, но двинуться с места не желали. Мы продолжали колоть и бить их, наконец удалось прогнать все стадо. Но произошло это не так-то скоро. Моржи не спешили, они отступали с достоинством – медленно, один за другим, величественной процессией доковыляли до воды, еще раз оглянулись на нас, недовольно похрюкали и затем бултыхнулись в воду[351].
Моржи отступали с достоинством
Пока сдирали шкуру и резали на куски их товарища, они беспрестанно показывались в трещине по соседству, хрюкали и выкидывались на лед, как бы требуя от нас объяснений, отчета в нашем поведении. Вырезав солидные порции мяса и сала, сколько казалось необходимым на ближайшее время, мы еще запаслись моржовой кровью и расположились поблизости на привал, где сварили «кровяную кашу» – удивительное месиво из крови, рыбной и маисовой муки и сала.
На следующий день (в четверг, 4 июня) пошли по льду дальше на юг. Ветер все еще дул попутный, и нарты весело бежали под парусами. Подойдя к мысу, расположенному южнее, нашли открытую воду, простиравшуюся вплоть до покрытой ледником земли: пришлось спустить на воду каяки. Поплыли вдоль стены ледника по открытому морю – в первый раз за этот год[352].
Удивительное ощущение – снова держать в руках весла и видеть вокруг себя море, над которым стаями носятся птицы – люрики, кайры и моевки.
Земля была целиком укрыта ледником, и лишь в двух-трех местах на дневной свет выходили базальтовые скалы. На леднике виднелись морены. Немалым было наше изумление, когда на воде немного подальше от берега увидели стаю гаг. Некоторое время спустя увидели двух гусей, сидящих на берегу, и это зрелище позволило почувствовать себя вернувшимися на тракты цивилизации.
После двухчасовой гребли путь к югу снова преградил неподвижный лед: открытая вода повернула прямо на запад к земле, которую видели раньше; теперь ее закрыло туманом. Мы сильно колебались, какой путь выбрать: плыть ли по свободной воде на запад (этот путь должен был привести к Шпицбергену), либо, отказавшись от морского перехода, двигаться с нартами по ровному береговому припаю на юг. Хотя день был туманный, из-за чего видимость весьма сократилась, росло убеждение, что, продолжая путь по льду, мы в конце концов встретим чистую воду к югу от островов, среди которых теперь пробирались. Быть может, оттуда найдется более короткий путь к Шпицбергену. Между тем давно уже наступило утро нового дня (5 июня), и мы расположились на отдых, удовлетворенные тем, что прошли такое значительное расстояние к югу[353].
На следующий день (суббота, 6 июня) погода опять была туманная, так и не удалось разглядеть окрестностей. Дул сильный северный ветер. Двигаться по открытому морю на запад было бы более чем неосмотрительно; поэтому снова поставили паруса на нарты, и ветер понес нас лучше, чем когда-либо, по береговому припаю на юг. Временами нарты двигались без всяких усилий: мы оба стояли на лыжах – каждый около своих нарт, держась за руль (бамбуковую палку, крепко привязанную к носу каяков), и предоставляли ветру гнать нас вперед. При порывах ветра нарты просто летели, как пушинки. Случалось, конечно, тащиться немного и самим, но в общем недолго. Мы хорошо подвигались вперед и, чтобы дольше пользоваться попутным ветром, продолжали идти до поздней ночи. Пересекли широкий пролив[354], расположенный к югу от нас, и не остановились, пока не облюбовали себе стоянку близ острова, на южной стороне пролива.
На следующий вечер (в воскресенье, 7 июня) опять пошли дальше по льду на юг, при том же самом попутном северном «парусном» ветре. Хотелось добраться до земли, прежде чем придет время остановиться на новый привал, но она оказалась дальше, чем мы предполагали. Позже, уже за полдень (в понедельник, 8 июня), застигнутые штормом, вынуждены были остановиться на льду.
В моем дневнике за этот день записано: «По пути постоянно открываются на юге новые острова и земли. К западу от нас лежит большая, покрытая снегом земля; она, по-видимому, простирается довольно далеко к югу». Эта покрытая снегом земля казалась крайне загадочной; на ней нельзя было обнаружить ни одного темного пятна – повсюду сплошь лед и снег. Ясное представление о ее размерах трудно было составить, так как мы видели ее только по отдельным кускам, даже когда туман немного рассеялся. Высота ее казалась как будто незначительной, но по всему чувствовалось, что по протяженности она превосходит все земли, мимо которых нам пришлось пройти[355]. На востоке по мере продвижения вперед тоже открывались один за другим острова с проливами и фьордами, и их тщательно наносили на карту. Но и они не помогли выяснить, где же мы находимся. Загадка становилась все более неразрешимой. Виденное нами казалось просто сборищем малых островов и островков, и непосредственно между ними открывался вид на то, что мы считали большим морем, лежащим к востоку.
Здешний лед сильно отличался от того, который мы видели севернее, вблизи зимней хижины; он был гораздо тоньше и покрыт глубоким снегом. Идти по нему с нартами трудно. На следующий день (во вторник, 9 июня) снег стал вдобавок подлипать к лыжам и полозьям, и двигаться было еще тяжелее. Только благодаря попутному ветру мы, несмотря ни на что, шли вперед довольно быстро. И вот, когда, подгоняемые ветром, мчались с особенной быстротой и находились у самой земли, Йохансен вдруг провалился вместе с нартами. Лишь с большим трудом удалось ему пятясь против ветра, выкарабкаться с нартами на более прочный лед. Приближаясь к этому месту, я тоже заметил, что снег впереди имеет подозрительно темный цвет, и почувствовал, что лыжи начинают погружаться в него; к счастью, еще было время, чтобы успеть повернуться круче к ветру, и никакой беды со мной не случилось. Пришлось убрать паруса и сделать большой крюк к западу, прежде чем снова можно было продолжать путь под парусами.
На следующий день снег был все такой же талый, липкий, но ветер посвежел, и нарты неслись вперед с огромной скоростью. Так как земля, которая лежала к востоку от нас[356] и вдоль которой мы двигались теперь, повернула на юго-восток, то отошли от нее и направились к самому южному мысу другой земли, расположенной на юго-западе[357]. Все это запутывало нас чем дальше, тем больше. Мы полагали, что прошли в этот день 3 мили и считали себя под 80°08 северной широты, а между тем к югу от нас все еще виднелась земля. Если она будет тянуться в том же направлении и дальше, то, значит, мы не на Земле Франца-Иосифа. Пока же я все еще колебался насчет этого. При таком тумане разглядеть что-либо вдали было невозможно, и притом странно было то, что берег на восток от нас начинал как будто уклоняться в восточном направлении. Это, пожалуй, совпадало с направлением пролива Маркхема на карте Лей-Смита. В таком случае мы шли на юг по какому-то неизвестному проливу, которого не видел ни он, ни Пайер, и, следовательно, вычисленная долгота была вовсе не так уж далека от истинной. Но нет, не могли же мы на пути с севера пересечь открытые Пайером ледник Дове и многочисленные острова и не заметить их! Должно быть, это какая-нибудь земля, лежащая западнее, между Землей Франца-Иосифа и Шпицбергеном. Неужели карта Пайера до такой степени неверна?
Мне очень хотелось поскорее подойти к земле на юго-западе, но остановку пришлось все же сделать на льду, – до земли было слишком далеко. «Запасы истощаются. Мяса осталось всего на один день, а вокруг нет ничего живого, ни одного тюленя на льду, да и открытой воды нигде не видно. Как долго это еще продлится? Если мы в самое ближайшее время не доберемся до открытой воды, где есть дичь, дело может кончиться печально».
«Вторник, 16 июня. Последние дни так богаты событиями, что некогда было писать. Постараюсь сегодня наверстать упущенное. Погода великолепная, и солнце заглядывает в палатку. Перед нами расстилается голубое сверкающее море, и я лежу, воображая, что это июньское утро дома.
В пятницу, 12 июня, поставив паруса, тронулись в 4 ч утра. За ночь подморозило, и поэтому путь стал опять несколько лучше. Ночью дул ветер, и мы надеялись, что день будет хороший. Накануне вечером прояснилось, и, наконец, удалось хорошенько рассмотреть окружающие земли. Острова к востоку исчезли, с ними распростились еще накануне. Теперь видно также, что землю, находящуюся к западу от нас, прорезает широкий пролив[358] и что это, следовательно, не сплошная суша, как представлялось вначале.
Земля, находившаяся к северу от пролива, теперь так далека от нас, что я едва различаю ее.
Ветер почти совсем затих, да и лед становится все более и более неровным. Ясно, что мы вошли в смерзшийся плавучий лед. Идти стало труднее, нежели можно было ожидать. Судя по виду неба, дальше к югу должна была встретиться чистая вода. Пройдя немного, к нашей радости, услышали шум прибоя. В 6 ч утра остановились передохнуть. Взобравшись на торос для определения долготы, я увидел невдалеке и самую воду. С более высокого падуна (обломка глетчера), лежавшего чуть подальше, можно было рассмотреть, что она простирается по направлению к мысу, находящемуся на юго-западе. Хотя ветер принял более западное направление, все же мы надеялись проплыть вдоль кромки льда под парусами, а поэтому решили подойти к воде наикратчайшим путем. Вскоре были уже там, куда стремились; вот, наконец, опять перед нами расстилалась голубая водная поверхность. Не теряя времени, связали вместе наши каяки, подняли паруса и пустились в плавание. Надежды не обманули нас: каяки прекрасно шли под парусом в течение всего дня. Временами ветер так свежел и каяки с такой силой рассекали волны, что их заливало водой. Но мы двигались вперед, а раз так – что за беда, если и промокнем немножко! Вскоре миновали мыс[359], к которому направлялись, и здесь увидели, что земля поворачивает на запад. Кромка невзломанного берегового припая простиралась в том же направлении, и впереди была чистая вода. В отличном настроении поплыли дальше вдоль кромки. Наконец-то мы на южной стороне той земли, вдоль берегов которой пришлось идти столько времени и на которой провели долгую зиму».
Более чем когда-либо меня поражало то, что этот южный берег отлично согласовался с очертанием берега Земли Франца-Иосифа на карте Лей-Смита и вообще окрестностями его зимовья. Но я вспомнил карту Пайера и отбросил эту мысль.
Вечером пристали к кромке льда, чтобы немного поразмять ноги, – они совсем затекли от сидения в каяке в течение целого дня. Да кроме того, хотелось бросить взгляд на запад, посмотреть, каков там путь. При высадке возник вопрос о том, чем закрепить наши драгоценные суда.
– Возьмем один из ремней, – сказал стоявший на льду Йохансен.
– А выдержит ли он?
– Ну, как же! Он мне все время служил фалом для прикрепления паруса к нартам, – ответил Йохансен.
– Ну, да и много ли нужно, чтобы удержать эти легкие каяки? – согласился я, немного стыдясь своей излишней боязливости, и закрепил каяки самодельным брасом, или, проще говоря, ремнем, вырезанным из сырой моржовой шкуры.
Мы походили некоторое время взад и вперед по льду возле каяков. Ветер немного стих и стал еще более западным; сомнительно было, удастся ли использовать его в дальнейшем. Взобрались на один из ближайших торосов, чтобы решить этот вопрос. Вдруг Йохансен вскрикнул: «Каяки уносит!» Оба мы со всех ног бросились вниз. Но каяки отплыли уже довольно далеко и быстро удалялись: ремень наш лопнул. «Держи часы! – крикнул я, сунул часы Йохансену и побежал быстро, как только мог, сбрасывая с себя на бегу одежду, чтобы легче было плыть. Снять с себя все я, однако, не рискнул, боясь закоченеть. Я прыгнул в воду и поплыл. Ветер, дул со льда и без труда уносил легкие каяки с их высокими снастями. Они отошли уже далеко и с каждой минутой уплывали дальше. Вода была холодна, как лед, плыть в одежде было очень тяжело, а каяки все несло и несло ветром, куда быстрее, чем я мог плыть. Казалось более чем сомнительным, чтобы мне удалось их догнать. Но вместе с каяками уплывали все наши надежды: все наше достояние было сложено в каяках, мы не взяли с собою даже ножа. Так не все равно: пойду ли я, окоченев, ко дну или же вернусь назад без каяков?
Я напрягал все силы; устав, перевернулся и поплыл на спине. Видно было, как Йохансен беспокойно ходит взад и вперед по льдине. Бедняга! Он не мог устоять на месте и был в отчаянии оттого, что сам ничего не мог предпринять. Он мало надеялся, что мне удастся поймать каяки, но чем бы он помог, бросившись вслед за мной в воду? Потом он говорил, что худших минут никогда не переживал. Я же, вновь перевернувшись, увидел, что расстояние между мной и каяками сокращается; это придало бодрости, и я приналег с новыми силами. С каждой минутой, однако, руки и ноги коченели, теряли чувствительность, я понимал, что скоро уже не в силах буду двигать ими. Но теперь уже было не так далеко. Только бы выдержать еще немного, и мы будем спасены… Ия держался. Слабее и слабее становились удары, но расстояние тоже сокращалось. Забрезжила надежда, что я поймаю каяки. Вот, наконец, я мог достать одну из лыж, лежавшую поперек кормы. Я ухватился за нее, подтянулся к краю каяка и подумал: «Мы спасены!»
Спасены!
Рисунок
Затем я попытался влезть в каяк, но закоченевшее тело не слушалось меня. Было мгновение, когда мелькнуло в голове: «Все-таки слишком поздно; я плыл такую даль напрасно, – мне не влезть в каяк». Но через несколько секунд удалось-таки закинуть одну ногу за край стоявших на палубе нарт и кое-как вскарабкаться наверх. И вот я в каяке. Тело закоченело до такой степени, что я почти не в силах был грести. Да и нелегко было одному действовать веслом в связанных вместе каяках. Но и развязывать их не было времени. Я бы, наверное, окончательно замерз, прежде чем справился бы с этим делом. Оставалось грести изо всех сил, чтобы согреться, и я стал понемногу продвигаться против ветра к краю льда. Холод, казалось, лишил тело чувствительности, но когда налетали шквалы ветра, меня сквозь тонкую мокрую шерстяную фуфайку пронизывало насквозь. Я дрожал и стучал зубами, готовый потерять сознание, но продолжал все же работать веслом, смутно понимая, что смогу согреться к тому времени, когда пристану ко льду.
Впереди я заметил на воде двух кайр. Мысль раздобыть птицу на ужин была слишком соблазнительна: мы уже ощущали недостаток в пище. Я достал ружье и уложил птиц одним выстрелом. Йохансен, как он потом рассказывал, вздрогнул при звуке выстрела, он не мог сообразить, что там сталось со мной, и подумал, что произошло несчастье. Когда же он увидел, что я заворачиваю и вылавливаю птиц, то решил, что я рехнулся. Наконец, удалось дотянуть до кромки льда, но течением каяки отнесло далеко от того места, где мы пристали раньше. К счастью, прибежал Йохансен, он прыгнул в другой каяк, и вскоре мы подплыли к нужному месту. С большим трудом я выбрался на лед. Пока Йохансен стаскивал с меня мокрую одежду и натягивал на меня те немногие сухие вещи, которые еще оставались в запасе, я переминался с ноги на ногу, дрожа всем телом. Потом он разостлал на льду спальный мешок, и я заполз в него как можно глубже. Поверх мешка Йохансен набросил парус и все, что только мог найти, стараясь получше укрыть меня от холодного ветра. Долго я лежал так, содрогаясь от холода, пока мало-помалу по телу не стала разливаться теплота. Тем временем Йохансен устанавливал палатку и готовил ужин из кайр. А я мирно заснул. Йохансен дал мне спокойно выспаться.
Когда я проснулся, ужин давно был готов и подогревался на огне. Кайры и горячий суп скоро изгладили последние следы купания в ледяной воде.
Так как приливное течение было в этом месте весьма стремительно, а попутного ветра, который позволил бы идти под парусом, не было, пришлось выжидать смены течения (чтобы не идти против течения). Лишь поздним вечером следующего дня опять тронулись дальше. Шли на веслах довольно быстро до самого утра (14 июня), когда подплыли к большим залежкам моржей на льду.
Наши запасы мяса к этому времени совершенно иссякли, если не считать нескольких кайр, которых удалось убить в течение дня; сала оставалось несколько кусков. Больше всего, конечно, хотелось добыть медведя, но они не попадались. Приходилось удовлетворяться моржовым мясом. Причалив, под прикрытием тороса мы подошли к одному стаду почти вплотную. Легче всего было справиться с молодым моржом, а их здесь было много. Я убил сперва одного совсем маленького, потом еще одного. Взрослые звери при звуке первого выстрела вскочили и стали озираться вокруг. При втором – стадо устремилось в воду. Но самки не хотели покидать своих мертвых детенышей. Одна из них обнюхивала и подталкивала своего. Она не понимала, что с ним такое приключилось, видела только, что из головы у него течет кровь. Моржиха стонала и жалобно плакала, как человек. Наконец, когда стадо бросилось в воду, она тоже принялась толкать детеныша перед собой к воде. Боясь потерять добычу, я кинулся спасать ее. Но мать оказалась проворнее меня: она обхватила детеныша одним из передних ластов и с молниеносной быстротой исчезла с ним в глубине. То же самое сделала и вторая моржиха[360].
Все это произошло с такой быстротой, что я сообразить не успел и остался стоять у кромки льда, разинув рот. Я думал, что детеныши всплывут, но они исчезли. Пришлось пойти к другому стаду, где тоже были детеныши, и застрелить одного из них. Но, умудренный опытом, я убил также и мать. Трогательно было смотреть, как, прежде чем моя пуля пронзила ее, она склонилась над мертвым детенышем и обхватила его ластами, да так и застыла мертвая. Теперь у нас было мяса и сала вдоволь на долгое время, к тому же превкусного мяса: жареные лопатка и грудинка молодого моржа напоминали вкусом рагу из барашка. Вдобавок раздобыли еще дюжину кайр, и наша кладовая стала опять полна. Если бы понадобился еще провиант, на воде всегда можно было подстрелить кайр и другой съедобной дичи. Нужда миновала. Моржей здесь было без счета. Велики были их залежки на льду; еще больше их было в воде. В некотором отдалении море буквально кипело от моржей, больших и малых. Если я скажу, что мы видели их по меньшей мере сотни три, то ни в коем случае это не будет преувеличением.
Отплыли дальше мы на следующее утро (понедельник, 15 июня) в половине второго при чудной тихой погоде. Так как в море развелось много моржей, грести в одиночку было рискованно и решили на первых порах на всякий случай связать каяки. Теперь уже было известно, как назойливы бывают эти молодцы. Накануне они ныряли совсем рядом с каяками и долго следовали за нами по пятам, не причиняя, однако, никакого вреда. Я склонен был думать, что все это с их стороны одно любопытство, и полагал, что они в сущности не опасны. Но Йохансен сомневался в этом. Он напомнил, что мы уже имели случай убедиться в противоположном, и уверял, что осторожность во всяком случае не повредит. Весь день встречали стада моржей, которые иногда окружали каяки кольцом. Мы шли, придерживаясь кромки льда, и когда какой-нибудь морж подплывал слишком близко, причаливали ко льду там, где под водой выступала ледяная подошва[361]. Проплывали мы и мимо крупных лежбищ моржей и долго слышали за собой, как они ревели, словно коровы.
Пока плыли вдоль земли, все шло хорошо. Но, к несчастью, над землей висел плотный туман и невозможно было разобрать, пролив или ледник просвечивает сквозь него между темными пятнами скал. Очень хотелось получше рассмотреть эту землю, так как подозрение, что мы находимся поблизости от селения Лей-Смита, укреплялось[362]. Наша широта, так же как направление береговой линии и расположение островов и проливов, слишком хорошо согласовались с его данными, чтобы мыслимо было допустить существование другой такой же островной группы на небольшом расстоянии между Землей Франца-Иосифа и Шпицбергеном; такое сходство было бы чересчур замечательным. Кроме того, на дальнем западе виднелась земля, которая в таком случае могла находиться в самой непосредственной близости к Северо-Восточной Земле. Но как же тогда быть с картой Пайера? Йохансен справедливо доказывал, что Пайер не мог сделать таких грубых ошибок, какие приходилось в таком случае допустить[363].
Позже утром в течение некоторого времени мы гребли, не видя вокруг такого множества моржей, и поэтому чувствовали себя в относительной безопасности. Но вдруг на некотором расстоянии впереди нас из воды вынырнул какой-то одинокий бродяга. Йохансен, шедший впереди, причалил ко льду. Я, хотя и думал, что эта предосторожность излишняя, тоже готовился последовать его примеру. Но не успел: рядом со мной из воды вдруг поднялся морж, бросился к борту моего каяка и, положив передние ласты на палубу, попытался опрокинуть каяк, ударяя бивнями в борт. Я старался, как мог, сохранить равновесие и изо всех сил колотил зверя веслом по голове. Но он еще крепче вцепился в каяк и так накренил его, что палуба оказалась почти под водой. Затем морж отпустил каяк и высоко привстал в воде. Я схватил ружье, но в то же мгновенье морж повернулся и исчез так же быстро, как появился.
Все это произошло, как говорится, в мгновение ока, и я только что собирался сказать Йохансену, что мы благополучно отделались, как заметил вдруг, что ноги у меня мокрые. Я прислушался и услышал журчание набиравшейся в каяк воды. Повернуть его и пристать к ледяному выступу было делом нескольких секунд, но тут-то я и начал тонуть, так как каяк быстро наполнялся водой. Надо было побыстрее выбираться из него на лед. Край льда был высокий и рыхлый, я все же вскарабкался, а Йохансен, накренив тонущий каяк на правый борт так, что пробоина оказалась над водой, подвел его к такому месту, где край льда был пониже и где мы могли общими силами втащить каяк на лед. Все пожитки плавали внутри каяка, насквозь промокшие. Больше всего удручало то, что вода попала в фотографический аппарат; пожалуй, и драгоценные фотографии должны были погибнуть.
И вот сидим на льду, разложив вокруг себя для просушки наше имущество, в том числе и каяк, требующий – до новой встречи с моржом – основательного ремонта. Морж пропорол здоровую дыру, по крайней мере сантиметров в пятнадцать длиной. Хорошо еще, что своими клыками он не поранил мне ногу. Плохо бы нам пришлось, если бы мы успели отплыть подальше от края льда или же не находились почти рядом с таким удобным для высадки местом. Да, тогда бы мне, пожалуй, было несдобровать. Спальный мешок насквозь промок. Мы его хорошенько выжали, вывернули мехом наружу и отлично провели в нем ночь».
В тот же день вечером я записал:
«Сегодня мы починили мой каяк и залили все швы на обоих каяках стеарином. Теперь можно надеяться, что они не будут больше пропускать воду. Моржи расположились вокруг нас в воде и, сопя и хрюкая, пялят на нас свои большие круглые глаза. По временам они взбираются на край льда, будто намереваясь прогнать нас».
Глава тринадцатая
Встреча
«Вторник, 23 июня.
- Do I sleep? Do I dream?
- Do I wonder and doubt?
- Are thing what they seem?
- Or is visions about?[364]
Что произошло? Я все еще как-то не могу постичь этого. Как богата неожиданностями жизнь путешественника-исследователя! Несколько дней тому назад я плыл в ледяной воде, догоняя каяки и спасая нашу жизнь, отбивался от моржей, жил жизнью дикаря, так же как мы жили в течение года с лишним, и был уверен, что нам предстоит еще долгий путь по льду и морю через неведомые страны, прежде чем мы встретим какое-нибудь человеческое существо, путь, полный тех превратностей и разочарований, к которым мы уже так привыкли. И вдруг – я опять живу жизнью цивилизованного европейца, окруженный всем комфортом и всеми благами прогресса, имея в избытке воду, мыло, имея полотенца, чистую и мягкую шерстяную одежду, книги и все, о чем мы вздыхали больше года!
Было уже за полдень, когда я вылез 17 июня из палатки, чтобы приготовить завтрак. Я сходил к кромке льда, зачерпнул соленой воды для супа, развел огонь, покрошил мяса, положил его в котелок и уже начал снимать с одной ноги комаги, чтобы заползти снова в мешок, когда заметил, что туман над землей несколько поредел. Я решил, что весьма недурно воспользоваться случаем, обозреть немного окрестности, обулся снова и взобрался на соседний торос. С земли тянул слабый ветерок, принося с горы смешанный гул многих тысяч птичьих криков.
Я стоял, прислушиваясь к этим голосам кипучей жизни и наблюдая, как стаи кайр проносятся взад и вперед над головой. Взгляд скользил по берегу, то задерживаясь на миг-другой на голых темных утесах, то блуждая по холодным ледяным равнинам и глетчерам земли, которую я считал не видевшей до сих пор взора человеческого, не тронутой ногой человека, покоящейся испокон веков в своем арктическом величии под покровом тумана… Вдруг до моего слуха донесся звук, до того похожий на лай собаки, что я вздрогнул… Звук повторился раза два, не больше, но сомнения не было – это лаяла собака. Я напряг слух, но ничего больше не услышал, кроме того же кипучего гула тысяч птиц. Нет, я, вероятно, ошибся. Слышны были одни лишь кайры. И снова взор мой стал скользить по проливу и островам, лежавшим на западе. Но вот снова послышался лай, сначала отрывистый, потом заливчатый, громкий. Собаки лаяли в два голоса – один густой, другой более тонкий, звонкий. Сомнения больше не было. Я сразу вспомнил, что накануне дважды слышал треск, похожий на выстрел, но решил тогда, что это ломает лед…
Я закричал Йохансену, который еще спал, что с берега слышен лай собак.
Он выскочил из мешка и кубарем выкатился из палатки… Собаки?.. Сначала Йохансен не мог никак понять, что такое я говорю. Он решил сам взобраться наверх, чтобы послушать собственными ушами. Оставив его на торосе, я пошел доваривать завтрак. Раза два Йохансену, действительно, слышалось нечто вроде собачьего лая, но звуки эти тонули в шуме птичьих голосов, и в конце концов он стал уверять, что и я ничего другого не слышал. Мне пришлось сказать, что он может думать, как ему угодно, а я с нетерпением жду возможности поскорее проглотить завтрак и возможно быстрее тронуться в путь.
Я всыпал в суп последние остатки маисовой муки, уверенный, что к вечеру у нас будет мучной пищи вдоволь. Закусывая, мы рассуждали о том, кто бы это мог быть – соотечественники или англичане? Если это английская экспедиция, которая, когда мы уезжали, собиралась отправиться на Землю Франца-Иосифа, то что же нам тогда делать? «Ну, проведем с ними пару дней, – сказал Йохансен, – а затем отправимся дальше на Шпицберген: иначе ведь придется слишком долго ждать нашего возвращения домой». По этому вопросу мы оба пришли к единому мнению, порешив, конечно, раздобыть у них немного хорошего продовольствия на дорогу. Во время моего отсутствия Йохансен должен был остаться присмотреть за каяками, чтобы их не унесло вместе со льдом. Я взял лыжи, бинокль, ружье. Перед уходом решил еще раз взобраться наверх, послушать и наметить себе дорогу по неровному льду. Но ни звука более, похожего на собачий лай, – только гоготание и хохот кайр и люриков да резкие выкрики моевок. Не их ли, в самом деле, я слышал? Сбольшими сомнениями отправился я в путь.
И вдруг на снегу я увидел перед собой свежие следы. Это не мог быть песец; следы были слишком крупны. Собачьи? Но разве собака могла быть здесь ночью, на расстоянии каких-нибудь двухсот шагов от нас, и не залаять? Неужели мы могли не услышать ее? Все это казалось невозможным. Но чьи же тогда это следы? Волчьи? Одолеваемый самыми невероятными мыслями, полный то надежд, то сомнений, я шел вперед. Неужели все наши труды, все наши тревоги, страдания, лишения кончатся здесь? Просто не верилось. Однако… Из туманной страны сомнений вдруг ярко забрезжил свет надежды: до моего слуха снова донесся несколько раз лай, более ясно, чем прежде. И тут же все чаще стали встречаться по пути следы, которые могли быть только собачьими. Между ними попадались и следы песцов, но какими мелкими казались они рядом с собачьими! Затем долгое время не слышно было ничего, кроме птичьего гама.
Снова вернулись сомнения: не воображение ли подшутило надо мной? Но ведь замеченные мною самые что ни на есть подлинные собачьи следы не могли быть плодом воображения! Но если здесь были люди, то едва ли мы находимся на Земле Гиллиса или на какой-то новой земле, как думал я всю зиму. Тогда мы, значит, стоим на южной стороне Земли Франца-Иосифа и появившееся у меня несколько дней назад подозрение вполне правильно: мы прошли на юг через неизвестный пролив и вышли между островом Гукера и островом Нордбрук, а теперь находимся на этом последнем, – хотя это и не вязалось никак с картой Пайера.
С самыми странными, путающимися мыслями продвигался я, прокладывая путь к берегу среди массы торосов и бугров. И вдруг мне показалось, что я слышу человеческий голос, чужой голос, первый за три года!.. Сердце забилось, кровь прилила к голове. Я взбежал на торос и закричал во всю силу своих легких. За этим человеческим голосом, раздавшимся среди ледяной пустыни, за этой вестью жизни скрывалась родина и все то, что заключало в себе это слово. Родина стояла у меня перед глазами, пока я пробирался между ледяными глыбами и торосами так быстро, как только могли нести лыжи. Скоро я снова услышал крик, и с одного из ледяных хребтов разглядел темную фигуру, движущуюся между торосами. Это была собака; но за нею подальше двигалась другая фигура… Человек! Кто это мог быть? Джексон или один из его спутников? Или, быть может, кто-нибудь из моих соотечественников?
Мы быстрыми шагами приближались друг к другу; я замахал шляпой, он сделал то же. Я услыхал, что человек окликнул собаку. Прислушался – он говорил по-английски. Когда я подошел ближе, мне показалось, что я узнаю мистера Джексона, которого видел, помню, один раз. Я приподнял шляпу, мы сердечно протянули друг другу руки.
– How do you do?[365]
– How do you do?
Над нами нависал туман, отгораживавший от остального мира. У ног громоздился исковерканный сжатиями плавучий лед. Вдали сквозь туман маячил клочок земли. А кругом – только лед, глетчеры и туман. С одной стороны стоял европеец в клетчатом английском костюме и высоких резиновых сапогах, цивилизованный человек, гладко выбритый и подстриженный, благоухающий душистым мылом, аромат которого издалека воспринимало острое обоняние дикаря; с другой – одетый в грязные лохмотья, перемазанный сажей и ворванью дикарь, с длинными всклокоченными волосами и щетинистой бородой, с лицом настолько почерневшим, что естественный светлый цвет его нигде не проступал из-под толстого слоя ворвани и сажи, наросшего за зиму и не поддававшегося ни обмыванию теплой водой, ни обтиранию мхом, тряпкой и даже скоблению ножом. Ни один из нас не знал, кто, собственно, стоит перед ним и откуда он пришел.
– I am damn'd glad to see you.
– Thank you, I also. Have you a ship here?
– No, my ship is not here. How many are there of you?
– I have one companion at the ice-edge[366].
Продолжая говорить, мы пошли по направлению к земле. Я решил, что он узнал меня или во всяком случае догадался, кто скрывается под этой дикой внешностью, – вряд ли он мог так сердечно встретить совершенно незнакомого человека. Но вот, при каком-то оброненном мною слове, он вдруг остановился, пристально посмотрел на меня и быстро спросил:
– Arn't you Nansen?
– Yes. I am.
– By Jove! I am glad to see you[367].
И, схватив мою руку, он снова потряс ее. Лицо его озарилось самой приветливой улыбкой и темные глаза засветились радостью от столь неожиданной встречи.
– Where have you come from now?
– I left the Fram in 84° N. lat. after having drifted for two years and reached the 86°15 parallel, where we had to turn and make for Franz-Josef Land. We were, however, obliged to stop for the winter somewhere north here, and are now on our route to Spitzbergen.
– I congratulate you most heartily, you have made a good trip of, and I am awfully glad to be the first person to congratulate you and your return[368].
Он опять схватил мою руку и горячо потряс ее. Невозможно было приветствовать более искренне; это рукопожатие не было пустой формальностью. С английским гостеприимством он тотчас же заявил, что у него для нас «plenty of room»[369] и что он ожидает прибытия своего судна со дня на день. Под plenty of room, как я установил потом, он подразумевал несколько квадратных футов пола в его хижине, не занятых ночью его спящими товарищами. Но «в тесноте, да не в обиде».
Встреча с Джексоном
При первой возможности я спросил, что делается дома; Джексон сообщил, что два года назад, когда он уезжал, жена и дочь мои чувствовали себя превосходно. Потом я спросил о Норвегии, о ее политических делах, но об этом он ничего не знал, из чего я заключил, что все там обстоит благополучно.
Джексон предложил тотчас же отправиться за Йохансеном и за нашими вещами, но я ответил, что втроем нам будет тяжело дотащить нарты по этому исковерканному льду, и попросил, если у него достаточно людей, послать несколько человек. Чтобы известить Йохансена о нашей встрече, мы дали по два выстрела каждый.
Вскоре мы встретили идущих навстречу нескольких человек, это были помощник начальника экспедиции мистер Эрмитедж (Armitage), химик и фотограф мистер Чайльд (Child) и доктор мистер Кетлитц (Koetlitz). Когда они приблизились, Джексон знаком дал им понять, кто я такой. Снова последовали сердечные приветствия. Потом мы встретили и других: ботаника мистера Фишера (Fisher), мистера Бургеса (Burgess) и финна Бломквиста (Blomqvist), настоящее его имя Мелениус. Фишер впоследствии говорил мне, что еще издали, увидав человека на льду, он сразу же подумал, что это должен быть я, но, когда разглядел меня, то отверг эту мысль: он слыхал, что я блондин, а увидал черномазого, с черными, как крыло ворона, волосами и бородой.
Когда все собрались, Джексон сказал, что я достиг 86°15 северной широты, и из семи здоровых глоток вырвалось в мою честь троекратное английское «ура», так, что эхо прокатилось над торосами. Джексон тотчас послал товарищей взять нарты и отправиться к Йохансену, а мы пошли к дому экспедиции, который, приглядевшись, я стал различать на берегу.
Джексон сказал, что у него есть письмо ко мне из дому; он брал его с собой, отправляясь на Север и прошлой весной и нынешней на случай, если мы встретимся. В разговоре выяснилось, что в марте Джексон лишь немного не дошел до нашего зимовья[370]. Ему пришлось вернуться, так как путь преградила открытая вода, та самая открытая вода, темный отблеск которой мы видели всю зиму. Только когда мы подошли к дому, Джексон спросил о «Фраме» и нашем дрейфе, и я вкратце рассказал ему нашу сагу. Впоследствии он признался, что все время с момента встречи был уверен, что корабль наш погиб и что мы двое – единственные, оставшиеся в живых. Джексону показалось, что он подметил печаль на моем лице, когда в первый раз спросил о «Фраме», и боялся снова касаться этой темы. Потихоньку он предупредил своих товарищей, чтобы они меня ни о чем не расспрашивали. Только случайно из разговора он понял, что ошибся, и тогда стал подробно расспрашивать о «Фраме» и остальных членах экспедиции.
Эльмвуд, станция Джексона на мысе Флора
Мы подошли к дому, низкой бревенчатой русской избе, стоявшей на плоской береговой террасе, под горой, метров на 15 выше уровня моря. Рядом находились конюшня[371] и четыре круглые напоминавшие палатки дощатые постройки, где хранилось снаряжение. Мы вошли: теплое и уютное гнездо среди этой зимней пустыни; стены и потолок были обиты зеленым сукном, кругом висели фотографии, гравюры и литографии, повсюду полки с книгами и инструментами; под крышей сушились одежда и обувь, а в маленькой печке посреди комнаты приветливо мерцали горячие угли. Странное чувство охватило меня, когда я опустился на удобный стул среди всей этой непривычной обстановки. По одному мановению изменчивой судьбы сняты с сердца вся ответственность, все заботы, тяготевшие над нами три долгих года; я был у верной пристани, хотя и среди льдов, все тревоги, вся тоска этих трех лет улеглись, затихли, убаюканные сиянием грядущего дня. Долг исполнен, труд закончен. Теперь ты можешь отдыхать, отдыхать и – ждать. Только бы «Фрам»…
Нансен на мысе Флора у дома Джексона
Мне вручили тщательно запаянную жестянку; тут были письма из Норвегии двухлетней давности. Руки мои дрожали и сердце билось, когда я вскрывал ее, – там были весточки, одни только хорошие весточки из дому. Удивительное чувство мира и покоя наполнило душу.
Йохансен по прибытии на мыс Флора
Мало-помалу я узнавал все новое, случившееся в мире за первый год после нашего отъезда. Затем был подан обед. Скаким наслаждением я ел хлеб, масло, пил кофе с молоком и сахаром, лакомился всем, без чего мы за эти долгие месяцы научились обходиться и к чему тем не менее так стремились! Но высшая степень блаженства наступила, когда я смог сбросить с себя грязные лохмотья, принять горячую ванну и стать, насколько это возможно с первого раза, чистым. Затем я переоделся с ног до головы в чистое и мягкое платье, остриг длинные волосы, сбрил всклокоченную бороду, и вот – снова проглянул европеец. Как невыразимо приятно было надеть платье, не перемазанное жиром, а главное – двигаться, не чувствуя, что при каждом движении одежда прилипает к телу!
Вскоре прибыли Йохансен и остальные люди с каяками и нашими пожитками. Йохансен рассказал, что добросердечные англичане приветствовали мощным «ура» его и норвежский флаг, развевавшийся на лыжной палке по соседству с грязной шерстяной рубашкой, привязанной, как я распорядился, к высокому бамбуковому шесту, чтобы легче было найти дорогу назад к палатке. На пути сюда англичане не позволили ему даже прикоснуться к нартам; он шагал рядом, как пассажир, находя, что из всех способов путешествия по дрейфующим льдам этот, несомненно, самый удобный. Его приняли в избушке не менее гостеприимно, и скоро он подвергся такому же превращению.
Я больше не узнаю своего товарища по долгой полярной ночи и тщетно ищу следов того оборванца, который шагал взад и вперед по пустынному берегу, у подножия обрывистых скал и темных базальтовых утесов, возле нашего зимнего логова. Грязный, перемазанный сажей пещерный человек исчез; вместо него на удобном стуле с книгой в руках сидит упитанный европейский буржуа – коммерсант, попыхивая короткой трубкой или сигарой, прилагающий все старания научиться поскорее говорить по-английски. Поразительно, что оба мы, с тех пор как покинули «Фрам», значительно прибавили в весе. Я весил теперь, по прибытии сюда, около 92 кг, примерно на 10 кг больше, чем перед уходом с «Фрама»; Йохансен весил 75 кг, т. е. прибавил в весе 6 кг. Таково, следовательно, действие зимы при питании одним медвежьим мясом и салом в арктическом климате. Это совсем не похоже на опыт других полярных путешественников; вероятно, мы обязаны этим нашей праздности в течение всей зимы.
Итак, мы живем здесь мирно и спокойно, ожидая прихода судна и того, что принесет нам будущее. Хозяева наши делают все, чтобы заставить нас забыть о зимних лишениях. Трудно было бы попасть в лучшие условия: беспримерное гостеприимство и дружелюбие проявляются решительно во всем, и наслаждение, испытываемое нами, не поддается описанию. Отсутствие ли в течение года человеческого общества, общность ли интересов сблизили нас так с этими людьми в этой пустынной стране? Мы говорим и не можем наговориться, и кажется, что мы знаем друг друга уже много лет, хотя на самом деле встретились в первый раз лишь несколько дней тому назад».
«Среда, 24 июня. Итак, прошло ровно три года с тех пор, как мы покинули родину. Сегодня вечером, когда все сидели за обедом, стремительно вбежал Хейуорд, повар, и крикнул, что возле дома бродит медведь. Мы вышли – Джексон с фотографическим аппаратом, я с ружьем. Из-под откоса виднелась голова медведя, обнюхивавшего воздух в направлении хижины; на почтительном расстоянии стояли и лаяли на него собаки. Когда мы подошли поближе, медведь вылез совсем наверх и пошел прямо к нам, потом остановился, оскалил зубы, зарычал и, повернувшись, медленно пошел назад к берегу.
Желая его несколько задержать, чтобы Джексон мог подойти ближе и снять несколько фотографий, я пустил пулю в зад медведю в ту самую минуту, когда он готов был скрыться под откос, вторую я всадил в левую лопатку. Окруженный несколькими собаками, зверь остановился. Собаки делались все смелее; пара пуль, выпущенных Джексоном из револьвера прямо в морду, привела медведя в совершенную ярость: он бросился на одну собаку– Мизеру, хватил ее лапой по спине и отшвырнул далеко на лед. Потом он схватил вторую за ногу и сильно разодрал ей один палец. Подвернувшуюся под лапу старую консервную жестянку медведь сплющил зубами и тоже закинул далеко в сторону. Зверь был вне себя от ярости. Пуля за ухо положила конец его неистовству. Это оказалась медведица; в сосках у нее было молоко. Однако она не была беременна и ни одного медвежонка мы поблизости не видали».
«Воскресенье, 5 июля. Вечером, когда Джексон и доктор ушли на гору пострелять кайр, собаки подняли вдруг страшный гам. В особенности рычал и выл самым подозрительным образом Нимрод, привязанный у стены избы. Эрмитедж вышел. Спустя некоторое время он спокойно вернулся и спросил, не хочу ли я убить медведя. Я пошел с ним, захватив ружье и фотографический аппарат. Медведь избрал своим убежищем небольшой торос к югу от дома. Он растянулся плашмя на самой верхушке, а Мизер и пара молодых собак стояли полукругом у подножия тороса и усердно лаяли.
Когда мы приблизились, медведь бросился бежать по льду Расстояние было велико, но все же ему вдогонку пустили несколько пуль, надеясь, что какая-нибудь попадет и задержит его. Мне удалось угодить ему в заднюю часть тела, и зверь поспешил укрыться на вершине другого тороса. Тут я смог подойти ближе. Медведь был сильно разъярен; когда я подошел к подошве тороса, на котором он стоял, зверь оскалил зубы, зафыркал, и, казалось, будто он хочет прыгнуть мне прямо на голову. Я мигом схватил ружье вместо фотографического аппарата. Тем временем медведь соскреб рыхлый снег у себя из-под ног, чтобы иметь более надежную опору для прыжка. Но он так и не прыгнул. Я снова сменил ружье на фотографический аппарат. С другой стороны подоспел со своим фотографическим аппаратом Джексон. Сделав достаточное количество снимков, мы застрелили медведя. Это была на редкость огромная медведица».
Медведица на мысе Флора
Одним из первых дел по прибытии на станцию мистера Джексона была, конечно, сверка наших часов с хронометром. Мистер Эрмитедж был настолько любезен, что сделал для меня точные наблюдения времени. Оказалось, что мы были не так далеки от истины, как думали. Ошибка при установке часов равнялась примерно 26 минутам, что составляет 6,5° долготы. Тщательная проверка, произведенная мистером Эрмитедж, показала, что и ход часов был именно таким, как мы предполагали. Благодаря этим сведениям теперь можно было довольно точно вычислить наши определения долготы. В моем распоряжении теперь снова было сколько угодно бумаги, рисовальных и письменных принадлежностей и все то, о чем мы мечтали прошедшей зимой; я почти сразу же принялся за составление наброска карты Земли Франца-Иосифа, такой, как она представлялась мне по моим наблюдениям. Мистер Джексон с готовностью предложил мне пользоваться составленной им картой той части земли, по которой он проходил[372]. Это избавило от большой работы по вычислению моих собственных наблюдений и пеленгов, сделанных в этой части земли.
Я очень благодарен Джексону и за всевозможные пособия: мореходные таблицы, морской календарь[373], рисовальные принадлежности.
Сопоставляя карты Пайера, Лей-Смита и Джексона с нашими наблюдениями, я составил свой набросок карты, здесь приложенной; карты Пайера и Джексона я изменял только в тех местах, где наши наблюдения существенно от них отличались. Результат представляет лишь предварительный набросок, тем более что я не имел времени более тщательно обработать наши наблюдения. Когда это будет сделано и когда я получу доступ ко всем материалам Пайера, можно будет, вероятно, создать более достоверную карту. Единственное назначение, которое, как мне кажется, может иметь предлагаемый набросок, – это дать приблизительное представление о том, что мы до сих пор называли Землей Франца-Иосифа, показать, что она разделена на массу островков, а вовсе не представляет собой больших сплошных масс земли.
Многое на карте Пайера почти полностью совпадало с нашими наблюдениями. Но загадка, над которой мы ломали голову всю зиму, оставалась по-прежнему нерешенной. Где же пролив Роулинсона, где ледник Дове и вся северная часть Земли Вильчека? Где острова, которые Пайер назвал островом Брауна, островом Гофмана и островом Фреден? Последний, правда, можно было принять за самый южный в открытой нами группе Белой Земли (Hvidten land); остров Гофмана, пожалуй, тоже можно было найти, но все остальное бесследно исчезло. Я долго размышлял над тем, как могла вкрасться подобная ошибка в карту такого человека, как Пайер, столь опытного топографа, чьи карты всегда носят на себе печать особой тщательности и точности. Я всегда восхищался его необычайно высокими качествами полярного исследователя. Пришлось вновь тщательно просмотреть его отчет о путешествии. Там нашлось ясное указание на то, что во время похода вдоль ледника Дове стоял густой туман, совершенно скрывавший землю. Но 7 апреля 1874 г. он писал: «На этой широте (81°23 ) Земля Вильчека как будто внезапно оканчивалась; но, когда солнце прогнало блуждавший над нею туман, мы увидели перед собой сияющее почти незапятнанной белизной плоскогорье необъятного ледника (ледник Дове). В северо-восточном направлении в затянутой туманом серой дали можно было проследить землю только до мыса Будапешт. Эта картина противоречила общему впечатлению от этой земли, которая в топографическом отношении имеет сходство со Шпицбергеном; ледники такой необычайной величины говорят о простирающейся за ними обширной земле»[374].
Я не нашел в описании путешествия Пайера никаких иных указаний, которые бы разъяснили загадку. Хотя, судя по этой выписке, можно заключить, что в этот день у Пайера была как будто ясная погода, все-таки, должно быть, над Белой Землей висели полосы тумана, соединяющие ее на юге с Землей Вильчека и уходящие на севере к Земле Кронпринца Рудольфа. Освещенные солнцем, эти полосы тумана могли сверкать так, что их легко было принять за ледники вдоль сплошной суши. Мне тем легче понять эту ошибку, что я сам чуть было не впал в подобную. Если бы 11 июня, как я уже рассказывал, погода к вечеру не прояснилась, мы не заметили бы пролива между островом Нордбрук и мысом Петерхэд (на Земле Александры [в действительности на Земле Принца Георга]) и остались бы в убеждении, что эта одна сплошная земля. Такой бы мы ее и нанесли на карту, не будь у нас каких-либо дополнительных данных.
Несколько раз я обсуждал с Джексоном, как нам назвать земли, по которым и вдоль которых нам пришлось идти.
Базальтовые столбы близ мыса Флора, где были найдены замечательные юрские окаменелости
Я спросил у него, не будет ли он против, если я назову землю, на которой мы провели зиму, островом Фредрика Джексона – это лишь слабый знак благодарности за оказанное нам гостеприимство. Мы первые нашли, что этот остров отделен проливом от земли, лежащей далее к северу и названной Пайером Землей Карла-Александра. Впрочем, я не хотел давать имена тем местам, которые Джексон видел прежде нас.
Местность вокруг мыса Флора оказалась очень интересной в геологическом отношении, и потому, как только позволяло время, я выходил на исследования иногда один, а чаще всего вместе с врачом и геологом английской экспедиции доктором Кетлитц[375]. Немало экскурсий совершили мы вместе с ним, пробираясь вверх и вниз по этим крутым скалам в поисках окаменелостей, которых в некоторых местах было очень много. От самого берега и до высоты 150–180 м почва состоит здесь из мягкой глины, которая содержит включения (желваки) красно-бурого глинистого песчаника, особенно изобилующие окаменелостями. Почва здесь так густо усыпана мелкими камнями, осыпавшимися с высоких базальтовых скал, что к ней оказалось очень трудно добраться. Вначале я утверждал, что глина представляет сравнительно молодое образование, но доктор неутомимо меня убеждал, что это мощные древние отложения, простирающиеся даже под базальтом и прикрытые им.
В конце концов, когда мы добрались до верха глинистого слоя, я принужден был уступить, так как убедился, что он действительно прикрыт базальтом. В особенности меня убедило, когда немного ниже я нашел в глине несколько тонких прослоек базальта.
Осмотр окаменелостей, состоящих главным образом из аммонитов и белемнитов[376], убедил меня, что глина относится к юрской эпохе. В нескольких местах доктор Кетлитц нашел в глине тонкие прослойки бурого угля. Встречалось также окаменелое дерево. Глинистую формацию покрывал слой базальта мощностью в 160–200 м, что само по себе было не менее интересно.
Этот базальт отличался от типических своей крупнозернистой структурой, что сближало его с базальтами Шпицбергена и Северо-Восточной Земли[377]. Но, кажется, на Земле Франца-Иосифа имеются и другие разности базальтов. Базальты, найденные нами севернее, вблизи мыса Мак-Клин-ток и на Гусином острове, были гораздо более крупнозернисты, чем здешние. Да и выходы базальта здесь, на острове Нордбрук и на окрестных островах, сильно разнились от тех, какие мы видели на севере. Здесь базальт встречался обыкновенно лишь на высоте 160–200 м над уровнем моря, тогда как на более северных островах – за 81 ° – он спускался до самого берега. Так, на джексоновском мысе Фишера, на 81 ° северной широты, он падал почти отвесной стеной в море. То же самое можно было заметить на мысе Мак-Клинто-ка, вблизи нашей зимней квартиры, на мысе, состоящем из столбообразных базальтовых отдельностей, у которого мы провели ночь 25 августа 1895 г., на мысе Клеменса Маркхема и на остром, как нож, выступе, к которому мы пристали в ночь с 16 на 17 августа. Насколько нам довелось рассмотреть, подобную структуру обнаруживал базальт и на южной стороне Земли Кронпринца Рудольфа.
На парусах близ мыса Мак-Клинтока
Всюду на севере, где бы мы ни были, я старался внимательно рассмотреть горные породы, разыскать ископаемые, которые могли бы помочь определить геологическую древность страны. Судя по тому, что было найдено здесь, на мысе Флора, большая часть базальта относится, по-видимому, к юрскому периоду, так как он лежит непосредственно на юрских слоях, а отчасти покрывается ими. Кроме того, вверху на базальте, как сейчас увидим, были найдены окаменелые растения, принадлежащие к позднеюрскому возрасту. Таким образом, Земля Франца-Иосифа может быть признана сравнительно древним образованием. Все эти горизонтальные базальтовые покровы, простирающиеся почти на одном уровне по всем островам, по-видимому, указывают, что здесь некогда существовала сплошная масса суши, которая, будучи предоставлена действию разнообразных эрозирующих сил – морозу, дождю, снегу, глетчерам, морю, с течением времени была раздроблена, разрушена и отчасти поглощена морем, так что от нее сохранились только отдельные острова и скалы, разделенные фьордами и проливами. Так как эти образования выказывают известное сходство с встречаемыми на Шпицбергене и Северо-Восточной Земле, то можно признать вероятным, что обе эти группы островов принадлежали первоначально к одной и той же массе суши (материку).
Было бы весьма интересно поэтому исследовать до сих пор неизвестную еще область, находящуюся между обоими этими архипелагами, – область, которую мы должны были пересечь, если бы не встретили Джексона и его экспедицию. Несомненно, там можно найти еще много нового, много неизвестных островов, быть может даже непрерывный ряд их, так что, пожалуй, встретилась бы известная трудность определить, где кончается один архипелаг и где начинается другой. Исследование этой области представляет задачу немалого научного значения, разрешить которую, надо надеяться, удастся экспедиции Джексона – Хармсворта.
Насколько далеко Земля Франца-Иосифа простирается к северу, определить с достоверностью трудно. Судя по нашим наблюдениям, представляется маловероятным, чтобы в этом направлении простиралась суша сколько-нибудь значительных размеров. Правда, Пайер, находясь на Земле Кронпринца Рудольфа, видел оттуда земли Петермана и Короля Оскара, одну к северу, другую к западу, но что Земля Петермана не может быть велика, доказывается, по-видимому, нашими наблюдениями, так как мы не видели никакой суши, когда по пути к югу проходили в близком расстоянии к востоку от нее; кроме того, когда мы были на широте Земли Петермана, лед, насколько мы могли наблюдать, беспрепятственно относило к западу. Что и Земля Короля Оскара тоже не может быть очень больших размеров, доказывается, по-моему, тем, что зимой и весной ветер беспрепятственно отгонял лед от суши, так что на севере и северо-западе едва ли может находиться значительная сплошная масса суши, которая служила бы препятствием для движения льда.
Еще труднее, пожалуй, определить, насколько архипелаг Земли Франца-Иосифа простирается к востоку. Судя по всему, что мы видели, Земля Вильчека не должна иметь большого протяжения; впрочем, возможно, что далее к востоку находятся еще неизвестные острова. Это даже представляется вероятным, так как в июне и июле 1895 г. мы почти неподвижно стояли на широте 82°05 , несмотря на постоянные северные ветры. Отсюда, по-видимому, следует, что к югу от нас находилась суша, препятствующая наподобие стены дальнейшему дрейфу льда к югу. Подробнее останавливаться на этом вопросе было бы, однако, бесполезно, так как, без сомнения, он также будет решен английской экспедицией.
Сильно заинтересовало меня на острове Нордбрук наличие ряда признаков, указывающих на изменение уровня моря. Я уже упомянул, что изба Джексона была построена на древней береговой полосе, или террасе, приблизительно на высоте 13–16 м над уровнем моря, но кроме этой можно было наблюдать и несколько других береговых террас, расположенных ниже и выше. Так, я нашел, что Лей-Смит, также зимовавший на этом мысу, возвел свое жилище на древней береговой полосе, находившейся на высоте 5,5 м над уровнем моря; в других местах я находил древнюю береговую линию на высоте приблизительно 26 м. Достигнув прошлой осенью самой северной части этой земли, я имел возможность наблюдать там такие же береговые террасы на различных уровнях (например, на острове Торуп); мы сами провели зиму на одной из таких террас.
В нескольких местах близ мыса Флора Джексон нашел скелеты китов. Так, недалеко от его избы на высоте 16 м лежал череп усатого кита Balaena, быть может, гренландского кита (Balaena mycticetus?). В другом месте, несколько севернее, были найдены части скелета, по-видимому того же вида.
Нижняя челюсть имела 5,5 м в длину, но интересно, что кости лежали на высоте 3 м над нынешней поверхностью моря. Я нашел также и другие указания на то, что море еще сравнительно недавно покрывало эти низкие береговые террасы. Последние были, например, во многих местах усеяны раковинами моллюсков (сходными с Муа truncata и saxicava). Значит, эта суша была подвержена таким же изменениям уровня, как и другие северные области, в том числе, как упоминалось раньше, и северное побережье Азии.
Во время одной из своих экскурсий Джексон и доктор Кетлитц обнаружили «нунатак»[378], возвышающийся над глетчером в северной стороне мыса Флора, и в нем слои сланца с растительными окаменелостями. Это открытие, разумеется, сильно заинтересовало меня, и 17 июля вместе с доктором Кетлитц я отправился на это место. Скала состояла из базальта, во многих местах обнаруживавшего ясную столбчатую отдельность; она выдавалась в середине глетчера на высоту приблизительно 200–230 м над уровнем моря. К сожалению, мы не имели времени измерить точно ее высоту. В двух пунктах на поверхности базальта находились пласты, состоящие из бесчисленных обломков песчаника. Почти на каждом из них можно было найти отпечатки растений, чаще всего сосновой хвои, а иногда также небольших листьев папоротника. Мы набрали большое количество этих драгоценностей и с тяжелой ношей, но довольные, возвратились к вечеру домой. Спустя несколько дней Йохансен во время лыжной прогулки набрел случайно на то же место и в свою очередь собрал там окаменелости, которые принес с собой. После моего возвращения на родину профессор Натхорст (Nathorst) исследовал эту коллекцию. Выяснилось, что Джексон и доктор Кетлитц сделали в данном случае в высшей степени интересную находку.
Окаменелые остатки юрских растений
Профессор Натхорст писал мне по этому поводу: «Несмотря на весьма фрагментарное состояние привезенных вами окаменелостей, они представляют большой интерес, позволяя нам впервые заглянуть в растительный мир последней части юрского периода в областях, лежащих к северу от 80°. Всего многочисленнее иглы сосны (Pinus), похожей на найденную в юрских отложениях Шпицбергена, Восточной Сибири и Японии Pinus Nordenskioldi (Heer), но, по всей вероятности, принадлежащей к другому виду. Попадаются также более узкие иглы какого-то другого вида, а также мужские цветы и фрагменты шишек[379] с несколькими семенами (рис. 1–3), из которых одно (рис. 1) напоминает Pinus Maakiana (Heer) из сибирской юры. Из остатков других хвойных деревьев следует упомянуть широколистную Taxi-tes, похожую на Taxites gramineus (Heer), которую находили особенно часто на Шпицбергене и в Сибири и которая имеет листья приблизительно такой же величины, как и растущая в настоящее время в Китае и Японии Cephalotaxus Fortunei. Представляют интерес также остатки рода Feildenia (рис. 4 и 5), известного до сих пор только в полярных областях. Он был найден впервые Норденшельдом в 1868 г. в третичных слоях близ мыса Старостина на Шпицбергене и описан Геером (Heer) под именем Torellia; позднее Фейльден нашел его во время английской полярной экспедиции 1875–1876 гг. в третичных слоях близ бухты Открытия (Discovery bay) на Земле Гриннеля, и Геер изменил тогда родовое название в Feildenia, так как название Torellia уже раньше было присвоено одной раковине. Затем в 1882 г. я нашел этот вид в верхних юрских слоях на Шпицбергене. Листья напоминают один из подвидов Nageia, существующего ныне рода Podocarpus.
Самыми замечательными экземплярами всей коллекции являются листья небольшого Ginkgo, из которых один сохранился в целости (рис. 6). Этот род со сливообразными семенами и, в противоположность другим хвойным, с настоящими листьями представлен сейчас только одним видом в Японии, но в прежние эпохи насчитывал многочисленных представителей во многих местностях. В продолжение юрского периода он процветал главным образом в Восточной Сибири; его находили также на Шпицбергене, в Восточной Гренландии (у пролива Скоресби) и во многих местах в Европе. В меловом и третичном периодах он встречался на 70° на западном берегу Гренландии. Добытый ныне лист принадлежит к виду, который мог бы быть назван Ginkgo polaris и является весьма родственным Ginkgo flabellata (Heer) из юрских отложений Сибири. Он несколько сходен с Ginkgo digitata (Lindl. et Hutton), в особенности с экземплярами, найденными в бурой юре Англии и Шпицбергена. Кроме этого вида, в коллекции находятся, по всей вероятности, еще один или два других, а также части листьев принадлежащего к семейству Ginkgo рода Czekanowskia, листья которого узки и похожи на хвою.
Папоротники представлены весьма скудно. Имеющиеся фрагменты принадлежат к 4 различным типам, но виды едва ли можно определить. Один фрагмент относится к Cladophlebis, встречающемуся в юрских отложениях; другой дает право отнести его к Thyrsopteris, найденному в юрских отложениях Восточной Сибири и Англии; третий – к Onychiopsis, характерному для верхней юры; четвертый, по-видимому, близок к Asplenium petruschinense, описанному Геером и найденному в юрских отложениях Сибири. Этот экземпляр замечателен тем, что клетки эпидермиса (клетки кожи) листа оставили на камне явственные отпечатки.
По своему богатству иглами хвойных, по бедности папоротниками и отсутствию цикадовых флора Земли Франца-Иосифа представляет в общих чертах такой же характер, как флора верхней юры на Шпицбергене, хотя виды несколько и различны. Подобно флоре Шпицбергена она не указывает на особенно благоприятный климат, хотя, конечно, последний был много мягче, чем в настоящее время. Отложение происходило, без сомнения, по соседству с хвойным лесом. Представленные образцы позволяют отнести эту флору скорее к верхней (белой) юре, чем к средней (бурой)»[380].
Бесспорно, это был внезапный и весьма резкий переход от долгой бездеятельной жизни в нашей зимней берлоге, где ничто не благоприятствовало научным занятиям, в этот настоящий научный оазис, где представлялись широкие возможности для научной работы, под руками находились книги и необходимые инструменты, а время досуга можно было посвятить разговорам на самые различные темы с людьми, имеющими те же научные интересы. В лице ботаника экспедиции мистера Гарри Фишера я нашел человека, горячо интересующегося фауной и флорой полярных стран. Его обстоятельные исследования растительного и животного царства, в особенности первого, как на суше, так и в море, несомненно, намного расширят наши сведения о существующих здесь биологических условиях. Не скоро я забуду приятные беседы с ним, когда он рассказывал о своих наблюдениях и открытиях. Его рассказы находили тем более ревностного слушателя, что я давно был лишен подобного удовольствия и представлял собой как бы высохшую ниву, которая после годичной засухи жадно впитывала в себя влагу.
Чайка в гнезде на скалах мыса Флора
Были у нас и другие развлечения. Когда мозг утомлялся от непривычной работы, я вместе с Джексоном отправлялся на склон горы пострелять кайр, которые кишмя кишели наверху под базальтовыми стенами. Сотнями сидели они на уступах и в нишах утесов. В некоторых местах гнездовали моевки. Здесь царила веселая жизнь и беспрестанное движение. Мы взбирались на высоту 150 м. Перед нами далеко расстилалось море и над ним стаями носились взад и вперед кайры. Иногда мы подбивали на лету одну-другую. При каждом выстреле эхо прокатывалось по скалистым ущельям, и тысячи птиц, шумя крыльями, с оглушительными криками бросались вниз с уступов, словно порыв ветра сметал с гор облако пыли. Мало-помалу птицы возвращались в свои гнезда, хотя некоторые падали на пути жертвами наших выстрелов. Это был «курятник Джексона», умевшего его использовать. Почти ежедневно слышались его выстрелы, и не было дня, чтобы к столу не подавались жареные кайры. Осенью англичане запасли немало битой птицы на зиму.
Иногда Джексон в обществе Бломквиста отправлялся наверх собирать яйца. Они брали с собой приставную лестницу, с помощью которой Джексон карабкался на отвесные утесы. Эти налеты на гнезда меня не прельщали: казалось, что недолго и шею себе сломать на этих шатких базальтовых обрывах, где из-под ног непрерывно катились камни. Словом, я этим спортом не увлекался. Не могу отрицать, однако, что яйца были превкусные. К завтраку они подавались всмятку, к обеду в виде яичницы. Но просто удивительно, до чего мне трудно было лазить по крутым склонам. Помню, когда я в первый раз лез за Джексоном на гору, через каждые сто шагов приходилось останавливаться и переводить дух. Очевидно, давало себя знать долгое сидение на одном месте, а может быть, и малокровие развилось за зиму, проведенную в нашем логове. Но дело было не только в этом: при одном взгляде с высоты на крутизну скал я испытывал неприятное чувство – начиналось головокружение, и было трудно спускаться вниз; я предпочитал садиться и съезжать вниз на собственных «салазках». Спустя некоторое время это неприятное чувство прошло, и я снова привык к высоте. Одышка у меня тоже уменьшилась, под конец я мог лазить вверх по скале совсем как все нормальные люди.
Между тем время шло, а английское судно не показывалось. Я и Йохансен начинали ощущать некоторое нетерпение; мы уже поговаривали между собой о том, что, быть может, судно не пробьется в этом году сквозь льды и экспедиции придется зимовать здесь. Мысль об этом вовсе не радовала: находиться так близко от дома и не иметь возможности добраться до него! Мы жалели, что не продолжали тотчас своего пути на Шпицберген, – тогда бы мы, пожалуй, находились уже на паруснике. Чего ради мы остались? Ну, этому, конечно, легко было найти объяснение. Хозяева были так любезны и радушны, что мы превзошли бы спартанцев, если бы устояли перед их приглашением. Мы столько испытали, прежде чем попали в теплое и уютное гнездо. Здесь все тяготы заключались лишь в том, чтобы сидеть и ждать. Но ждать тоже дело нелегкое, и мы снова стали всерьез подумывать: не тронуться ли в путь к Шпицбергену? Не поздно ли? Была уже середина июля, и хотя, вероятно, мы двигались бы довольно быстро, все же на пути могли встретиться непредвиденные препятствия, и прошел бы по крайней мере месяц, а то и больше, прежде чем мы достигли бы вод, где можно было рассчитывать встретить судно. Мы попали бы туда в середине, а то и в конце августа, когда парусники уходят домой. Если же мы не встретим судна в первые дни, то вряд ли сможем поймать его в сентябре, а тогда нам грозила еще одна зимовка. Нет, уж лучше остаться здесь – все-таки более вероятно, что судно придет. Самое лучшее время для плавания в здешних водах: август – начало сентября, когда больше всего открытой воды. На это мы и возлагали наши надежды. Итак, мы предоставили времени идти своим ходом. Кроме нас, еще несколько человек с нетерпением ждало судно. Пять участников английской экспедиции также должны были этим летом вернуться на родину после двухлетнего отсутствия.
«Понедельник, 20 июля. Мы все с большим нетерпением ждем судна. Но лед все еще сплочен. Джексон утверждает, что судно должно было придти сюда еще в середине июля, и, по его мнению, уже несколько раз было столько свободной воды, что оно могло пробиться. Я в этом сильно сомневаюсь; то, что отсюда, даже с высоты 150 м, видны отдельные разбросанные по морю льдины, ничего еще не говорит; южнее может стоять сплоченный лед, преграждающий путь судну. Однажды Джексон взобрался с доктором на самую вершину горы, но и оттуда им показалось, что льда к югу не так уж много. Все же и это меня не убеждает; весь предшествовавший опыт говорил за то, что на юге в море должно быть еще много льда. То, что, по словам Джексона, «Виндворд» в прошлом году в июле прошел сюда, не встретив льдов, еще не доказательство. Люди охотно обманывают самих себя!
В последние дни снова пригнало много льда с востока. Мне не терпится вырваться отсюда; что если мы будем заперты здесь на всю зиму?.. Как безрассудно мы поступили, оставшись! Почему было не продолжать идти к Шпицбергену? Мы были бы уже дома.
Глаз блуждает в бесконечной белой равнине; ни одной темной водной полосы: лед, лед и лед. Мы отрезаны от мира, от бьющей ключом жизни, от жизни, которую считали уже такой близкой.
Низко на горизонте висит полоска синих облаков – там далеко, далеко, за кромкой льда есть открытая вода, и, может быть, на зыби большого моря покачивается судно, которое должно понести нас к родным берегам, судно, которое передаст вести из дому, от тех, кто нам дорог…
Мечтай! Мечтай о родине, о красоте… Тщетно ты ищешь их, скитаясь здесь среди снегов и льдов, заблудившаяся птица. Мечтай же о золотых днях грядущей встречи!..»
«Вторник, 21 июля. Наконец подул с севера свежий ветер. Он прогнал лед в море. Сегодня вечером отсюда видно только открытое море; теперь, пожалуй, есть надежда скоро увидеть судно».
«Среда, 22 июля. Постоянны перемены и постоянны разочарования! Вчера сильна была надежда, сегодня ветер переменился на юго-восточный и опять пригнал льды к земле; быть может, нам долго еще придется ждать».
Глава четырнадцатая
Домой!
«Воскресенье, 26 июля. Наконец судно здесь! Утром я проснулся оттого, что кто-то дергал меня за ноги. Это был Джексон. Сияя от радости, он пришел сказать, что «Виндворд» пришел. Я вскочил и выглянул в окно. «Виндворд» находился уже у самой кромки льда и медленно подходил к земле, подыскивая место, где бы ему причалить. Странно как-то снова увидеть судно. Какими высокими кажутся его мачты! А корпус судна высится словно остров… Он привез вести из великого, далекого от нас мира.
Все пришло в движение. Все вскочили и, едва успев на себя что-нибудь накинуть, выглядывали из окон. Джексон и Бломквист, одевшись на скорую руку, выскочили из дому. Немного спустя прибежал запыхавшись Бломквист, посланный любезным Джексоном, и сообщил, что дома у меня все благополучно, но о «Фраме» пока ничего не слышно. Это было первое, о чем спросил Джексон. У меня словно гора с плеч свалилась.
Когда я подошел к судну, меня встретило ликующее «ура» всего экипажа, собравшегося на палубе. Славный капитан корабля Браун, корабельная команда, доктор Брюс и мистер Уилтон, которые оба собирались остаться вместе с Джексоном на зимовку, устроили мне самый сердечный прием. Спустились вниз, в просторную уютную кают-компанию. Я жадно впитывал все новости, поглощая одновременно великолепный завтрак со свежим картофелем и другими деликатесами. По правде говоря, я уже привык удовлетворяться меньшим».
Новости были поистине замечательные. Одной из первых было то, что теперь можно фотографировать людей сквозь двери в несколько дюймов толщиной[381]. Должен признаться, что при этой новости я навострил уши. Замечательно было уже и то, что можно сфотографировать засевшую в теле пулю, но это было ничто в сравнении с фотографированием людей сквозь двери. Затем я услыхал, что японцы побили китайцев, и еще много других новостей. Не менее удивительно было то, что весь мир заинтересовался теперь Арктикой: Шпицберген сделался излюбленным местом туристов, и норвежское пароходное общество (Вестераланское) установило со Шпицбергеном регулярное пассажирское сообщение[382]. Там выстроена гостиница, существует почтовая контора, и даже выпущены шпицбергенские почтовые марки. В данное время там находится швед Андрэ[383], который ждет попутного ветра, чтобы лететь к полюсу на воздушном шаре. Если бы мы добрались до Шпицбергена, то сами все это увидели бы. Мы попали бы в гостиницу, встретили туристов, и нас отвезли бы домой на комфортабельном пароходе новейшей конструкции. Это было бы, пожалуй, получше того промыслового судна, о котором мы мечтали в течение всей зимы и всего прошлого года.
Люди обычно не прочь посмотреть на самих себя со стороны, и я тоже не составляю исключения из этого правила. Дорого дал бы я, чтобы увидеть нас обоих в том немытом, неподдельно-естественном виде, в каком мы вылезли из нашего логова, очутившимися среди толпы английских туристов обоего пола. Сомневаюсь, чтобы на нашу долю выпало много объятий или shake hands [дословно: показать рукой, обменяться рукопожатием], но ничуть не сомневаюсь, что на нас стали бы глазеть во все дверные щелки и замочные скважины, к каким только можно было бы получить доступ.