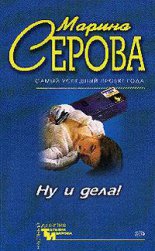Тургенев без глянца Фокин Павел

Иван Сергеевич Тургенев. В записи Н. А. Островской:
Я рассердился, но заметил ему еще довольно сдержанно: «Во-первых, почем вы знаете, что моя дочь такая, а во-вторых, если вы и думаете об ней дурно, вы все-таки не должны бы были так говорить при мне». А он что же выговорил! «Если бы, – говорит, – она была ваша законная дочь, вы бы ее иначе воспитывали!» Тут уж я света не взвидел, сказал ему что-то вроде того, что размозжу ему голову, хлопнул дверью и выбежал вон из комнаты.
Софья Андреевна Толстая. Со слов Л. Н. Толстого. Запись 23 января 1877 г.:
Тургенев рассердился и вдруг сказал: «А если вы будете так говорить, я вам дам в рожу».
Афанасий Афанасьевич Фет:
С этим словом он вскочил из-за стола и, схватившись руками за голову, взволнованно зашагал в другую комнату. Через секунду он вернулся к нам и сказал, обращаясь к жене моей: «Ради бога, извините мой безобразный поступок, в котором я глубоко раскаиваюсь». С этим вместе он снова ушел.
Софья Андреевна Толстая. Со слов Л. Н. Толстого. Запись 23 января 1877 г.:
Л. Н. встал и уехал в Богослов, станция, находившаяся между нашим именьем – Никольским и именьем Фета – Степановкой. Оттуда Лев Николаевич послал за ружьями и пулями, а к Тургеневу письмо с вызовом за оскорбление. В письме этом он писал Тургеневу, что не желает стреляться пошлым образом, т. е. что два литератора приехали с третьим литератором, с пистолетами, и дуэль бы кончилась шампанским, а желает стреляться по-настоящему и просит Тургенева приехать в Богослов к опушке леса с ружьями.
Всю ночь Лев Николаевич не спал и ждал. К утру пришло письмо от Тургенева, что, напротив, он не согласен стреляться, как предлагает Толстой, а желает дуэль по всем правилам. На это Лев Николаевич написал Тургеневу: «Вы меня боитесь, а я вас презираю и никакого дела с вами иметь не хочу».
Иван Сергеевич Тургенев. Письмо к Л. Н. Толстому. Спасское-Лутовиново, 28 мая (9 июня) 1861 г.:
Ваш человек говорит, что Вы желаете получить ответ на Ваше письмо; но я не вижу, что бы я мог прибавить к тому, что я написал.
Разве то, что я признаю совершенно за Вами право потребовать от меня удовлетворения вооруженною рукой: Вы предпочли удовольствоваться высказанным и повторенным моим извинением – это было в Вашей воле. Скажу без фразы, что охотно бы выдержал Ваш огонь, чтоб тем загладить мое действительно безумное слово. То, что я его высказал, так далеко от привычек всей моей жизни, что я могу приписать это ничему иному, как раздражению, вызванному крайним и постоянным антагонизмом наших воззрений. Это не извинение, я хочу сказать – не оправдание, а объяснение. И потому расставаясь с Вами навсегда, – подобные происшествия неизгладимы и невозвратимы, – считаю долгом повторить еще раз, что в этом деле правы были Вы, а виноват я. Прибавляю, что тут вопрос не в храбрости – которую я хочу или не хочу показывать, – а в признании за Вами – как права привести меня на поединок, разумеется, в принятых формах (с секундантами), так и права меня извинить. Вы избрали, что Вам было угодно, и мне остается покориться Вашему решению.
Снова прошу Вас принять уверение в моем совершенном уважении.
Павел Васильевич Анненков:
На другой день Иван Сергеевич послал доверенного человека в соседнюю деревню к Толстому выразить ему глубочайшее сожаление о происшедшем накануне и, в случае если он не примет извинения, условиться о месте и часе их встречи и об условиях боя. Доверенное лицо не застало Толстого дома; он уехал в Тульскую губернию, в другую свою деревню, чуть ли не в известную Ясную Поляну. Доверенное лицо исполнило точно свое поручение. Толстой объявил, что драться с Тургеневым он теперь не намерен для того, чтобы не сделать их обоих сказкой читающей русской публики, которую он питать скандалами не имеет ни охоты, ни повода. Извинений Тургенева он, однако же, как было слышно тогда, не принял, а вместо того отвечал письмом, которое и дало повод Тургеневу сказать: «дело висело на волосок от дуэли, и теперь еще волосок не порвался»; он и порвался бы действительно.
Софья Андреевна Толстая. Со слов Л. Н. Толстого. Запись 23 января 1877 г.:
Прошло несколько времени. Лев Николаевич, живя в Москве, как-то раз пришел в одно из тех прелестных расположений духа, которое в жизни его находит на него иногда – смирения, любви, желания и стремленья к добру и всему высокому. И в этом расположенье ему стало невыносимо иметь врага. Он написал Тургеневу письмо, в котором жалел, что их отношения враждебны, писал, что «если я оскорбил вас, простите меня, мне невыносимо грустно думать, что я имею врага». Письмо было послано в Петербург, к книгопродавцу Давыдову, который имел дела с Тургеневым. Но оно не дошло еще до Тургенева, как он из Парижа написал Льву Николаевичу письмо, в котором упрекал его: «Вы всем рассказываете, что я трус и не хотел с вами драться. Так я требую за это удовлетворения и буду с вами драться, когда приеду в Россию» (что-то через 8 месяцев, кажется).
Иван Сергеевич Тургенев. Из письма П. В. Анненкову. Париж, 1 (13) октября 1861 г.:
Я имею вам сообщить не совсем веселое известие: после долгой борьбы с самим собою я послал Толстому вызов и сообщил его Кетчеру для того, чтобы он противодействовал распущенным в Москве слухам. В этой истории, кроме начала, в котором я виноват, я сделал все, чтобы избегнуть этой глупой развязки; но Толстому угодно было поставить меня au pied du mur[41] (Тютчевы могут вам подробно рассказать все) – и я не мог поступить иначе. Весною в Туле мы станем друг перед другом. Впрочем, вот вам копия моего письма к нему:
«М. г. Перед самым моим отъездом из Петербурга я узнал, что вы распространили в Москве копию с последнего вашего письма ко мне, причем называете меня трусом, не желавшим драться с вами, и т. д. Вернуться в Тульскую губ. было мне невозможно, и я продолжал свое путешествие. Но так как я считаю подобный ваш поступок, после всего того, что я сделал, чтобы загладить сорвавшееся у меня слово, – и оскорбительным, и бесчестным, то предваряю вас, что я на этот раз не оставлю его без внимания и, возвращаясь будущей весной в Россию, потребую от вас удовлетворения. Считаю нужным уведомить вас, что я известил о моем намерении моих друзей в Москве для того, чтобы они противодействовали распущенным вами слухам. И. Т.».
Вот и выйдет, что сам я посмеивался над дворянской замашкой драться (в Павле Петровиче), и сам же поступлю, как он… Но, видно, так уже было написано в книге судеб.
Софья Андреевна Толстая. Со слов Л. Н. Толстого. Запись 23 января 1877 г.:
Лев Николаевич написал ему, что это так смешно и глупо вызывать драться через 8 месяцев, что я на это могу ответить вам тем же презрением, как и прежде, а если вам нужно себя оправдать перед публикой, то посылаю вам другое письмо, которое можете показывать кому хотите. В письме этом Лев Николаевич писал: «Вы мне сказали, что вы меня ударите по роже, а я отказался драться».
Письмо это было написано под влиянием чувства, что если у Тургенева нет личной настоящей чести, а нужна честь для публики, то вот ему для этого это письмо; но что Лев Николаевич стоит выше этого и мнение публики презирает. И на это Тургенев сумел быть слаб. Он отвечал, что считает себя удовлетворенным.
Павел Васильевич Анненков:
Оказалось, что вся история о письме и весь слух об изворотливости и трусости Ивана Сергеевича суть не более, как произведения фантазии чьего-то досужего ума.
Иван Сергеевич Тургенев. Из письма П. В. Анненкову. С.-Петербург, 26 октября (7 ноября) 1861 г.:
Я получил от Л. Н. Толстого письмо, в котором он объявляет мне, что слух о распространении им копии оскорбительного для меня письма есть чистая выдумка, вследствие чего мой вызов становится недействительным, – и мы драться не будем, чему я, конечно, очень рад.
Павел Васильевич Анненков:
Так и кончилось дело, которому и начинаться не следовало бы. Полное примирение между врагами произошло за год или за два до смерти одного из них, и притом произошло по письму гр. Л. Н. Толстого. <…> Тургенев сохранял до последнего дня своего воспоминания о нем как о трогательнейшем сердечном вопле человека, призывающего старые, простые, дружеские связи и сношения.
«Необыкновенная история» с Иваном Александровичем Гончаровым
Иван Александрович Гончаров. Из мемуарного очерка «Необыкновенная история»:
Еще с 1855 года я стал замечать какое-то усиленное внимание ко мне со стороны Тургенева. Он искал часто бесед со мной, казалось, дорожил моими мнениями, прислушивался внимательно к моему разговору. Мне это было, конечно, не неприятно, и я не скупился на откровенность во всем, особенно в своих литературных замыслах. Особенно прилежно он следил, когда мне случалось что-нибудь прочитывать.
Так, например, раздавая по журналам главы из своих путевых записок, я имел обыкновение прочитывать то, что было готово, нескольким человекам. Тургенева я не хотел обременять чтением этих легких описаний, однако он, как помню, узнав, что я буду читать какую-то главу у Майкова, приехал туда. Словом, он очень следил за мной – и это сближало меня с ним, так что я стал поверять ему все, что ни задумаю. И вот однажды, именно в 1855 году, он пришел ко мне на квартиру (в доме Кожевникова, на Невском проспекте, близ Владимирской) и продолжал, молча, вслушиваться в мои искренние излияния, искусно расспрашивать, что и как я намерен делать. («Обломова» написана была первая часть и несколько глав далее. Он уже знал все это подробно.) Я взял – да ни с того, ни с сего, вдруг и открыл ему, не только весь план будущего своего романа («Обрыв»), но и пересказал все подробности, все готовые у меня на клочках программы сцены, детали, решительно все, все. «Вот что еще есть у меня в виду!» – сказал я.
Он слушал, неподвижно, притаив дыхание, приложив почти ухо к моим губам, сидя близ меня на маленьком диване, в углу кабинета. Когда дошло до взаимных признаний Веры и бабушки, он заметил, что «это хоть бы в роман Гете». <…>
Я рассказывал, как рассказывают сны, с увлечением, едва поспевая говорить, то рисуя картины Волги, обрывов, свиданий Веры в лунные ночи на дне обрыва и в саду, сцены ее с Волоховым, с Райским и т. д., и т. д., сам наслаждаясь и гордясь своим богатством и спеша отдать на поверку тонкого, критического ума.
Тургенев слушал, будто замер, не шевелясь. Но я заметил громадное впечатление, сделанное на него рассказом. <…>
В 1857 году я поехал за границу, в Мариенбад, и там взял курс вод и написал в течение семи недель почти все три последние тома «Обломова», кроме трех или четырех глав. (Первая часть была у меня написана прежде.) В голове у меня был уже обработан весь роман окончательно – и я переносил его на бумагу, как будто под диктовку. Я писал больше печатного листа в день, что противоречило правилам лечения, но я этим не стеснялся.
С какою радостью поехал я со своею рукописью в Париж, где знал, что найду Тургенева, В. П. Боткина, и нашел еще Фета, который там женился на сестре Боткина.
Я читал им то или другое место, ту или другую главу из одной, из другой, из третьей части – и был счастлив, что кончил.
Тургенев как-то кисло отозвался на мое чтение. «Да, хоть и вчерне, а здание кончено, стоит!» – сказал он почти уныло, чем несколько удивил меня. <…>
Надо заметить, что во все это время, с 1855 по 1858 и 1859-й годы, Тургенев продолжал писать свои миниатюрные записки охотника и повести, кажется, «Ася», «Фауст», «Муму» и т. п., все, по большей части, прелестно рассказанные, обделанные, с интересными, иногда поэтическими деталями, например, описание Рейна в «Асе» и т. п. Но от него все ждали чего-то крупного, большого, и в литературе, и в публике!
А у него ничего большого не было и быть не могло. Он весь рассыпался на жанр. Таков род его таланта! Однажды он сам грустно сознался в этом мне и Писемскому. «У меня нет того, что у вас есть обоих: типов, характеров, т. е. плоти и крови!» И в самом деле, у него кисти нет, везде карандаш, силуэты, очерки, все верные, прелестные! И чем ближе к сельской природе средней полосы России, чем ближе к крестьянскому, мелкопомещичьему быту, тем эти очерки живее, яснее, теплее! Тут он необычайный художник, потому что рисует с натуры, свое, знаемое ему и им любимое! <…>
Однажды осенью, кажется, в тот же год, как я готовился печатать «Обломова», Тургенев приехал из деревни, или из-за границы – не помню, и привез новую повесть: «Дворянское гнездо», для «Современника». Он нанял квартиру в Большой Конюшенной, в доме Вебери, на дворе.
Все готовились слушать эту повесть, но он сказывался больным (бронхит) и говорил, что читать сам не может. Взялся читать ее П. В. Анненков. Назначили день. Я слышал, что Тургенев приглашает к себе обедать человек восемь или девять и потом слушать повесть. Мне он ни слова не сказал, ни об обеде, ни о чтении: я обедать и не пошел, а после обеда отправился, так как мы все, без церемонии, ходили друг к другу, то я нисколько не счел нескромным прийти вечером к чтению. <…>
Все знают «Дворянское гнездо»: теперь оно, конечно, по времени побледнело, но тогда произвело большой эффект.
Что же я услышал? То, что за три года я пересказал Тургеневу – именно сжатый, но довольно полный очерк «Обрыва» (или «Художника», как называли в программе роман). <…>
Стали судить, толковать, конечно, хвалить. Тут был весь кружок: Некрасов, Панаев, В. П. Боткин, Языков, Маслов, Тютчев – и, кажется, граф Лев Толстой.
Я дал всем уйти и остался с Тургеневым. Мне надо было бы тоже уйти, не говоря ни слова, и бросить этот роман совсем. Но этот роман была моя жизнь: я вложил в него часть самого себя, близких мне лиц, родину, Волгу, родные места, всю, можно сказать, свою и близкую мне жизнь. Пересказывая этот роман Тургеневу, я заметил, что, кончив «Обломова» и этот роман, т. е. Райского, я кончу все, что мне на роду написано, и больше ничего писать не буду. <…>
Я остался и сказал Тургеневу прямо, что прослушанная мною повесть есть не что иное, как слепок с моего романа. Как он побелел мгновенно, как клоун в цирке, как заметался, засюсюкал. «Как, что, что вы говорите: неправда, нет! Я брошу в печку!» <…>
Отношения с Тургеневым стали у нас натянуты. <…>
Мы сухо продолжали видеться. «Дворянское гнездо» наконец вышло в свет и сделало огромный эффект, разом поставив автора на высокий пьедестал. Так как оно писано было вскоре после рассказа моего, то и вышло полнее, сочнее, сложнее и колоритнее всего, что он написал прежде и после него. «Вот и я – лев! Вот и обо мне громко заговорили!» – вырывались у него самодовольные фразы даже при мне! Он везде бывал, все лезли к нему, всех он ласкал, очаровывал мягкостью, снисхождением, не пренебрегая ничьим вниманием, не скучая никакою назойливостью, водя за собой целый круг, принимая у себя во всякое время, прикармливая обедами, являясь повсюду, куда его ни звали. <…>
Мы продолжали, говорю я, видеться с Тургеневым, но более или менее холодно. Однако посещали друг друга, и вот однажды он сказал мне, что он намерен написать повесть и рассказал содержание… Это было продолжение той же темы из «Обрыва». <…>
Новая эта повесть, с продолжением темы из Райского, вышла под заглавием «Накануне», но я в печати ее не прочел, а знал только по рассказу Тургенева.
Иван Александрович Гончаров. Письмо к И. С. Тургеневу. Санкт-Петербург, 3 (15) марта 1860 г.:
Спешу, по обещанию, возвратить Вам, Иван Сергеевич, повесть «Накануне», из которой я прочел всего страниц сорок. Дочитаю когда-нибудь после, а теперь боюсь задержать: у меня есть другое дело.
На обе эти повести, то есть «Дворянское гнездо» и «Накануне», я смотрю как-то в связи, потому, может быть, что ими начался новый период Вашей литературной деятельности. Я даже беру смелость, судя и по тем сорока страницам, которые я прочел, заключить, каким чувством руководствовались Вы, когда писали и ту и другую вещь.
Извините, если скажу, что, не читая «Накануне», я считал Вас слабее и всего того значения не придавал Вам, какое Вы приобретаете этою повестью, по крайней мере в моих глазах и некоторых других, может быть. Мне очень весело признать в Вас смелого и колоссального… артиста. Желаю, чтоб Вы продолжали и кончили литературную карьеру тем путем, на который недавно так блистательно вступили.
Я помню, что Вы однажды было приуныли и как будто опустили крылья, но талант, к всеобщей радости, не дал Вам покоя, и благородные стремления расшевелились.
По прежним Вашим сочинениям я и многие тоже не могли составить себе определенного понятия о роде Вашего таланта, но по этим двум повестям я разглядел и оценил окончательно Вас как писателя и как человека.
Как в человеке ценю в Вас одну благородную черту: это то радушие и снисходительное, пристальное внимание, с которым Вы выслушиваете сочинения других и, между прочим, недавно выслушали и расхвалили мой ничтожный отрывок все из того же романа, который был Вам рассказан уже давно в программе.
Ваш искренний и усердный ценитель
И. Гончаров.
Не забудьте как-нибудь прислать мой носовой платок: извините, что напоминаю; Вы такой рассеянный и забывчивый.
Иван Александрович Гончаров. Из мемуарного очерка «Необыкновенная история»:
Мы с Дудышкиным продолжали пересмеиваться между собою, а Тургенев смущаться при намеках. Однажды я встретил Дудышкина на Невском проспекте и спросил, куда он идет. «К бархатному плуту (так звали мы его про себя) обедать». «Это на мои деньги (разумея гонорарий, полученный за повесть «Накануне»), – заметил я шутя, – будете обедать». «Сказать ему?» – спросил смеючись Дудышкин. «Скажите, скажите!» – шутя же заметил я, и мы разошлись.
Кто бы мог подумать, что Дудышкин сказал! А он сказал, да еще при пяти или шести собеседниках! Он думал, конечно, что Тургенев опять смутится, а он будет наслаждаться его смущением. Но Тургенев был прижат к стене: ему оставалось или сознаться, чего, конечно, он не сделает никогда, или вступиться за себя. На сцену, разумеется, появился Анненков, его кум, адъютант и наперсник. На другой день оба они явились ко мне, не застали дома и оставили записку, с вопросом, «что значат мои слова, переданные мною через Дудышкина?» Я пришел к Дудышкину и показал ему записку, спрашивая, в свою очередь, что значит эта записка?
«Вы ведь велели сказать ему ваши вчерашние слова», – робко заметил он. «Не может быть, чтоб вы не шутя это думали. А если б я попросил вас ударить его – вы ударили бы?» – сказал я.
Дудышкин понял, какую непростительную глупость сделал он. <…>
Я сказал ему только, что если это поведет к серьезному исходу, т. е. к дуэли, например, то я имею полное право рассчитывать на него, как на секунданта. Он согласился, но взял у меня записку, сказав, что повидается с Тургеневым и ответит ему, как за себя, так и за меня, без всякого для меня ущерба. Я заметил ему только, что от своих слов не отопрусь.
Я не знаю, или забыл теперь, что он говорил, помню только, что решено было с обеих сторон объясниться по этому делу окончательно, пригласив несколько других свидетелей. Пригласили, кроме Анненкова и Дудышкина, еще Дружинина и А. В. Никитенко – и объяснение произошло у меня. <…> Тургенев был очень бледен сначала, а я красен. Он боялся, что я энергично стану защищать, с доказательствами в руках, и напомню все последовательно, указав каждое место, какое взято, как оно изменено, в чем сходство и т. д.
Но я был смущен не менее его и не рад был, что затеялась вся эта история. Он, конечно, потребовал юридических доказательств, которых не было, кроме моей изветшавшей от времени программы, в которой я один только и мог добраться смысла. Когда мы уселись, то начали тем, что рассказали историю первой размолвки, с прочтением навязанного им мне письма, в котором упомянуто было кое-что из моего романа, а о том, что он хотел взять себе, умолчено. <…>
«Обмануть доверие товарища!» – говорил Тургенев, по мере того, как я сам, подавленный этой тяжелой сценой, слабо, в нескольких словах, сказал о том, какое сходство вижу у него и у себя – и неохотно вдавался во все мелочи, памятные мне и Тургеневу и утомительные для прочих. Я понимал, что всем им, как равнодушным людям, только скучно от всего этого и что привлечь их к мелочному участию я не могу. Дружинин и Никитенко старались умиротворить все общими фразами: «Вы оба честные, даровитые люди – могли, дескать, сойтись случайно в сюжетах; один, мол, то же самое изображает так, другой иначе»… и т. д.
Тургенев напирал на то, чтобы указать сходство в повести «Накануне», и наконец сказал, что я, верно, не читал ее. Это правда, но я не помнил его рассказ. «А вы прочтите, непременно прочтите!» – требовал он. Я обещал. По поводу этой повести он употребил грубый до смешного прием. Героиню там зовут Еленой, и у меня в плане вместо Веры прежде была Елена. «Если б захотел взять, так хоть имя-то переменил бы!» – сказал он.
Он приободрился, Анненков тоже стал ликовать, видя, что его патрон и кум выходит сух из воды.
Павел Васильевич Анненков:
После изложения дела, обмена добавлений сторонами замечания экспертов все сводились к одному знаменателю. Произведения Тургенева и Гончарова как возникшие на одной и той же русской почве должны были тем самым иметь несколько схожих положений, случайно совпадать в некоторых мыслях и выражениях, что оправдывает и извиняет обе стороны. И. А. Гончаров, казалось, остался доволен этим решением экспертов.
Иван Александрович Гончаров. Из мемуарного очерка «Необыкновенная история»:
Я молчал перед этой беззастенчивостью, видя, что я потерял всякую возможность обличить правду – и пожалел опять, что не бросил сразу все. Все мы встали. «Прощайте, – сказал я, – благодарю вас, господа, за участие». Тургенев первый взялся за шляпу, из бледного и смущенного он сделался красным, довольный тем, что я юридически доказать не могу его plagiate, как он выразился, не решаясь перевести слова на русский язык.
«Прощайте, И. А., – эффектно произнес он, – мы видимся в последний раз!» И ушел, торжествующий.
Павел Васильевич Анненков:
Не то, однако же, случилось с Тургеневым. Лицо его покрылось болезненной бледностью; он пересел на кресло и дрожащим от волнения голосом произнес следующее. Я помню каждое его слово, как и выражение его физиономии, ибо никогда не видел его в таком возбужденном состоянии. «Дело наше с вами, Иван Александрович, теперь кончено; но я позволю себе прибавить к нему одно последнее слово. Дружеские наши отношения с этой минуты прекращаются. То, что произошло между нами, показало мне ясно, какие опасные последствия могут являться из приятельского обмена мыслей, из простых, доверчивых связей. Я остаюсь поклонником вашего таланта, и, вероятно, еще не раз мне придется восхищаться им вместе с другими, но сердечного благорасположения, как прежде, и задушевной откровенности между нами существовать уже не может с этого дня». И, кивнув всем головой, он вышел из комнаты. Заседание наше тем самым было прекращено.
Иван Александрович Гончаров. Из мемуарного очерка «Необыкновенная история»:
Так мы и расстались на несколько лет, не встречались нигде, не кланялись друг другу. Я еще более уединился у себя. Я потом пробежал «Накануне»: и что же? Действительно, мало сходства! Но я не узнал печатного «Накануне». Это была не та повесть, какую он мне рассказывал! Мотив остался, но исчезло множество подробностей. Вся обстановка переломана. Герой – какой-то Болгар. Словом, та и не та повесть!
Александр Васильевич Никитенко. Из дневника:
29 марта 1860. Сегодня, в час пополудни, происходило это знаменитое объяснение. Тургенев был видимо взволнован, однако весьма ясно, просто и без малейших порывов гнева, хотя и не без прискорбия, изложил весь ход дела, на что Гончаров отвечал как-то смутно и неудовлетворительно. Приводимые им места сходства в повести «Накануне» и в своей программе мало убеждали в его пользу, так что победа явно склонилась на сторону Тургенева, и оказалось, что Гончаров был увлечен, как он сам выразился, своим мнительным характером и преувеличил вещи. Затем Тургенев объявил, что всякие дружественные отношения между им и г. Гончаровым отныне прекращены, и удалился. Самое важное, что мы боялись, это были слова Гончарова, переданные Дудышкиным; но как Гончаров признал их сам за нелепые и сказанные без намерения и не в том смысле, какой можно в них видеть, ради одной шутки, впрочем, по его собственному признанию, неделикатной и грубой, а Дудышкин выразился, что он не был уполномочен сказавшим их передать Тургеневу, то мы торжественно провозгласили слова эти как бы не существовавшими, чем самый важный casus casus belli отстранен.
Иван Александрович Гончаров. Из мемуарного очерка «Необыкновенная история»:
На похоронах Дружинина, на Смоленском кладбище, в церкви, ко мне вдруг подошел Анненков и сказал, что «Тургенев желает подать мне руку – как я отвечу?» – «Подам свою», – отвечал я, и мы опять сошлись, как ни в чем не бывало. И опять пошли свидания, разговоры, обеды – я все забыл.
Иван Сергеевич Тургенев. В записи Л. Н. Майкова. 1880 г.:
С Гончаровым я был очень и очень близок, но в последние годы он решительно сделался каким-то мономаном. Видеть и слышать меня или обо мне для него сделалось смертельною обидою. Представьте, что он, при свиданиях со мною, неоднократно обрушивался на меня с самыми раздражительными укорами в том, что будто бы я передаю всю сущность им задумываемых, еще только предполагаемых произведений (о которых, заметьте, я ничего не ведаю), передаю, – кому бы вы думали? – французским романистам Флоберу, Доде, Золя и другим!
Гончаров весьма образно передавал мне, указывая руками на те следы, которые он делает, и как в эти следы, по его уверению, французские писатели новейшей школы совершенно след в след за ним вступают, а причиной этому все я, Тургенев! Гончаров не шутя, с необыкновенным раздражением рассказывал, да и рассказывает весьма многим, что я подсылаю к нему, к Гончарову, соглядатаев, те подсматривают, что он пишет и как пишет; наконец, эти соглядатаи, подосланные то мною, то N. N., крадут у него со стола исписанные листы и пересылают их в Париж! Нередко, выйдя из квартиры, Гончаров быстро возвращается к себе, вспомнив, что он тот либо другой лист бумаги оставил у себя на столе. Он спешит к себе в квартиру. Тщательно убирает со стола бумагу и прячет под ключ. А однажды, не найдя какого-то листа, Гончаров написал самые резкие укоризны N. N., утверждая, что «в то время, когда я пишу к Вам это письмо, Вы, без сомнения, выкраденные у меня листы пересылаете уже в Париж, к Тургеневу».
Да, это полный недуг нервов, совершенная мономания и столь опасная, что она может привести к окончательной болезни и катастрофе. Да Бог, чтобы этого не случилось с таким прекрасным писателем, как Гончаров.
Дружба – дружбой, а деньги – врозь: Тургенев и Некрасов
Николай Гаврилович Чернышевский:
Тургенев до своей ссоры с Некрасовым, когда жил в Петербурге, заезжал к Некрасову утром каждый день без исключения и проводил у него все время до поры, когда отправлялся делать свои великосветские визиты; с визитов обыкновенно возвращался опять к Некрасову; уезжал и опять приезжал к нему, очень часто оставался у Некрасова до обеда и обедал вместе с ним; в этих случаях просиживал у Некрасова после обеда до той поры, когда отправлялся в театр или, если не ехал в театр, просиживал до поздней поры отправляться на великосветские вечера. Каждый раз, когда заезжал к Некрасову, он оставался тут все время, какое имел свободным от своих разъездов по аристократическим знакомым. Положительно, он жил больше у Некрасова, чем у себя дома.
Авдотья Яковлевна Панаева:
За 1848 и 1849 годы на «Современнике» накопилось много долгов, надо было их выплачивать, и потому среди 1850 года денег не было, а между тем Тургеневу вдруг понадобились две тысячи рублей. Приходилось занять, чтобы скорее удовлетворить Тургенева, который объявил Некрасову: «Мне деньги нужны до зарезу, если не дашь, то, к моему крайнему прискорбию, я должен буду идти в „Отечественные Записки“ и запродать себя, и „Современник“ долго не получит от меня моих произведений». Эта угроза страшно перепугала Панаева и Некрасова. Они нашли деньги при моем посредстве и за моим поручительством.
Не прошло и года, как из-за Тургенева произошла остановка в печатании книжки «Современника». Он должен был дать рассказ, но не прислал его и даже с неделю не показывался в редакцию, что было необыкновенно, так как он если не обедал у нас, то непременно приходил вечером. Некрасов волновался, два раза ездил к нему, но не заставал дома; наконец, написал ему записку, убедительно прося тотчас прислать рукопись. Тургенев явился и, войдя в комнату, сказал:
– Браните меня, господа, как хотите, я даже сам знаю, что сыграл с вами скверную штуку, но что делать, вышла со мной пренеприятная история. Я не могу дать вам этого рассказа, а напишу другой к следующему номеру.
Такое неожиданное заявление ошеломило Некрасова и Панаева; сначала они совсем растерялись и молчали, но потом разом закидали Тургенева вопросами: как? почему?
– Мне было стыдно показываться вам на глаза, – отвечал он, – но я счел мальчишеством далее водить вас и задерживать выход книжки. Я пришел просить, чтобы вы поместили что-нибудь вместо моего рассказа. Я вам даю честное слово написать рассказ к следующему номеру.
Некрасов и Панаев пристали, чтоб он объяснил им причину.
– Даете заранее мне слово никогда не попрекать меня?
– Даем, даем, – торопливо ответили ему оба.
– Теперь мне самому гадко, – произнес Тургенев, и его как бы передернуло; тяжело вздохнув, он прибавил: – Я запродал этот рассказ в «Отечественные Записки»! Ну, казните меня.
Некрасов даже побледнел, а Панаев жалобно воскликнул:
– Тургенев, что ты наделал!
– Знаю, знаю! все теперь понимаю, но вот! – и Тургенев провел рукой по горлу, – мне нужно было 500 рублей. Идти просить к вам – невежливо, потому что из взятых у вас двух тысяч я заработал слишком мало.
Некрасов дрожащим голосом заметил: «Неуместная деликатность!»
– Думал, может, у вас денег нет.
– Да 500 рублей всегда бы достали, если бы даже их не было! – в отчаянии воскликнул Панаев. – Как ты мог!..
Некрасов в раздражении перебил Панаева:
– Что сделано, то сделано, нечего об этом и разговаривать… Тургенев, тебе надо возвратить 500 рублей Краевскому.
Тургенев замахал руками:
– Нет, не могу, не могу! Если б вы знали, что со мной было, когда я вышел от Краевского – точно меня сквозь строй прогнали! Я, должно быть, находился в лунатизме, проделал все это в бессознательном состоянии; только когда взял деньги, то почувствовал нестерпимую боль в руке, точно от обжога, и убежал скорей. Мне теперь противно вспомнить о моем визите!
– Рукопись у Краевского? – спросил поспешно Некрасов.
– Нет еще!
Некрасов просиял, отпер письменный стол, вынул оттуда деньги и, подавая их Тургеневу, сказал: «Напиши извинительное письмо».
Тургенева долго пришлось упрашивать; наконец он воскликнул:
– Вы, господа, ставите меня в самое дурацкое положение… Я несчастнейший человек!.. Меня надо высечь за мой слабый характер!.. Пусть Некрасов сейчас же мне сочинит письмо, я не в состоянии! Я перепишу письмо и пошлю с деньгами.
И Тургенев, шагая по комнате, жалобным тоном восклицал:
– Боже мой, к чему я все это наделал? Одно мне теперь ясно, что где замешается женщина, там человек делается непозволительным дураком! Некрасов, помажь по губам Краевского, пообещай, что я ему дам скоро другой рассказ!
Тургенев засмеялся и продолжал:
– Мне живо представляется мрачное лицо Краевского, когда он будет читать мое письмо! – и, передразнивая голос Краевского, он произнес: – «Бесхарактерный мальчишка, вертят им, как хотят, в „Современнике“!» – Придется мне, господа, теперь удирать куда ни попало, если завижу на улице Краевского… О, господа, что вы со мной делаете.
Когда Некрасов прочитал черновое письмо, то Тургенев воскликнул: «Ну, где бы мне так ловко написать! Я бы просто бухнул, что находился в умопомешательстве, оттого и был у Краевского, а когда припадок прошел, то и возвращаю деньги».
С тех пор Тургеневу был открыт неограниченный кредит в «Современнике». <…>
Полистная плата Тургеневу с каждым новым произведением увеличивалась. Сдав набирать свою повесть или рассказ, Тургенев спрашивал Некрасова, сколько им забрано вперед денег. Он никогда не помнил, что должен журналу.
– Да сочтемся! – отвечал Некрасов.
– Нет! Я хочу, наконец, вести аккуратно свои денежные дела.
Некрасов говорил цифру Тургеневского долга.
– Ох, ой! – восклицал Тургенев. – Я, кажется, никогда не добьюсь того, чтобы, дав повесть, получить деньги – вечно должен «Современнику»! Как хочешь, Некрасов, а я хочу скорей расквитаться, а потому ты высчитай на этот раз из моего долга дороже за лист; меня тяготит этот долг.
Некрасов хотя морщился, но соглашался, а Тургенев говорил: «Напишу еще повесть и буду чист!»
Но не проходило и трех дней, как получалась записка от Тургенева, что он зайдет завтра и чтоб Некрасов приготовил ему 500 рублей: «До зарезу мне нужны эти деньги», – писал он.
Гавриил Никитич Потанин (1823–1910), писатель:
По поводу вражды к Некрасову Тургенева скажу следующее: Тургенев был в то время уже промотавшийся барин. Появляясь нередко из своего гнезда Парижа в Петербург, он занят был только одним – как бы наорать больше денег; за ними он чаще всего приходил к Некрасову как сотрудник «Современника» и крайне бесцеремонно обращался с своими требованиями: придет, возьмет, положим, пять сот у Некрасова, да еще от имени его явится в кассу к Панаеву и там возьмет столько же. У него была одна любимая поговорка: «Запишите в мой счет, Николай Алексеевич», и кончилось это записывание тем, что и счет ему потерялся, и Некрасов никак не мог добиться, кто кому должен: «Современник» Тургеневу или Тургенев «Современнику»? Это попрошайничество Тургенева до того надоело Некрасову, что он, всегда сдержанный и молчаливый, раз даже сказал мне:
– Не знаю, что делать с Тургеневым: замотался человек весь! Он без счету тащил из нашей кассы и до того, что не упомнит ничего. Придется, кажется, скоро эту барскую блажь унять, а кассу закрыть. И черт знает, куда он мотает столько денег? Не понимаю. Все, я думаю, ненасытная Виардо его обирает! Страсть, сколько денег у старой ведьмы, все старается последние штанишки стащить с несчастного Тургенева. Да, я думаю, вы помните то время, когда Виардо-Гарсиа пела в Петербурге? Сотни тысяч увезла русских денег в Париж. Да тогда простительно было ей нас обирать: была молода, хороша, и голос удивительный был… А теперь за что платит Тургенев этой стервозе?
А Тургенев «легок на помине».
Мы не успели еще кончить разговор об отношениях Виардо к Тургеневу, как в кабинет вбегает сам Иван Сергеевич. Всегда веселый и беспечный, как парижанин, он вместо того, чтоб спросить больного хозяина о здоровье, сразу начал свое:
– Денег, денег!.. Николай Алексеевич, давайте больше… до зарезу нужны!
– Деньги есть, Иван Сергеевич, – начал Некрасов холодно, – только не мешало бы нам счет вести… Скажите только: куда вы такую бездну денег тратите? Давно ли брали, опять пришли.
– Эх, милый Николай Алексеевич, это тоже пустой вопрос: Париж не Петербург: там люди только деньгами и живут; это вы здесь сидите на мешках, копейка не выпрыгнет даром, а там… – Тургенев махнул рукой.
– Положим, русские мешки крепки, – заметил Некрасов, – а все-таки и вам не мешало бы покрепче застегивать кошелек.
– Нет! я обычая не имею застегивать покрепче. Да и к чему? От кого?
– А разве баба ваша не заглядывает в него?
Тургенев покраснел и покосился на меня.
– Пощадите! О бабе моей не мешало бы отзываться поделикатнее: эта особа известна всему свету!
Некрасов улыбнулся, Тургенев вспылил:
– Да-с, именно достойная особа! Она не позволит себе заглядывать в мой кошелек, так же как я не позволю себе лазить в ее шкатулку.
Некрасов внушительно ответил:
– Не лазите, а чувствуете, что без денег жить нельзя. Повторяю: давно ли были, опять пришли.
– Да, да, пришел за делом, а не слушать вашу пустую мораль! Скажите просто: дадите мне денег или нет?
– Теперь нет. Вот на днях Панаев счеты сведет, тогда прошу пожаловать.
– Вот как! Что ж это значит? Вы Тургеневу не верите, так после этого я вас знать не хочу!
Тургенев схватил шляпу и убежал.
– Каков? – обратился ко мне Некрасов.
Но я так был озадачен выходкой Тургенева, что не нашелся что отвечать.
– Все родовое имение спустил на эту дрянь и еще сердится, что ему правду говорят. Совсем одурел человек, не видит и не чувствует, как она грабит его.
– Правда ли это? Молва гласит, что эта великодушная барыня содержит Тургенева на свой счет.
– Именно на свой! – засмеялся Некрасов. Мы молчали.
– Однако, пока вконец не рассвирепел человек, – без денег он зол, – не мешает сказать Панаеву, чтобы на днях в самом деле свел счеты Тургенева, и послать этому господину сколько-нибудь на пропитание; сам он теперь не поедет ко мне…
Но по счетам Панаева оказалось, что посылать Тургеневу ничего не приходится: Тургенев сам должен «Современнику» около 9 000 р. Вот что, собственно, вынудило Некрасова самого ехать к Тургеневу, предъявить счет и просить в уплату долга прислать к новому году роман. Но Тургенев, взглянув на счет, ответил категорически:
– Может быть, может быть, что я и больше должен вам по вашему счету, но у меня есть своя книжка, где тоже записан мой счет. Надеюсь, что позволите мне приехать на днях и проверить вас?..
– Можете, сколько угодно, – ответил небрежно Некрасов…
Через год я узнал, что Тургенев не приезжал, счетов не проверял и денег не заплатил.
Авдотья Яковлевна Панаева:
Привязанность Некрасова к Тургеневу можно было сравнить с привязанностью матери к сыну, которого она, как бы жестоко он ни обидел ее, все-таки прощает и старается приискать всевозможные оправдания его дурным поступкам.
Николай Алексеевич Некрасов. Из письма Л. Н. Толстому. Париж, 17 мая 1857 г.:
Я так его люблю, что, когда об нем заговорю, то всегда чувствую желание похвалить его как-нибудь, а бывало – когда-нибудь расскажу Вам историю моих внутренних отношений к нему.
Разрыв с «Современником»
Авдотья Яковлевна Панаева:
У Тургенева каждую неделю обедали литераторы.
Раз, придя в редакцию, он сказал Панаеву, Некрасову и находившимся тут некоторым старым знакомым литераторам:
– Господа! не забудьте: я вас всех жду сегодня обедать ко мне. – И затем, поворотив голову к Добролюбову, прибавил: – Приходите и вы, молодой человек.
Тургенев наверно услыхал бы громкий смех Добролюбова, если бы он смеялся, как другие. Но он только улыбался.
Тургенев в это время наслаждался вполне своей литературной известностью, держал себя очень величественно с молодыми писателями и, вообще, со всеми незначительными лицами.
Я посмеялась Добролюбову, что он, должно быть, считает себя сегодня счастливейшим человеком, удостоившись приглашения на обед от главного литературного генерала.
– Еще бы! такая неожиданная честь.
– Что же, пойдете? – спросила я, хотя была уверена, что он не пойдет после такого приглашения.
– К сожалению, у меня нет фрака, а в сюртуке не смею явиться к генералу, – отвечал, улыбаясь, Добролюбов.
Панаев и Некрасов были удивлены, что Добролюбов не хочет ехать вместе с ними на обед к Тургеневу. Они не обратили внимания на тон приглашения.
– Вас же приглашал Тургенев, – сказал ему Некрасов.
– После такого приглашения я никогда не пойду к Тургеневу.
Некрасов с удивлением произнес:
– Да он всех так пригласил.
– Вы все его очень короткие знакомые, а я нет.
– Это у него такая манера, – заметил Панаев.
Должно быть, Некрасов намекнул Тургеневу, почему Добролюбов не пришел обедать, потому что Тургенев в следующий раз сделал ему любезное приглашение, но это не тронуло Добролюбова, и он все-таки не пошел.
Тургенев заметно стал относиться внимательнее к Добролюбову и начал заводить с ним разговоры, когда встречал его в редакции, или обедая у нас, потому что литературная известность Добролюбова быстро росла.
Тургенева заметно коробило, что Добролюбов все-таки не является к нему на обеды, и он однажды сказал Панаеву:
– Привези ты его обедать ко мне, уверь его, что он не застанет у меня общества, в котором никогда не бывал.
Наконец Тургенев понял, что причина, по которой Добролюбов не является на его обеды, заключается вовсе не в страхе встретиться с аристократическим обществом.
– В нашей молодости, – сказал он Панаеву, – мы рвались хоть посмотреть поближе на литературных авторитетных лиц, приходили в восторг от каждого их слова, а в новом поколении мы видим игнорирование авторитетов. Вообще сухость, односторонность, отсутствие всяких эстетических увлечений, все они точно мертворожденные. Меня страшит, что они внесут в литературу ту же мертвечину, какая сидит в них самих. У них не было ни детства, ни юности, ни молодости – это какие-то нравственные уроды.
– Это нам лишь кажется, что новое поколение литераторов лишено увлечений. Положим, у нас увлечений было больше, но зато у них они дельнее, – возразил Панаев.
– На тебя, кажется, семинарская сфера начинает влиять, – с пренебрежительным сожалением произнес Тургенев.
– Господа! – прибавил он, обращаясь к присутствующим в комнате. – Панаев начинает отрекаться от своих традиций, которым с таким неуклонным рвением следовал всю свою жизнь.
– Отчего же не сознаться, если это правда: теперь молодые люди умнее, дельнее и устойчивее в своих убеждениях, нежели были мы в те же лета, – отвечал Панаев.
Тургенев, с притворным ужасом обращаясь к присутствующим, воскликнул:
– Господа! Неужели мы дожили до такого печального времени, что увидим нашего элегантного Панаева в сюртуке, застегнутого на все пуговицы, с сомнительной чистоты воротничком рубашки, без перчаток и в очках!
Добролюбов и Чернышевский всегда носили сюртуки и очки, но, разумеется, никогда не ходили в грязном белье.
– Мое зрение стало слабо, и я должен скоро надеть очки! – отвечал Панаев.