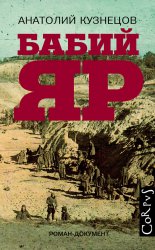Отнимать и подглядывать Драгунский Денис
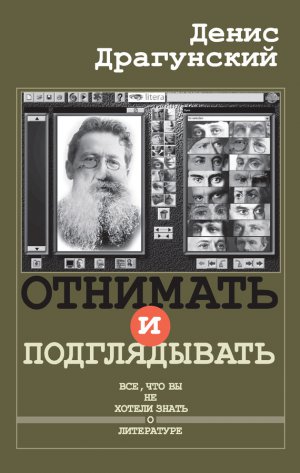
Советчина как культивация «законной гордости». О это кошмарное «зато нас все боялись»! И еще более жуткое – «зато в стране порядок был». Советчина как пристальный интерес к недавней истории, как вроде бы резонное стремление заменить советско-ангажированные и антисоветски-ангажированные книги (фильмы, телепередачи) чем-то взвешенным, сбалансированным. Чтобы соответствовало генеральной линии, которая формируется на наших глазах: этакий православно-капиталистический сталинизм. Никакой эклектики, все предельно органично.
В общем, советчина наступает со всех сторон. Отчего бы это так?
Отчего народ и его интеллигенция, так сильно пострадавшие за годы советского режима, радостно повизгивая, реставрируют советчину?
Да все от того же. От травмы и шока.
Попробуем поподробнее.
Начнем с травмы.
Советский (ныне российский) народ в прошедшем веке перенес ужасающие тяготы и страдания. Гражданская война. Коллективизация – индустриализация. Репрессии 1930-х. Война. Миллионы военнопленных, которых родина предала трижды: один раз бросив навстречу вермахту плохо вооруженных солдат, потом объявив предателями и отказавшись делать взносы в Красный Крест и после освобождения из нацистских лагерей отправив в свои, родные. Депортации народов. Послевоенные репрессии. Закручивание гаек после столь желанной оттепели. Афганская авантюра. О том, что ближе, помолчим – и так хватит.
Впрочем, некоторым странам в ХХ столетии тоже досталось по первое число. Взять ту же Германию. Или Грецию, Италию, Испанию. Однако европейцы (а также народы других континентов) умеют обдумывать, обсуждать и, самое главное, оплакивать перенесенные катастрофы. Понимание того, что произошла народная беда, оплакивание этой беды – залог того, что беда будет изжита. Сначала в народной душе, а там и в повседневной жизни нации. Главная задача народа после кошмара войны или диктатуры, оккупации или коллективного безумия (вроде нацизма или коммунизма) – преодолеть пережитую травму. Не загнать в коллективное бессознательное, а, наоборот, вытащить оттуда. К сожалению, этого мы не умеем. И учиться не хотим.
Оплакивание национальной беды не нужно понимать совсем уж буквально. Это не значит всенародно лить слезы на центральных площадях, устраивать трауры, устанавливать покаянные монументы и служить панихиды во всех церквах. Впрочем, такие церемонии тоже не лишние, особенно воздвижение памятников, установка надгробий над безымянными могилами. Но главное – это внутренняя работа национального сознания. Сделать эту работу должны политики и интеллектуалы, в том числе – в первых рядах – люди искусства. Политики должны понимать, что народные несчастья следует осознать, обдумать, публично обсудить. Интеллектуалы и художники должны это реально сделать. Написать романы, стихи и песни. Философские трактаты и журнальные статьи. Снять фильмы и телепередачи. Выступать по радио и на читательских конференциях в районных библиотеках. В этой долгой и массовой работе интеллектуалы и художники должны быть смелыми и отважными. Никакой пощады народному самолюбованию, никакого самооправдания, никаких трусливых слов типа «но не все же было так ужасно… но многие люди искренне верили… но дайте хотя бы старикам умереть спокойно, они же думали, что поступают правильно». Так ничего не выйдет. Никогда не поздно назвать беду бедой, а не «особенностями ускоренной модернизации» или «спецификой построения новой государственности».
Но увы. Ничего похожего в России не произошло.
Гражданская война была романтизирована. То есть было романтизировано планомерное взаимное истребление молодых и старых, крестьян и офицеров, профессоров и поэтов. Такая вот была совершена идеологическая подлость. Об остальном сказано едва-едва, вполслова и вполголоса. На русском языке нет практически ни одной книги о войне как о величайшей народной беде. Астафьев? Василь Быков? Кто еще? А вот о подвиге – пожалуйста, полки ломятся, и иногда довольно талантливо. И всегда были охотники выдать народную беду за что-то другое. За уникальный исторический путь. За отдельные ошибки руководства. Но чаще всего делался вид, что вообще ничего не было, кроме вереницы побед. Неосознанная беда тяжким грузом ложилась на дно народной души.
Всем было тяжело в советские годы, но тяжелее всего было простому человеку. Простых людей пропало больше всего и при коллективизации-индустриализации, и в «кировском потоке», и в 1937–1938 годах, и в войну, и в немецком плену погибали простые люди, и их же потом отправляли в Сибирь. От ночного стука в дверь простой человек вздрагивал гораздо чаще, чем интеллигент или номенклатурщик.
Простому человеку хуже всех было – и остается – еще и потому, что он совершенно не понимал и по сей день не понимает, что делалось в стране и почему он страдал. Интеллигент и чиновник могли строить какие-то предположения, теории, объяснения своего ареста и гибели – от великой Исторической Необходимости до банального сведения счетов внутри парторганизации. Почему попадал в лагерь простой человек – ему самому было непонятно. Жертва была необъяснима и оставалась необъясненной. Ничего вразумительного, кроме «Органы не ошибаются. У нас зря не сажают». Простой человек изнывал от страха, затопляющего душу. Такой страх передается по наследству – не в генах, естественно, а в семейном воспитании, что гораздо надежнее.
Но именно поэтому – из-за того что не обсудили случившееся, не изжили пережитое – возник миф о том, что страдала только интеллигенция и номенклатура. Да и то немного. Номенклатуре, собственно, досталось поделом: изобретатели мясорубки рано или поздно идут на котлеты. А интеллигенция – исключительно по легкомыслию. Не писал бы Мандельштам дурацких эпиграмм – получил бы сталинскую премию. Со временем. А народ – народ не страдал. В крайнем случае геройствовал, страдая, – что значительно легче в плане ретроспективных самооценок.
Отсюда возникает то, что Фрейд назвал «навязчивым повторением». Невозможность справиться с травмирующими переживаниями прошлого – с ужасом жизни в бесправии – вызывает неодолимое желание повторить это ощущение. Снова погрузиться в неизбытый, такой родной и влекущий страх. Снова стремиться туда, где ночные шаги по лестнице и белый френч с душистой трубкой.
Травма не была вылечена – но по этой ране хлестанул шок свободы.
Все, что служило опорными столбами советской цивилизации, было в одночасье вышиблено вон. Радикально сменился социальный контракт. Раньше гражданин отдавал государству свою свободу – практически всю. Включая свободу читать книжки и слушать радио, носить модное и пить кока-колу. Взамен этого он получал малый рабский набор социальных услуг, которые поддерживали его как тело, годное к труду. Особо везучим полагался средний рабский набор – еда посвежее и квартира попросторней. Но для этого надо было стать академиком или народным артистом. Единицам полагался большой набор, включающий дачу в Крыму, бронированный лимузин и личную охрану.
Равенство в рабстве не допускало исключений. Даже набор генсека был абсолютно рабским. Уже цитированный господин Медведев, рассказывавший в фильме «Дорогой Леонид Ильич» о гаремных нравах брежневского аппарата, был впоследствии личным телохранителем Горбачева. В случае чего ему надлежало закрыть шефа грудью и изрешетить каждого, кто близко подойдет с дурными намерениями. Каждого, да не каждого. В Форосе он не осмелился поднять руку на путчистов, нагрянувших арестовывать его шефа, – ибо среди мятежников был его начальник, какой-то генерал КГБ. Максимум, что себе позволил личный телохранитель генсека, – попросил письменное предписание оставить свой пост. Театр абсурда: жизнь главы государства зависела от настроения начальника его личной охраны. То есть Горбачев был тоже рабом. Хотя его набор был самым сладким. Один спуск к морю на Форосской вилле чего стоит…
И вдруг – все наоборот. Никаких тебе наборов, никаких гарантий. Но и никаких ограничений. Читай Набокова, слушай «Свободу», покупай… да что хочешь покупай, были бы деньги! Полная свобода их зарабатывать. А не заработал – извини, брат.
Воистину есть от чего в отчаянье прийти. Но было бы непростительным упрощением считать, что весь вопрос в деньгах. Что вот, мол, был советский народ таким, что ли, работящим иждивенцем, а теперь, мол, гарантированный паек кончился, пошла голодуха и социальная деградация, откуда и все проблемы. Отчасти, конечно, так. Но только от очень небольшой части.
Шок наступил не только экономический, но и культурный. Отчасти это похоже на шок модернизации, который пережили народы Ближнего и Среднего Востока, а также Центральной Азии. Такие элементарные на наш европейский взгляд вещи, как таблички с названиями улиц и номерами домов, светское образование, движение в сторону женского равноправия были страшным ударом, который разрушил все народные представления о пространстве и времени, о добре и зле. Эту бурлящую пустоту не удалось заполнить товарным изобилием при наличии вполне платежеспособного спроса. Через два поколения это аукнулось религиозным фундаментализмом и авторитаризмом, подчас карикатурным – но, очевидно, нужным народу, который таким манером излечивает шок модернизации.
Вот и у нас в России разрушены были не только социальные гарантии, но и представления о правде и порядке, о законе и справедливости. Увы, наши реформаторы на поверку оказались пошлейшими марксистами, на полном серьезе поверившими в агитпроповскую туфту о базисе и надстройке. Никаких попыток объяснить людям суть и перспективы экономических и политических реформ сделано не было. Вот и приехали.
Непереработанная советская травма в сочетании с неосмысленным шоком свободы – результат можно было предугадать.
Началась всенародная борьба за право быть рабом.
О волках и зайцах
Самая трогательная фраза в Высочайшем манифесте 19 февраля 1861 года – вот эта: «В силу означенных новых положений, крепостные люди получат в свое время полные права свободных сельских обывателей».
«Новые положения» – это формальная отмена крепостного права при царе-освободителе Александре II. А «свое время» настало в 1974 году, когда все колхозники получили паспорта, то есть свидетельства полноты своих гражданских прав. Пусть в куцем советском понимании права, но – как у всех остальных. Тогда, в середине 1970-х, колхозников было примерно треть населения (прямо как крепостных в Российской империи). А когда паспорта только вводили – в 1932 году – тогда крестьян в стране было 80 %. Вот им-то паспортов и не дали. Почему? А чтобы из колхозов не разбегались. Без паспорта куда пойдешь? Без паспорта тебя на первом же вокзале арестуют и отправят домой. Хорошо если не посадят, как нарушителя «Положения о паспортах». Почему четыре пятых населения не воспротивились такому безобразию, почему крестьянская война не смела большевицкую банду – об этом чуть позже.
Итак, в «Положении о паспортах», параграфы которого были напечатаны на третьей странице обложки советского паспорта, было написано: «Граждане СССР, достигшие 18-летнего возраста, обязаны иметь паспорта». То есть получается, что крестьяне-колхозники гражданами не были. Подданными – да, были. Обязаны были служить в армии, платить налоги и даже голосовать на так называемых выборах. Поскольку это были не выборы, а ритуал почтения к властям – постольку и участие в них было обязательным. А вот свободно выбирать место жительства – этого права колхозники не имели. Советский рабочий и служащий в принципе мог уволиться и переехать в другой город. Даже, представьте себе, ни у кого не спрашивая позволения. А колхозник – не мог. Ему для поездки в город выдавали в сельсовете разовое удостоверение. А с 1953 года – временный паспорт. И только в 1970-е годы он получил наконец свою краснокожую паспортину. Это как раз совпало с обменом паспортов – серенький сменили на красненький.
Итак, потребовалось 113 лет, чтобы крепостной человек получил полные права свободного сельского обывателя – в рамках советской свободы, разумеется.
Кстати, в Америке было примерно так же. Рабство чернокожих отменили в 1865 году, и только через 100 с лишним лет прекратилась расовая сегрегация. Про дискриминацию я не говорю – тут материя тонкая. Некоторые считают, что в 1990-е годы в Штатах началась «дискриминация наоборот». Это, впрочем, отдельная тема.
Но вернемся в Россию.
Самое удивительное произведение русской литературы – «Мертвые души». О чем эта, с позволения сказать, поэма, как назвал ее автор? Это книга о рабовладельцах и работорговле. О том, как ловкий жулик хочет войти в круг уважаемых рабовладельцев. И для этого совершает несколько мошеннических сделок по купле-продаже рабов. Но не живых, а мертвых, которые по отчетам числятся как живые. Гы-гы-гы. Смеяться после слова «мертвые». Эта ужасающая книга живо рисует состояние русского общества до середины 1840-х годов. Сатира? Если и да, то – бессознательная. Гоголь думает, что высмеял афериста Чичикова, прожектера Манилова, кулака Собакевича, шалопая Ноздрева, и пр., и пр. На самом деле он жестоко высмеял сам себя и все русское образованное сословие впридачу. Самая мертвая душа – это автор вкупе с большинством его читателей-современников. Ни ему, ни им не приходит в голову простая, в сущности, мысль – одни русские люди, христиане, продают за рубли с копейками других русских людей, тоже христиан. И что это – мерзость. Что продавать людей, как собак или кошек, как шкаф или телегу – нехорошо. Но нет, автор об этом не задумывается. Птица-тройка, которая куда-то несется и которой уступают дорогу другие народы, – это Русь крепостническая, Русь рабовладельческая.
И это притом что Пушкин еще в 1819 году писал:
- Увижу ль, о друзья! народ неугнетенный,
- И рабство, павшее по манию царя,
- И над отечеством свободы просвещенной
- Взойдет ли наконец прекрасная заря?
И немногим позже:
- В своей глуши мудрец пустынный,
- Ярем он барщины старинной
- Оброком легким заменил;
- И раб судьбу благословил.
Кстати, слово «пустынный» значит «одинокий» – это помогает кое-что понять.
Почему так? Почему Гоголь в 1842 году не видел того, что было ясно Пушкину за два десятилетия до «Мертвых душ»?
Потому что Пушкин был аристократ и западник, а Гоголь – мещанин и почвенник. Мещанин – не по сословию, а по воззрениям, конечно. Для Пушкина естественным примером была Англия, где крепостное право сошло на нет в XVI веке, а также континентальная Западная Европа, где его отменили в конце XVIII – начале XIX века. Для Гоголя не было иной реальности, кроме России здесь и сейчас. Ключевым понятием для аристократа Пушкина была свобода. Начиная от оды «Вольность» и кончая «Памятником». У мещанина Гоголя было много ключевых понятий: от отечества до соленых грибков; что угодно, но не свобода.
В манифесте, в его констатирующей части, написано: «Права помещиков были доныне обширны и не определены с точностию законом, место которого заступали предание, обычай и добрая воля помещика. В лучших случаях из сего происходили добрые патриархальные отношения искренней правдивой попечительности и благотворительности помещика и добродушного повиновения крестьян». Вот эти-то «добрые патриархальные отношения» составляли общественный идеал Гоголя. И не одного только Гоголя. Льва Толстого – во всяком случае, во время написания «Войны и мира» – тоже. Великий роман, написанный после освобождения крестьян, – о чем он? О том, что человечество есть покорный раб Провидения; а в человечестве отношения господ и рабов вечны, неизменны и даже обоюдно приятны.
Иногда кажется, что отношения искренней попечительности начальства и добродушного повиновения народа составляют сердцевину нашего политического мировоззрения.
Но что-то случилось в середине 40-х годов XIX века. Может быть, общество посмотрело на свой портрет, написанный Гоголем, и ужаснулось.
Дмитрий Григорович, наполовину француз, внук обезглавленного во время Революции аристократа, говоривший по-русски с неистребимым акцентом, в 1846 году опубликовал «Деревню», а в 1847-м – «Антона Горемыку». Поразительные картины нищеты, боли и, главное, унизительного, бесчеловечного бесправия русского крепостного крестьянина. Естественно, патриоты-славянофилы усмотрели тут очернение, оскорбление и клевету. Но пуля уже вылетела из ствола. Писатель более сильный и популярный, Иван Тургенев, в 1852 году напечатал «Муму» и «Записки охотника», после чего впрямую защищать крепостное право стало просто неприлично.
Мне думается, что эти четыре небольших текста сделали больше для освобождения крестьян, чем поражение в Крымской войне. В конце концов, можно было закрутить гайки и создать «мобилизационную экономику» на основе повышения дисциплины крепостных тружеников села. Однако в России тогда было какое-то подобие общественного мнения. Большинство образованного сословия (царь и его придворные в том числе) было против крепостного права. Свободный труд совершенно справедливо считался более эффективным, чем подневольный. Рабское состояние соотечественников считалось позорным и недостойным, и это тоже было справедливо. Царь говорил: надо отменять крепостное право сверху, иначе оно само отменится снизу. Но, думается, зря государь беспокоился. Народ не очень-то стремился пополнить сословие свободных сельских обывателей.
Фирс: Перед несчастьем то же было: и сова кричала, и самовар гудел бесперечь.
Гаев: Перед каким несчастьем?
Фирс: Перед волей.
(А.П. Чехов, «Вишневый сад»)
Свобода – вот главная заноза и помеха. Ах, как жаль, что нельзя иметь свою землицу, есть досыта, работать в охотку – но чтобы без свободы. Без ее опасностей, рисков и страхов.
Нельзя, ребята.
Ну, раз нельзя – тогда не надо. Тогда пусть без свободы.
Рассуждая о советском социальном контракте, мы почему-то считаем, что наш народ выменял свободу на сытость (безопасность, стабильность и прочие тоталитарные радости).
Какая, извините, чушь.
Какая, к черту, сытость, а также безопасность при социализме, когда голод (неотоваренные карточки, дефицит) и плановые посадки, войны, уличная преступность?
Дело обстоит ровно наоборот.
Народ соглашается на недоедание и репрессии в обмен на рабство. Рабство – это величайшая ценность для подавляющего большинства. А свобода – это самая тяжелая из всех тягот. Мучительный недуг, постоянная боль, не дающая уснуть, ведущая к смерти или безумию. Избавьте нас от нее, бога ради! Мы будем недоедать, штопать лохмотья, надрываться на тяжелой работе, будем вздрагивать от ночного стука в дверь – но только чтобы без свободы.
С легкой руки Дмитрия Медведева мы повторяем: «Свобода лучше, чем несвобода». Кому-то эта мысль нравится, кому-то нет. Но те и другие полагают, что данный тезис донельзя банален.
Однако это не так. Если мы поместим эту фразу в более плотный контекст, мы увидим глубины, в которые не всегда приятно заглядывать. Неприятно, но нужно. Потому что мы все-таки в XXI веке живем и должны набраться мужества для рационального анализа. Замечательный филолог и мыслитель Михаил Гаспаров говорил примерно так: «У человека, собственно говоря, нет никаких прав. Но у него есть главная обязанность. Обязанность понимать».
Постараемся и мы понять некоторые нетривиальные следствия из банальной, казалось бы, фразы о свободе.
С одной стороны, конечно, да. Лучше быть свободным, чем несвободным. Умелым, чем неумелым. Любимым, чем нелюбимым. То есть лучше что-то иметь, чем этого лишиться. Именно так. Свободный человек, которого лишили свободы (в любом смысле – хоть в правовом, хоть в бытовом, хоть в морально-философском), – несчастен. Любимый, которого перестали любить, – тоже. Не позавидуешь и умельцу, растерявшему свои трудовые навыки. Вроде бы все просто и неинтересно.
Но с другой стороны – всё гораздо интереснее.
Но можно ли сказать «свобода лучше, чем рабство»? Сказать-то, конечно, можно, поскольку у нас свобода слова. Но будет ли такое высказывание правильным? Как говорится, методологически корректным?
Боюсь, что нет.
И в самом деле. Можно ли утверждать, что лучше быть умелым, чем ленивым? Лучше быть любимым, чем бесстрастным? И наконец, что лучше быть свободным, чем рабом?
Нет. Наверное, нельзя. Умелость и лень, любимость и бесстрастность, а также свобода и рабство – вещи совсем разные. Хотя они находятся как бы рядом и отчасти как бы зависят друг от друга. Ленивому трудней стать умелым. Бесстрастным людям в общем и целом меньше везет в любви. А свободные и рабы сосуществуют внутри одной нации и даже пребывают в своеобразном симбиозе.
Но мало ли кто или что находится рядом или пребывает в симбиозе!
Взять, к примеру, волков и зайцев.
Зубастый и быстроногий молодой волк, конечно, лучше, чем старый, беззубый и хромой. Но можно ли сказать, что волк – лучше зайца? Или что трусливый волк превращается в зайца, а смелый заяц – в волка? Даже смешно.
Свободный человек, которого обратили в рабство, – это одно. Назовем его словом «порабощенный». Он пытается бунтовать. Он понимает, что у него отняли. Даже в самых ужасных условиях порабощения (то есть несвободы!) он может сохранять внутреннюю свободу, внутреннее достоинство. Его можно вынудить выполнять приказы. Но он никогда не станет любить или оправдывать своих поработителей.
Раб по своей психологии, по образу жизни, мысли, действий – совсем другое. Он привык, приспособился, и ему хорошо. Он любит хозяина.
Слово «раб», однако, воспринимается как очень обидное. Особенно в России. Примерно как в Северной Америке слово «негр».
Но давайте не будем искать эвфемизмов. Если вместо «негр» говорят «афроамериканец», то вместо «раб» нужно говорить, ну, к примеру, «добровольнопокорный».
Ну его! Не надо слов, у которых такое липкое и пачкающее семантическое поле. Как ком глинистой почвы, который выдергивается из грядки вместе с сельдереем.
Давайте проще, и чтобы без обид. Тип А и тип Б.
В 1970-е годы биологи Джордж Энгель и Артур Шмале описали два главных способа реагирования, свойственных живым организмам, и людям в том числе. Первый тип они назвали “action-engagement” («действие – включенность»), второй тип – “conservation-withdrawal” («консервация – отказ»). Речь идет об активной или пассивной реакции на любой вызов извне.
Действовать – или замереть. Включиться в ситуацию – или отказаться от активности. Распрямиться – или согнуться.
Вот здесь кончается биологическое и начинается социальное.
Дать сдачи – или попросить пощады. Шагнуть навстречу трудностям – или отступить перед ними. Возмутиться – или утешать себя тем, что «могло быть и хуже». Добиться своего – или сказать: «Не очень-то и хотелось». И вот что важнее всего: признать наличие проблемы – или отрицать наличие проблемы.
Если во дворе ночью раздается крик «помогите!», люди типа А берут кочергу и выходят посмотреть и разобраться; люди типа Б закутывают голову в одеяло. Когда вдруг начинает не хватать денег, люди типа А стараются побольше заработать; а люди типа Б начинают сокращать свои расходы. Наконец, если что-то нехорошее происходит в обществе или государстве, люди типа А пытаются действовать; люди типа Б оправдывают собственное бездействие словами «От нас все равно ничего не зависит».
Кстати, по данным социологических служб, у нас более 80 % людей считают именно так. «От нас все равно ничего не зависит!!!» Три восклицательных знака. Агрессивное отстаивание своей слабости и никчемности: такой вот социальный парадокс.
Более 80 % – это слишком сильный перевес в сторону типа Б. Вообще-то в природе и обществе тип А и тип Б присутствуют примерно поровну. В природе – чтобы обеспечить выживание вида в меняющихся условиях. В обществе – чтобы сохранить баланс между инновациями и стабильностью. Но, когда стабильности слишком много, это опасно.
Конечно, все это обусловлено исторически. Но от этого не легче.
Любое действие – это риск, это тревожно и опасно. Любое бездействие – это покой, сохранение того, что имеешь. Иллюзия безмятежности. Надо лишь понять, что это два разных способа существования. То, что для людей типа А естественно, как дыхание, – для людей типа Б мучительно, как пытка.
Пытка – действовать, пытка – рисковать, а главная пытка – отвечать самим за себя.
Лучше, когда за тебя решают другие.
Отсюда понятна неизбывная и поистине всенародная любовь к Сталину.
Его любят не за порядок. Порядка при Сталине было примерно столько же, сколько в пресловутые 1990-е: карточки не отоваривались, зарплаты задерживались, начальство самодурствовало, планы не выполнялись, отчеты фальсифицировались, кругом сплошная нехватка, взятки и приписки. Не говоря уже о небывалом взлете послевоенного бандитизма.
Его любят не за победу в Великой Отечественной войне. До 1965 года (когда начался официальный культ Великой Победы), Сталина любили точно так же, несмотря на все антисталинские партсъезды и резолюции. Так что любовь к Сталину и уважение к Победе – это независимые переменные.
И уж конечно, его любят не за то, что СССР стал супердержавой и контролировал полмира; не за то, что «нас все боялись». Эти переживания – удел психически нездоровых лиц, которых (в нарушение прав душевнобольных) иногда приглашают в ток-шоу. Простым людям наплевать, кто кого контролировал и боялся. Но Сталина они любят.
И самое главное: его любят не за массовые репрессии, депортации, раскулачивание и голодомор. Чего уж тут хорошего! Любой обыватель понимает, что эта чертова машина может загрести его в любой момент. Но Сталина – всё равно любит.
Так за что же?
А вот за что. За возможность оставаться рабом – пардон, личностью типа Б. Не действовать самостоятельно. Не отвечать за себя. Не рисковать. Не высовываться. Не иметь свое суждение. Не вмешиваться ни во что. Не искать работу и тем более подработку. Не заступаться за слабого перед сильным. В общем, не делать ответственный выбор во всех областях общественной и частной жизни.
Именно за это ему готовы простить репрессии.
Советский общественный договор выглядит так: «Мы (народ) наделяем вас властью и позволяем вам роскошествовать в масштабах госбюджета и своевольничать вплоть до массовых убийств. Но за это вы (власть) должны гарантировать, что мы останемся… этими… ну, в общем, личностями типа Б».
В.И. Ульянов (Ленин) родился за 100 лет до публикации статьи Дж. Энгеля и А. Шмале. Поэтому он по чисто хронологическим причинам не мог писать о реакциях action-engagement или conservation-withdrawal. О типе А и типе Б.
Он говорил попросту о рабах и свободных.
Но, по-моему, Ленин был не прав, когда написал вот эти знаменитые слова:
«Никто не виноват, если он родится рабом. Но раб, который не только чуждается стремлений к своей свободе, но оправдывает и прикрашивает свое рабство <…> – такой раб есть вызывающий законное чувство негодования, презрения и омерзения холуй и хам».
Звучит очень красиво. Просто Цицерон!
Но на самом деле – пустая риторика.
Среди рабов, оправдывающих и прикрашивающих свое рабство, большинство составляют неплохие люди. Честные и добрые. Талантливые. Иногда просто гениальные, как некоторые советские деятели искусства. Но – рабы. Пардон, это Ленин меня увлек. Люди типа Б. Их нельзя за это осуждать.
Дело не в людях типа Б, а в людях типа А.
Поэтому особенно противно, что многим активным политикам и публицистам нравится, что в обществе слишком много людей типа Б. Разумеется, сами эти активисты принадлежат к типу А. Очень смелые и разворотливые господа. Но они убеждают сами себя и друг друга, что наш народ – исконно пассивный, покорный и доверчивый, но при этом хамоватый и вороватый. По этой причине народу нужны добрые, но строгие пастыри.
Неприятно также, что народ спокойно выслушивает этот антинародный бред. Неприятно, но понятно: «хоть горшком назови, только в печь не ставь». Назови дураком, холуем, ворюгой, неумехой, пьяницей, да хоть овощем! Не заставляй только действовать, рисковать, отвечать за себя. А брань на вороту не виснет.
Отсюда понятно, почему новое закрепощение российского крестьянства в 1930-е годы прошло сравнительно легко для власти. Виктор Астафьев писал: если бы миллионы крестьян только плюнули в сторону Москвы, ее бы смыло вместе с Кремлем и горийской обезьяной. Однако не плюнули. Наоборот, помогали властям губить своих оборотистых и удачливых односельчан. Потому что свобода – это слишком страшно. А рабство – это душевный покой, гармония с миром.
Гарантированное крепкое рабство – вещь недешевая. Но народ был согласен платить.
Вот уже давно крепостного рабства в России нет. Полтораста лет назад – формально. Реально – лет 40. В Америке тоже примерно так же. Но следы остаются.
Вот, например. Почему такие разные страны, как Америка и Россия остаются чемпионами по количеству заключенных? Почему именно в этих двух странах так яростно сажают за решетку? Думаю, потому, что в Америке и в России отменили рабство позже, чем в остальных странах. Ведь раб – это как бы не человек. Сажая людей в тюрьму, тем более на страшно долгие сроки, общество символически обращает их в рабство. Выводит из числа людей и тем самым перестает о них думать.
Кстати, думать – это тоже бремя свободного человека.
Патриотизм
1904 год. Мальчик в Одессе смотрит кукольный театр.
«Занавес, закручиваясь, поднялся, и я увидел Порт-Артур: его набережную, вдалеке желтые сопки с маленькими русскими батареями. Возле парапета набережной качались на волнах джонки с камышовыми парусами. А на рейде стоял громадный русский броненосец “Петропавловск”, грозно повернув в открытое море свои башенные орудия, а на мачте виднелось белое полотнище андреевского флага.
В моей душе шевельнулось горячее чувство восторга, хотя я еще тогда не знал, что это необъяснимое чувство называется патриотизмом.
Тем ужаснее было то, что произошло в следующий миг: раздался пиротехнический взрыв – бенгальская вспышка посередине “Петропавловска”. Длинный корпус броненосца раскололся пополам, нос и корма поднялись, и в таком виде корабль стал медленно опускаться в морскую пучину. Над гребнями искусственных волн осталась лишь одна мачта с андреевским флагом. Но вот исчез и андреевский флаг под звуки марша “Тоска по родине”, который беспрерывно исполняла балаганная шарманка…» (Валентин Катаев, «Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона»).
Так получилось, что патриотизм связан с грустью. Наверное, это закономерно. «Тоска по родине», «Прощание славянки», «Амурские волны» и особенно «На сопках Маньчжурии» – вот шедевры русской патриотической песни. А не «Широка страна моя родная» или «Гремя огнем, сверкая блеском стали».
Патриотизм – это любовь к родине, а не военно-полевые восторги. Хотя довольно часто патриотизм востребуется на поле брани. Или на фронтах битвы за урожай (за нанотехнологии).
Но тут вот какая штука. Взять, например, семью. Успешная семейная жизнь взрослых людей – это умение заботиться друг о друге, поддерживать, сочувствовать. Помогать. Не лениться мыть посуду, ходить в магазин, гулять с детьми и проверять у них уроки. Но весь этот успех стоит на твердом основании любви. Если человек не умеет любить – то есть переживать восторг и страсть, желание и счастье, – то у него ничего не получится по части мытья посуды и прогулок с малышом.
Поэтому молодые люди должны учиться любить. Восхищаться и страдать. Щадить, прощать и утешать. А самое главное – ощущать свои чувства и чувства того, кого любишь. Иначе все правила совместной уборки квартиры просто не сработают.
Точно так же любовь к стране, к народу – важнее, чем умение собрать автомат Калашникова и знание хронологии победных битв. Она должна быть сначала, а «ура-вперед» – потом.
Но любовь – это всегда чуть печальное чувство.
В советской школе учили многим вещам, полезным и не очень. Но о любви старались говорить поменьше, потому что серьезное отношение к любви непременно вызывает печаль. А советская педагогика совершенно официально была педагогикой оптимизма, бравурности, маршей и стягов: жизнь в отсутствие любви и смерти. В нынешнем воспитании чувств любовь заменяется техникой быстрого соблазнения (pick-up) и искусного совокупления, а смерть – кровожадными фантазиями компьютерных игр. На печальные переживания остается всё меньше и меньше времени.
Вот поэтому с патриотизмом у нас проблемы. Особенно это касается литературы и искусства. И особенно в последнее время, когда на экраны выходят фильмы специально «патриотического», то есть военно-победоносного, свойства. Это какое-то недоразумение. Фильм про войну может оказаться патриотическим. А может стать историческим («Освобождение»), приключенческим («Подвиг разведчика»), лирическим («Баллада о солдате») или социально-философским («Двадцать дней без войны»). Или может быть антипатриотичным. Например, «Неуловимые мстители» – какой же тут патриотизм, когда одни русские люди режут других русских? Это фильм у настоящего русского патриота должен вызывать стыд за людей, которым не хватило патриотизма придушить большевицкую гадину. И брезгливость к тем, кто национальную трагедию превратил в сюжет веселого как бы вестерна.
Но понятия сместились. Раз про войну – значит, по разделу патриотизма.
К созданию таких фильмов привлекаются люди в погонах с большими звездами. Это честные и увлеченные люди. Но им всего интереснее собственная профессия: стратегия, тактика, стрельбы и взрывы. Это по-человечески понятно. Но это совершенно не относится к делу.
Вы представляете себе фильм о любви, снятый под эгидой Общественного совета по акушерству и гинекологии? С урологами и сексологами в качестве консультантов? Примерно такое же отношение стрельба имеет к патриотизму. В «военно-патриотическом воспитании» столько же смысла, сколько в любовно-венерологическом.
Нынешняя российская «кинопатриотика» – есть и такой странный термин – застряла в сетях взаимоисключающих исторических концепций. Увязла в желании примирить всех со всеми, выстроить единую линию восприятия страны и ее прошлого. Помирить окопников со смершевцами, штрафников с заградотрядовцами, коллаборационистов с партизанами, зеков с охранниками, власовцев с особистами и, разумеется, белых с красными. И в итоге – наших с немцами. Вот сейчас они все зацепятся скрюченными мизинчиками и хором скажут: «Мирись, мирись, мирись и больше не дерись!» И наступит полное единство взглядов на кровавую историю нашего многострадального отечества. Родину и друг друга возлюбят потомки белых и красных, внуки зеков и охранников и далее по списку (см. выше).
Ничего не выйдет. И не только потому, что понятие «страна», она же родина, жульнически смешивают с понятием «государство», оно же власть. И не только потому, что в ходе съемок фильма вряд ли можно этак быстро-быстро составить новое, но при этом общепонятное и общеприятное (sic!) понимание истории.
Прежде всего потому, что патриотизм – это нежное чувство. Личное, интимное, иногда слезное, иногда восторженное; бывает, что горькое. Но всегда – мое собственное. Не навязанное извне, а пережитое мною самим.
Это удивительное чувство причастности чему-то большему, чем я. Но не страшному и грохочущему, как танк в атаке, а прекрасному и печальному, как осенние листья на кладбищенских деревьях, золотые ветки на фоне голубого неба. Чему-то чистому и отважному, как слова «Запомни, моя фамилия Сотников, у меня есть отец, мать и родина». «Восхождение» Ларисы Шепитько по повести Василя Быкова «Сотников» – пожалуй, самый патриотический советский фильм.
И странное дело…
Помню, я разговаривал с одним умным и тонким человеком. Он рассказал, что смотрел английский фильм «Король говорит» – и что неожиданно ощутил прилив патриотических чувств. «Странное дело, – сказал мой собеседник, – неужели я на полчаса стал патриотом Британии? Нет, конечно. Но, наверное, для патриотизма не всегда нужна родина».
Парадокс, конечно. Но парадокс – это истина, внешне похожая на ложь (в отличие от софизма, который есть ложь, внешне похожая на истину).
Патриотизм есть чувство причастности к чему-то большому, важному и прекрасному (к тому, что воплощается в целостном ощущении родины) – поэтому он заразителен. Как всякое сильное и искреннее чувство.
Сильнейшие патриотические переживания я ощутил в финале фильма «Охотник на оленей», когда друзья погибшего во Вьетнаме американца поминают его за скромной трапезой и тихонько поют гимн. Это были чувства других людей. По поводу другой войны, которую я с детства считал несправедливой. По поводу другой родины, их родины, не моей. Но их чувства были столь мощными, что перелились через рамку экрана и затопили мое сердце.
В наших отношениях с родиной много чего намешано: тут и привычка, и лояльность, и верноподданность, и национализм, и обман государства в обмен на обещание сидеть тихо. Тут возможны разные хитрые счеты. Только патриотизм нежен и чист. Патриотизм не может быть надутым, парадным, громким и агрессивным. И главное, не может быть неискренним.
У нашей «кинопатриотики» две беды.
Первая – это великая путаница понятий. Даже самый хороший, профессионально сработанный и исторически достоверный фильм о войне – не обязательно должен пробуждать патриотические чувства. Но если фильм не вызывает патриотических чувств – это не значит, что он антипатриотический. Боже упаси! Это просто кино про другое. Кино про войну, кино про мир, про что хотите. Патриотизм – редкий гость на экране. Поскольку само патриотическое чувство нечасто возникает. Тонкая духовная связь между героем и родиной; связь, которая воспринимается зрителем именно в таком, тонком духовном качестве (а не «эк мы им врезали!») – вот о чем речь.
Вторая беда – неискренность. Может быть, за шумом, стрельбой и рукопашным боем прячутся сильные чувства – но мы их не ощущаем, не можем разглядеть. Тонкая человеческая эмоция либо тонет в крике, либо превращается в штамп, в закушенную губу и просверк взгляда. Искренность, как ни крути, вещь обоюдная, она рождается в диалоге автора и читателя, актера и зрителя. «Он врет, потому что я ему не верю» – именно так, а не наоборот.
Один читатель написал мне:
«А я не патриот. То есть совсем. И даже и не понимаю, что это значит – любить свою страну. Кого это любить, людей в метро утром? Правительство, полицию, налоговую инспекцию и другие государственные институты? Нерелевантное героическое прошлое всех степеней героичности?»
В общем-то, логично. Едва ли возможно любить всех соотечественников или, тем более, каждого из них. Любить учреждения, контур на карте или рассказы из истории.
Однако патриотизм существует.
Но его не надо путать с привычкой, лояльностью, уважением или верноподданством. Или с сентиментальными воспоминаниями о золотом детстве в родном углу.
Потому что всё это разлетается от единого щелчка. И человек превращается в мешок, набитый дерьмом и страхом, как говорил следователь Портнов в фильме «Восхождение».
Патриотизм – внимание! – это отношение человека не к родине, а к своему отношению к родине, вот как.
Так сказать, «моральная рефлексия».
От того, предаст Сотников или нет, положение на фронте не зависит.
Может быть, с практической точки зрения прав как раз Рыбак, другой персонаж повести В. Быкова. Он объясняет Сотникову: надо пойти в полицаи, а потом украсть оружие и перебежать к своим. А на прощание убить десяток немцев. Взорвать их штаб. Нанести им существенный урон. То есть посодействовать победе. Я, говорит, не великомученик. Я солдат! Я хочу убивать врага!
Но это – потом. Если получится. Если постараться.
А сейчас надо предать. На минутку, на недельку, на месяц-другой. В крайнем случае на годик.
Сотников так не может. Его вешают.
Сотников – патриот. А Рыбак – ну как получится.
Патриотизм – это очень сложное и редкое чувство. Особый дар.
Вернемся в начало ХХ века.
Мальчик смотрит на первые опыты русского кино.
«В юнкерском училище, где два раза в неделю мой папа преподавал русский язык и географию, была назначена демонстрация нового изобретения – живой фотографии братьев Люмьер. До этих пор съемки живой фотографии производились за границей, а у нас их показывали в иллюзионах. Теперь же, оказывается, и у нас в России открыли секрет живой фотографии… Замелькали открытые летние вагончики с парусиновыми занавесками; поезд остановился, и на перрон стали выпрыгивать офицеры в белых летних кителях; замелькали фуражки в белых чехлах и блестящие шевровые сапоги, некоторые со шпорами; прошли дамы в кружевных платьях, с кружевными зонтиками.
Все это было не заграничное, не парижское, а свое, русское, хорошо знакомое, одесское, даже будка с зельтерской водой, из которой с любопытством выглядывала черноглазая продавщица. Я чувствовал прилив патриотизма, гордость за успехи родного, отечественного синематографа» (Валентин Катаев).
Круг замкнулся.
Патриотическое кино – это не только кино про патриотизм.
Гордость за успехи родного, отечественного синематографа можно испытывать во время просмотра, триллера, саспенса или костюмной мелодрамы. А если мы вместе с героем почувствуем дрожь родной земли или дыхание народа…
Будем терпеливо ждать. И не будем путать понятия.
Шлагбаум
«Михаэль Кольхаас», новелла Генриха фон Клейста
«Жил на берегах Хавеля в середине шестнадцатого столетия лошадиный барышник по имени Михаэль Кольхаас, сын школьного учителя, один из самых справедливых, но и самых страшных людей своего времени… ибо чувство справедливости сделало из него разбойника и убийцу». Так начинается одно из самых незатейливых, но и самых великих произведений мировой литературы, то ли длинная новелла, то ли маленький роман, написанный в 1810 году.
Логика социально-политического и человеческого абсурда представлена в этом тексте со столь завершенной полнотой, что смогла явить свою пророческую истинность только через два века – в эпоху террора и неутолимых взаимных претензий, которые предъявляют друг другу цивилизации, религии и классы.
Основной сюжет
Михаэль Кольхаас ехал продавать коней. Вдруг – на дороге шлагбаум, которого не было раньше. Владелец земли юнкер фон Тронка велел предъявлять пропускное свидетельство. Законопослушный Кольхаас оставляет двух откормленных вороных жеребцов в залог. В городе оказывается, что Тронка своевольничает – на самом деле никакого пропуска не надо. Но на обратном пути Кольхаасу вместо красавцев коней возвращают двух заморенных одров – оказывается, их использовали на полевых работах. Кольхаас подает жалобу за жалобой, но их кладут под сукно (Тронка имеет влиятельных родственников). Жена Кольхааса отправляется с прошением к императору – ее ранит охранник, она умирает. Тогда Кольхаас собирает вооруженный отряд и начинает боевые действия.
Он осаждает Виттенберг, поджигает Дрезден, громит дома и замки, в бою наносит поражение войскам курфюрста саксонского, общается с Мартином Лютером и, наконец, начинает угрожать всей Священной Римской империи.
Зачем он это делает? Только ради справедливости. То есть затем, чтобы заставить юнкера Тронку откормить коней. Обратите внимание: не затем, чтобы получить денежную компенсацию, и не затем, чтобы получить таких же точно или даже лучших, сытых и дорогих коней. И даже не затем, чтобы его кони – непременно те самые! – были вылечены и откормлены кем-то другим. Условия мира таковы: юнкер Венцель фон Тронка, заморивший коней, должен лично привести их в надлежащее состояние, разыскав их, что называется, хоть под землей. Вот что такое полная и окончательная справедливость, во имя которой Кольхаас (провозгласивший себя по ходу дела Мечом Божиим и Наместником Архангела Михаила) разрушает и жжет города, не щадя детей и женщин.
В конце концов имперское ополчение побеждает Кольхааса. Его переправляют в Берлин. Начинается суд, который приговаривает Тронку откормить коней и вернуть их Кольхаасу. А самого Кольхааса – к смерти через отсечение головы. Слава богу, тех самых коней в последний момент находят на живодерне. На эшафоте Кольхаас, плача от счастья, обнимает лоснящихся откормленных жеребцов, прощается с детьми и спокойно кладет голову на плаху. Справедливость торжествует. Прославленные мастера абсурда ХХ века (литераторы и политики) могут идти отдыхать.
Побочные линии
Их две, и они тоже чрезвычайно важны.
Первая линия. Когда Кольхаас уже стал Мечом Божиим (или безжалостным бандитом), он встретился с цыганкой-ворожеей, которая передала ему запечатанное письмо. В письме же содержалось предсказание дальнейшей судьбы саксонской династии. Предсказание будущего страны, проще говоря. Кольхаас прячет письмо в медальоне у себя на груди и отправляется воевать дальше. Его, как мы знаем, побеждают и ведут на эшафот. Но в последний момент к нему подходит человек и передает записку. В записке сказано: «Кольхаас, курфюрст Саксонский в Берлине; он уже отправился к лобному месту, и ты, если захочешь, можешь узнать его по шляпе с султаном из голубых и белых перьев… Он надеется вырыть твое тело из могилы и наконец прочитать записку, хранящуюся в медальоне. Твоя Элизабет». Это имя умершей жены Кольхааса – давно убитой. Увидев в толпе курфюрста Саксонского, Кольхаас вынул из медальона письмо, распечатал, прочитал, а затем скомкал и проглотил.
Вторая линия. Курфюрст Бранденбургский, который подписал смертный приговор Кольхаасу и в столице которого, Берлине, произошла казнь, подозвал к себе малолетних сыновей покойного, посвятил их в рыцари и отправил на воспитание в пажескую школу.
Справедливость и свобода
Рассказ о том, как лошадиный барышник поплатился жизнью «за необдуманную поспешную попытку собственными силами добиться правды», – это в первую очередь актуализация весьма архаичных, но чрезвычайно живучих представлений о справедливости. Попытки добиться правды собственными силами возобновляются постоянно – и здесь чем сильнее репрессии, тем активнее сопротивление. Кажется, что это инверсия знаменитого принципа О’Брайена из «1984»: «Чем могущественнее будет Партия, тем она будет нетерпимее. Чем слабее сопротивление, тем суровее деспотизм». Дело в том, что данная закономерность работает в закрытом мире, где единственным социальным фактором является чистая власть и практически отсутствует экономика. Гарантия существования оруэлловского мира – отсутствие социальных трансакций (передач прав или обязательств). Стоит приоткрыть границы и разрешить кооперативы, как ситуация полярно меняется.
Начнем с банальной констатации. Справедливость важна не только сама по себе, как качество души, хотя еще Платон писал о ее самодовлеющем значении и сопоставлял ее с такими категориями, как «прекрасное», но прежде всего как основа социального порядка. Справедливость, как указывает популярный современный словарь, есть «понятие о должном, содержащее требование соответствия между реальной значимостью отдельных индивидов (социальных групп) и их социальным положением, между правами и обязанностями, между деянием и воздаянием, трудом и вознаграждением, преступлением и наказанием». Впрочем, весь этот перечень мы также можем найти у Платона.
Однако справедливость как институт, на котором, как кажется на первый взгляд, зиждется любое общество, возможна только в условиях, где издержки социальных трансакций равны нулю или минимальны. Скажем, в архаической общине, где справедливость понимается прежде всего как талион, равное воздаяние за ущерб в виде нанесения равного ущерба (пресловутое «око за око») или как равный ответный дар. Или как реституция или виндикация в чистом виде. Украл – уличили – отдай. Приобрел краденое – тоже отдай, не греши. Все просто, поскольку происходит на виду у всех.
В сколько-нибудь сложно организованном обществе, там, где отношения между людьми опосредствуются государством, – там справедливость из института прямого обмена правами превращается в институт перераспределения прав – и начинает называться «юстицией». При этом издержки перераспределения налагаются на тяжущихся (а также на потенциальных участников возможных тяжб, то есть на налогоплательщиков). Менеджмент издержек берет на себя государство – за вознаграждение, разумеется. В это вознаграждение входит не только денежная составляющая, но и право регулировать требования тяжущихся, поскольку государство присвоило себе, помимо прочего, еще и менеджмент людских ресурсов (см. выше, заинтересованность в налогоплательщиках). Отсюда – отказ от талиона, а также от прямых и грубых реституций и виндикаций, которые только нарушают деликатные балансы на рынке прав и обязательств. Отсюда же – понятие «справедливая компенсация», учитывающее интерес третьей стороны, то есть государства.
Венцель фон Тронка, охотник и кутила, поставил свой шлагбаум на дороге как бы в ответ на интенсификацию свободного передвижения людей, товаров и услуг по всей Германии. Нет, он не хотел стать тормозом на пути складывания общенационального рынка. Он просто хотел взять свою скромную долю в новых экономических условиях. Другое дело, что эта инициатива дорого обошлась и ему, и городам Виттенбергу и Дрездену, и прежде всего честному труженику Михаэлю Кольхаасу, который этот шлагбаум снял.
Еще труднее обстоят дела в глобализованных сообществах. Издержки наслаиваются как снежный ком – пропорционально размножению институтов. Справедливость становится одним из самых дорогих товаров на мировом рынке.
Итак, наблюдается интересная закономерность: чем больше дорог (и чем больше людей и товаров едут по дорогам), тем больше шлагбаумов (и тех, кто их стережет, и тех, кто их пытается отменить или обойти). Дорогу здесь следует понимать и как реальное инженерное сооружение, и как метафорическую инфраструктуру свободы. Ситуация лучше всего иллюстрируется развитием национальных законодательств о миграции и динамикой миграции как таковой. С ростом международных экономических и политических взаимозависимостей законы о миграции постоянно ужесточаются, меж тем как миграция постоянно растет. Таким образом, свобода – это континуум запретов, а запрет, в свою очередь, – это каталог способов его обойти.
Чтобы все было как было
Бытие, согласимся, определяет сознание. Но сознание, а тем более политическое бессознательное не хотят с этим примириться. Политическое бессознательное питается древней традицией талиона и реституции. Эта традиция постоянно возобновляется в раннем семейном воспитании, а также поддерживается ультрасовременными леволиберальными мыслителями.
В цитированном выше словарном определении справедливости есть весьма провокационный пассаж: «Требование соответствия между реальной значимостью отдельных индивидов (социальных групп) и их социальным положением». Самое опасное слово здесь – «реальный». Кто сможет справедливо измерить реальную значимость данного человека или данной группы – и кто согласится с результатами измерения, если оно не в его пользу? Кольхаас был богатым плебеем, а Тронка – бедным аристократом, и каждый действовал в соответствии с собственными представлениями о значимости своей персоны и своей социальной группы. Государство в лице имперского суда унизило Тронку и убило Кольхааса, тем самым восстановив некий баланс, который оно преподнесло народу (кстати, оплакивавшему Кольхааса) как единственно справедливое решение.
Ситуация, сделавшая такое решение возможным, уникальна. Что было бы, если бы коней не нашли или Кольхааса бы поймали? В большинстве случаев не находят и не ловят. И война продолжается.
Очень часто чувство справедливости – это желание, чтобы «все было как было», чтобы прежняя, хорошая жизнь, о которой слагаются мифы и легенды (и которая сама часто есть миф и легенда), была восстановлена во всей своей красоте и полноте (или же была бы построена по утопическим чертежам).
Это невозможно. Невозможно восстановить – вернее, построить – индейский (баскский, чеченский, тамильский) рай. Сделать все как было «до прихода оккупантов». Невозможно искупить унижения, которые столетиями терпела чернокожая община США. А что делать с гастарбайтерами в Европе? С молодежью, которую поманили – коммунизмом или веселым обществом потребления, – а потом бросили? С беднейшей частью рабочего класса? С обманутыми вкладчиками российских банков? Список таких утрат, в принципе не компенсируемых, но чрезвычайно актуальных, можно продолжать и продолжать.
Чувство справедливости – возмещения невозмещаемого – невозможно утолить. Оно двигало и движет «сендеристами», «сапатистами» и прочими лесными и горными братьями. Оно же движет более мирными гражданами, в любой стране составляющими протестный электоральный ресурс, который внезапно может консолидироваться вокруг весьма опасных политических проектов. Или вообще резко двинуться в сторону от стандартных моделей политического действия.
Но это слишком изящные слова. На деле речь идет о радикальном переформатировании самой идеи государства. Нельзя жить в плотном окружении террористов, сепаратистов, городских партизан и контролирующих целые регионы криминальных группировок, делая вид, что то ли их вовсе нет, то ли очень мало, то ли они ни на что не влияют.
Справедливость – вот спусковой крючок будущих перемен, не сулящих быстрого завершения. Это верно и для отдельных стран, и для глобализованного мира. Демократия, принесенная имперскими цивилизаторами на пользу «покоренным угрюмым племенам», сыграла с Белым Человеком жестокую шутку. Бывшие колонии говорят с бывшими метрополиями на общем языке, на языке избирательного права и парламентской процедуры, а теперь и на языке прав человека, толерантности, сохранения этнической, культурной и религиозной идентичности. Возразить нечего, потому что это язык европейской либеральной культуры.
Они (Азия, Африка, Латинская Америка и наши европейско-американские маргиналы) требуют немногого – всего лишь справедливости. То есть чтобы их пропустили в лучшую жизнь без лишних вопросов. Поскольку в прошлом они от нас натерпелись.
Мы (Европа, США и Канада, и в особенности крепкий средний класс) не против справедливости. Но мы в это понятие включаем шлагбаумы на дорогах. Надо иметь пропускное свидетельство, а оно стоит денег. Но денег нет.
Записка о будущем
И все опять начинается по Клейсту. Настойчивые поиски справедливости уводят с торной дороги права в бездонное и бескрайнее мировое подполье. Туда, где в стычках и сговорах полевых командиров, криминальных лидеров и прочей нелегитимной публики кроится и сшивается на живую нитку новая государственность – национальная и, самое главное, транснациональная. Так сказать, «мировое сообщество – 2».
Не случайно письмо, где предсказывалось будущее саксонской династии, оказалось в руках Кольхааса, и не случайно он его проглотил перед смертью, не показав никому. Знание будущего и само будущее принадлежат Кольхаасу. Он символически проглатывает правящую династию, уничтожая и вместе с тем делая частью своего тела, – то есть переформировывает государство по собственным меркам.
Но откуда взялась старуха-цыганка с письмом о будущем, откуда взялся человек, передавший Кольхаасу записку с предупреждением, и почему эта записка подписана именем умершей жены Кольхааса? Кажется, что Клейст здесь предсказал существование подпольных (так и хочется сказать – партизанских) сетей. Имя жены – еще проще. Подпольные мятежники, как правило, создают вокруг себя ауру бессмертия.
Клейст предсказал еще одну очень важную вещь: религиозное обновленчество как существенную часть агрессивных социальных движений. Кольхаас и его жена – ревностные лютеране, хотя Лютер начал проповедовать совсем недавно. Но религиозность Кольхааса жестока. «Пусть Бог не простит меня так же, как я не прощаю юнкера Тронку», – говорит он, отправляясь в поход, и называет себя посланцем Михаила и Мечом Бога.
После казни Кольхааса курфюрст Бранденбургский посвятил его детей в рыцари и отправил учиться. Это был символический акт интеграции незаконных вооруженных формирований в существующую государственность, путь к национальному примирению. Шире – попытка интегрировать отчаянных искателей справедливости в этот несовершенный, но дифференцированный мир – возможно, смягчив тем самым будущие конфликты.
Доказательство справедливости
Кольхаас говорит, что государство его отторгло, потому что лишило защиты. Поэтому-то он ведет с ним войну.
Лютер возражает: государство в принципе не может кого-то отторгнуть, ибо каждый человек есть член государства по определению. Он считает, что в злоключениях Кольхааса виноваты судейские чиновники и нерадивые государевы слуги, а сам император тут ни при чем. Что-то слышится родное…
Но у Клейста государство описано во всей красе сумбурных чиновничьих совещаний. Государство – это не что-то могучее и всеобъемлющее, как убежден Лютер. Это люди, суетливые, не очень умные, но зато знающие собственную выгоду и умеющие порадеть родному человечку. То есть интересы государства – это на самом деле чьи-то личные интересы.