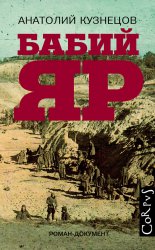Отнимать и подглядывать Драгунский Денис
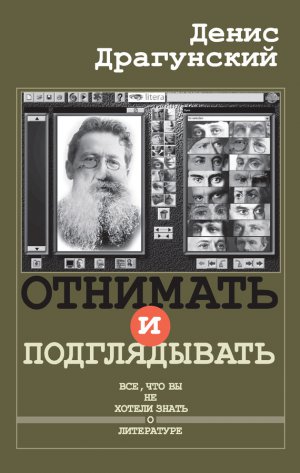
Старая задача снова на повестке дня. Необходимо доказать, что современное государство может эффективно управлять шлагбаумом на дороге свободы. Что справедливость есть результат независимого судебного решения, а не бросок напролом и не подкуп.
Но что такое «доказать»?
«Хотя термин “доказательство” является едва ли не самым главным в математике, он не имеет точного определения и во всей его полноте принадлежит математике не более, чем психологии: ведь доказательство – это просто рассуждение, убеждающее нас настолько, что с его помощью мы готовы убеждать других».
Дефицит таких «убеждающих рассуждений» свидетельствует, на мой взгляд, о кризисе государства как универсального менеджера индивидуальных прав и обязательств. Обслуживание шлагбаума в обозримом будущем может перейти в руки негосударственных институтов или даже частных лиц. Несмотря на жертву, которую принес государству Михаэль Кольхаас.
Маленький человек, что же дальше?
На станции московского метро «Курская-кольцевая» закончена реставрация. Предъявлена полная историческая достоверность 1949 года. Восстановлены строки советского гимна с упоминанием имени Сталина. Бронзовые плакетки переделаны – Волгоград в надписях снова стал Сталинградом, и появились неаккуратно подчеканенные слова «за родину, за Сталина». Хотя историческая достоверность на самом деле неполная. Главный артефакт – статуя вождя – отсутствует. Якобы она пропала, не нашли на складе. Несерьезные отговорки: неужели копию сделать нельзя было? Можно, конечно. Но как-то опасно. Пока опасно. Несвоевременно, а значит – неправильно. Сталин возвращается ползком. Вот в этом соблюдается полная достоверность. Именно так он и пришел в нашу историю. Не ворвался, как Ленин, в одночасье ставший премьер-министром и диктатором, а втерся посредством медленных аппаратных интриг.
С одной стороны, конечно, приятно, что восстановили красивый вестибюль в стиле советского ар-деко. С другой стороны, противно, что сталинизм просачивается во все щели. То вдруг эффективный менеджер, то вот теперь имя на стене. Капля камень долбит не силой, но частым паденьем. На месте, где была пропавшая статуя, сделана световая ниша (то есть освещенная пустая овальная выемка в стене). Метростроевское начальство подчеркивает, что это не просто так себе ниша, а именно световая. Светоносная? Это у них проговоры по Фрейду или у меня восприятие по нему же? В общем, если статуя вдруг найдется, для нее уже есть подобающее место.
Все разговоры о чисто культурно-архитектурном значении события, о том, что это просто восстанавливается просто первоначальный просто облик простой московской станции метро, – все эти разговоры воспринимаются как полнейшее лицемерие. В Москве масса зданий, историческая ценность которых никак не меньше, чем вестибюль «Курской-кольцевой». И, однако, их бестрепетно рушат, а на их месте возводят нечто издевательски смахивающее на оригинал. Военторг на Воздвиженке – лучший пример. Это был действительно выдающийся памятник русской деловой архитектуры стиля модерн. Я лет пять своего детства жил рядом, я прекрасно помню этот замечательный пассаж, обширный и вместе с тем уютный, его залы и лестницы, фонари и перила, портал, украшенный статуями древнерусских воинов. Сейчас эти воины смотрятся как мизерабельные статуэтки на пародийно могучем портале. А сколько было по поводу Военторга протестов общественности – страшное дело. Но никто их не услышал, к сожалению. И вдруг такая невесть откуда взявшаяся историческая трепетность по поводу строчки старого гимна и имени генералиссимуса на бронзовых рельефах. Такое вот капризное упрямство реставраторов, которому никакой административный ресурс ну просто не в силах противостоять.
Хотя тот же административный ресурс повелел воссоздать (пересоздать? сфантазировать?) в отреставрированном дворце в Царицыне тронный зал Екатерины II. Зал, которого там никогда не было, и трона никакого не стояло, и никого на нем никогда не сидело. Так что не надо про достоверность, пожалуйста.
Тут, кстати, еще одна интересная частность. Вестибюль станции метро «Курская-кольцевая» в своем первоначальном виде простоял лет восемь. В 1949 году открыт, а вскоре после ХХ съезда КПСС (1956) имя низверженного тирана было снято со стен. Так продолжалось до сего дня. То есть «десталинизированная» «Курская-кольцевая» имеет возраст более пятидесяти лет. Какой же период более, так сказать, историчен? И разве десталинизация 1950-х годов – это не историческое событие?
Если уж погружаться в угар восстановления всяческой первоначальности, то давайте вернем московскому метро имя наркома Кагановича. С самого первого поезда до 1955 года метрополитен носил это славное имя и был переименован в ходе все той же хрущевской десталинизации. Лазарь Моисеевич – верный сталинский сокол, настолько верный, что даже пытался составить заговор против Хрущева. Давно пора восстановить!
Можно также сломать краснокирпичные кремлевские стены и вернуться к белокаменным. А то и к деревянным – так оно историчнее и первоначальнее.
Но это так, невеселые шутки. А если серьезно – почему так много людей столь сильно привязаны к Сталину? Даже не к сталинизму (к которому у тех же людей масса рациональных претензий – коллективизация, голод, репрессии, неудачи первых лет войны) – а именно к Сталину, лично-персонально, так сказать? Мне не раз приходилось встречать в прессе и в интернет-блогах оправдания Сталина как человека, как личности. Причем, что особенно интересно, буквально рядом с осуждением советского тоталитаризма. Да, были горы трупов, реки слез, океаны человеческого горя, да будут вовеки прокляты палачи… но он (Он! ОН! Милый, родной, любимый, скромный, простой, мудрый и могучий Иосиф Виссарионович) не виноват. Оправдания самые разные. От добродушно-обывательских: «Ну ведь не может один человек уследить за всем, что делается в огромнейшей стране». До чудовищных в своем циничном формализме: «С 1920-х до начала 1940-х И. В. Сталин не занимал официальных постов. Он не был главой государства или правительства. Он работал в партии, роль которой не была прописана в Конституции. Поэтому все претензии к его деятельности в 1930-е годы юридически бессмысленны». В обоих случаях – хороший человек, попавший в плохую компанию.
Откуда такая любовь?
Рискну предположить – из кино.
Но не из кино сталинских времен, где славили вождя, а из кино времен застойных и отчасти нынешних.
Главным героем сталинского кинематографа был простой советский человек. Свинарка и пастух. Почтальон и дровосек. Кто были «Веселые ребята»? Тоже пастух и домработница. Кругом одни солдаты, шахтеры, рабочие, колхозники, совслужащие и артисты цирка. Нет, конечно, встречались и генералы, и секретари обкомов, и даже сам товарищ Сталин в исполнении артиста Геловани иногда был в кадре. Но именно как фон, как рамка. Сами фильмы в подавляющем большинстве были про маленького человека. О да, это был не тот маленький человек, о судьбе которого рыдала великая русская литература, и не тот, кого описал Ганс Фаллада в знаменитом романе. Это был счастливый, радостный, оптимистичный, трудолюбивый, в меру серьезный, в меру забавный, очень хороший и душевный, но – маленький. Обыкновенный. Как ты да я да мы с тобой. Как девяносто девять процентов граждан любой страны. Он не глядел в Наполеоны. Не ломал историю через колено. Не ворочал судьбами людей. Он жил себе, работал, любил, и в ходе этого возникали разные поучительные приключения.
Эти фильмы и были мощнейшим механизмом, формирующим идентичность. Согласно этим фильмам, маленький советский человек был равен самому себе. Точка и подчеркнуть.
Конечно, в конце 1940-х появились фильмы о более продвинутых товарищах. С одной стороны, шикарные биографические картины о русских ученых, художниках и военачальниках, снятые в рамках кампании борьбы с низкопоклонством и космополитизмом. С другой стороны – фильм «Весна» (1947) – сплошные актеры, режиссеры и академики. Такой вот псевдо-Голливуд. Псевдо – потому что настоящий Голливуд, где Золушка возносится до вершин славы, – это, конечно же, «Светлый путь» (1940). Но он-то как раз Сталину не понравился. Потому что маленький человек должен остаться таковым.
Не знаю, были ли «байопики» рубежа 1940–1950-х, вкупе с фильмом «Весна», провозвестниками застойных фильмов про советских випов. Но мне кажется, что хрущевская десталинизация загадочным образом модифицировала кино. Единый и недосягаемый вождь рухнул. Золотой идол раскололся и разменялся на червончики областных и районных руководителей, которых теперь никто не мог расстрелять или стереть в лагерную грязь. Они сами стали вождями. Едиными и недосягаемыми в районных и областных масштабах.
Точно так же в кино косяком пошли образы начальства, военного и гражданского. В какой советский фильм ни плюнь – главный герой то академик, то писатель, то генерал, то крупный промышленный руководитель. Не говоря о партийных секретарях. А если уж простой человек, то либо Робин Гуд («Берегись автомобиля»), то какая-никакая, а начальница («Служебный роман», «Москва слезам не верит»).
Наступила смена идентичности. Нет более механизма, который воспроизводит ценность «быть маленьким человеком». Насмотревшись советско-застойных фильмов (а также воспоследовавших «Бригад»), наш человек стал глядеть в Наполеоны. Он перестал быть равен самому себе. Он возмечтал о славе, богатстве и могуществе. То есть о власти. Всеобщей, глобальной, безграничной и беспощадной, что особенно важно. Возмечтал о стрелках, которые он проводит на карте. А также о «стрелках», где он разводит пацанов. Он стал в своих фантазиях сильным, жестоким и бестрепетным. Стал Сталиным-в-себе и даже отчасти Сталиным-для-себя, как сказал бы философ гегелевской школы.
Но, поскольку в реальности такое перевоплощение невозможно, наш бывший маленький человек нашел в недавней истории свою точку идентификации: образ вождя народов. А также точку зрения, обратите внимание. Почти все исторические и социальные суждения наших современников делаются как бы с властной вершины. Люди охотно становятся на место власти, которая, бедняжка, просто вынуждена была сгонять крестьян с земли, закрепощать рабочих на фабриках и бросать почти безоружных солдат навстречу гитлеровским танкам. Но они почти никогда не становятся на место тех, кого сгоняли, закрепощали, кидали на смерть. Люди в своих фантазиях «рулят и разводят» (виноват, «вяжут и разрешают») – кого-то другого, кого они сами за людей-то и не считают.
Меж тем это они сами и есть. Они, они, которые по утрам и вечерам теснятся на станции метро «Курская-кольцевая», под свежеотреставрированным именем их палача, которого они считают богом.
Маленький человек, ну а дальше-то что?
Петр Минаев, автор «Тихого Дона»
Современных писателей осуждают за то, что они забыли о священной миссии художника. За то, что они слишком уж благополучны. Забыли об ответственности – перед людьми, Богом, судьбой, перед самой жизнью, которую им назначено отражать в своих книгах. Наконец, за то, что они пишут не для народа, а для узкого круга литературных заправил: редакторов, членов жюри различных премий и директоров разных фестивалей, куда так приятно съездить за счет приглашающей стороны. То есть литература превратилась для них из высокого служения в заработок или даже в забаву.
Да, литература – штука трудная. Подчас даже трагическая.
Писатели и поэты спиваются, стреляются, гибнут в тюрьмах и на дуэлях и вообще влачат жизнь, полную несчастий и неудобств. Так повелось издавна. Гомер был слепой. Сократа отравили. Софокла наследники выгнали из дому и вообще чуть было не объявили умственно неполноценным. Сервантес сидел в тюрьме. Кристофера Марло убили, Андре Шенье казнили, а в ныне благополучной Скандинавии в Средние века царили жесточайшие литературные нравы. Поэты-скальды своими стихами покупали у королей право на жизнь, и такие стихи назывались «Выкуп головы». Что касается писателей-самоубийц, их полный список приведен в книге Григория Чхартишвили, которая так и называется – «Писатель и самоубийство».
В этом надо разобраться подробнее.
Трагическая судьба писателя стала культурным шаблоном: взять, например, Сирано де Бержерака. Почему-то многие считают, что его тоже убили. Но это неправда. Реальный Сирано (1619–1655) умер то ли от старых военных ран, то ли от тяжелого инфекционного заболевания. Или от сочетания обеих причин, которые не имеют ничего общего ни с трагизмом литературы, ни с ответственностью писателя перед народом. Убивают талантливого и смелого Сирано в одноименной пьесе Эдмона Ростана. Это все-таки немножко другой Сирано. Вроде как Гремин, муж Татьяны Лариной. Он не у Пушкина, а у Чайковского. Кроме того, Сирано де Бержерака в этой пьесе убивают не из-за стихов, а из-за дурного характера (почти как нашего Лермонтова). Но Лермонтова застрелили на дуэли, а тут – «страшное бревно упало из окна и голову разбило там проходившему случайно Сирано»; конечно, это были козни врагов, но, повторяю, не в жизни, а в пьесе.
Софокла обижали родственники не за «Царя Эдипа», а из бытовой жадности. И никто не знает, за что в 1593 году убили Кристофера Марло ножом в глаз. Темное дело. Проверяли все версии – от шпионской деятельности до ссоры на питейно-бытовой почве. Давно это было. Следствие закончено, забудьте.
Однако запомните: Кристофера Марло убили не за его творчество. Андре Шенье казнили во время Французской революции за чистую политику (обвинение в роялистском заговоре). Кстати говоря, по ходу истории убивали не только литераторов, но и деятелей других отраслей культуры и науки. Архимеда и Галуа тоже убили. Но не за математику. И даже Нерон погубил Сенеку не за философию. Как и прочие античные кровопийцы губили античных поэтов – не за поэзию. Любой слух или миф на этот счет нуждается в тщательном историко-филологическом анализе. А скольких портных казнили не за кройку и шитье, поваров – не за обеды и ужины, архитекторов – не за дворцы и храмы! Страшное дело. Особенно когда представители указанных профессий служили при дворе деспота. Деспоты убивают своих подданных не «за что», а «почему». Потому что они тираны и садисты. Что же касается древнескандинавского «выкупа головы» – то это не литературная традиция, а случай. Конунг Эйрик приговорил скальда Эгиля к смерти – разумеется, не за стихи, а за то, что тот во время войны, сражаясь на стороне другого конунга, убил его сына. Но Эгиль тут же сочинил хвалебную песнь Эйрику. Тот помиловал поэта. Эта песнь с тех пор так и называется. Еще было два-три похожих происшествия. Но самое главное – никто не казнил скальда за неудачные стихи. А наградить за удачные – могли.
Для кого пишет писатель – это вообще загадка. Но ясно, что не всякий раз прямо и непосредственно для народа, для широких читательских масс. Пушкин, например, иногда писал специально для Н. П. Романова. Но там были уважительные обстоятельства. «Пир Петра Первого», «В надежде славы и добра» и все такое. Пытался воспитывать царя. Так что задним числом можно сказать, что да, для народа.
На два десятка трагических писательских судеб приходится две сотни безоблачных, но столь же великих. Достаточно полистать «Литературную энциклопедию». Более или менее безоблачных, разумеется. Но без ножа в глаз, без тюрьмы и сумы.
Как тут определишь меру трагизма и ответственности, если тебя не убили, не арестовали, если ты сам не удавился или не спился?
Ведь большинство писателей (прозаиков и поэтов) были вполне благополучными господами. Иначе они бы просто не смогли писать. Для этого нужно время и здоровье, приспособленное помещение (окно, стол, стул, полка для книг и бумаг). Чай с сахаром, каша с мясом. Семейные радости, поддержка товарищей, любовь читателей – тоже нужны. Даже Достоевский при всем трагизме его творчества был, повторяю, вполне благополучным господином. Отсидел за революционные грехи молодости, а дальше все было в общем и целом неплохо. Любимая жена, прекрасные дети. Огромный успех сочинений, авторитет в обществе, признание со стороны высших властей: приятельство с Победоносцевым, приватная встреча и беседа с наследником престола. Ну да, хворал. Но в те времена все хворали. Были бы нынешние лекарства, и Пушкин бы не умер так рано, и Чехов бы тоже.
Бог и дьявол сражались в сердце великого писателя. Сам же он долго и придирчиво заваривал чай; Анна Григорьевна вспоминает, как тщательно он добивался оптимального сочетания горячести и крепости. По полчаса возился у самовара с кипятком и заваркой.
Трагизм творчества и трагизм жизни – вещи разные. Совмещаются они очень редко. По техническим причинам. Посмотрите на собрание сочинений и писем Ф. М. Достоевского. А также И. С. Тургенева, А. П. Чехова, Ч. Диккенса, О. де Бальзака и Э. Золя. Не говоря уже о Л. Н. Толстом. Посчитайте тома, проведите пальцем по корешкам. Это же просто руке тяжело столько написать! А душе – столько пережить? А мозгам – столько обдумать? Нужна спокойная творческая обстановка. Каковая сама по себе ничего не гарантирует. Но и задавленность жизненными драмами не гарантирует хоть какой-то ценности написанного под означенным прессом.
И вообще – о чем мы?
Полагаю, опять о значении слов.
Есть слова, которыми удобно фехтовать. Вот, например, скажет один человек, что литература – это процесс производства, распространения, потребления и оценки текстов, которые принято называть «литературными». Другому человеку не нравится этот ползучий институционализм. Он возражает: «А как же сакральность литературы? Где же ответственность писателя? Простая (перед народом), а также экзистенциальная (перед собственной судьбой)?»
Генерал Шебаршин говорил: «Бывают слова, к которым трудно подобрать мысли». Однако попробуем.
Слово «сакральность» только кажется туманным. Сакральность – это маркировка чего-либо как священного, существующего отдельно от профанного. Сакральное нельзя распознать вне религиозной сетки координат, где небесное противопоставлено земному, церковное – светскому, канон – апокрифу, писание – преданию, ортодоксальность – ереси. Но в каждой культуре или даже субкультуре такая система координат – своя собственная. Не может быть вещей самих по себе канонических, еретических и т. п. Что русскому сакрально, немцу профанно, и наоборот. Поэтому в древнегреческих театрально-литературных фестивалях ничуть не больше сакральности, чем в наших. Не говоря уже о мистериальности (то есть о ритуалах, в которые вкладывается некий особый смысл, скрытый от непосвященных, в нашем случае – от тех, кого на фестиваль не пригласили).
С экзистенциальной ответственностью на первый взгляд сложнее. Это уже что-то мистическое (в хорошем смысле слова), это внутреннее, личное, интимное переживание важности и истинности момента. Если сакральность – чисто социальная, «учрежденная» штука, то экзистенциальная ответственность – нечто скорее эмоциональное. Но тут запятая: мое переживание важности и истинности не может быть только моим. Если я хочу, чтобы его признали истинным и важным, оно должно быть подтверждено кем-то другим. Экспертами, критиками, просвещенными читателями. Потому что субъективно любой графоман, особенно наивный графоман, наполнен экзистенциальной ответственностью просто-таки до ушей. Его распирает. Его взрывает изнутри. Он пишет кровью сердца, лимфой, спинномозговой жидкостью. Порою даже спермой, как говорил Василий Розанов о собственных писаниях. Но нам не нравится. Мы не сопереживаем, нас не со-распирает и не со-взрывает с ним вместе. Нам смешно или жалко. Очевидно, нужно вхождение в некий контекст. Экзистенциальная ответственность нуждается в учреждении не менее (а может, в силу своей неухватности и более), чем сакральность.
Вернулись к институтам.
В литературе и особенно в понимании литературного процесса мы еще не выбрались из институционального наследия советской власти. Оно, это наследие, эта path dependency (зависимость от наезженной колеи) проявляется порой неожиданно.
Я писал, что графомания как образ жизни была учреждена советской системой литературных консультаций. Каковая система, в свою очередь, базировалась не только на административных регламентах (ответы на письма трудящихся), но и на идее «призвать ударников в литературу», создать из передовых пролетариев мощную когорту правильных писателей. Это для нас особенно важно. Советская литература – это был общий проект типа плана ГОЭЛРО. Отдельные писатели – не все, но самые замечательные – были конкретными проектами типа отдельных электростанций.
Сама возможность создать «большого писателя» почти из ничего, из одной посредственной повести (проект «Фадеев») или вообще неизвестно из чего (проект «Шолохов»), или ну совсем не из того (проект «Алексей Толстой») – эта возможность оказалась величайшим соблазном для издателей и пиарщиков грядущих поколений. Хотя они, наверное, сами не знают, по чьему следу идут. Однако нет никакой существенной разницы между раскруткой современного детективщика и возгонкой классика соцреализма. Если такая разница и есть, то она только моральная. И она в пользу ЭКСМО или АСТ. Нынешних королей спроса читают всё же добровольно, а Фадеева (и многих-многих других) читали вынужденно, из-под учительской палки и в условиях ужасающего малокнижья. Но в сухом остатке – возможность раскрутить кого угодно.
«Пьер Менар, автор Дон Кихота» – борхесовский парадокс.
Автором «Тихого Дона» мог стать любой Петр Минаев (имя-фамилия условные).
История русской советской литературы – точнее, история разгрома, а также сдачи и гибели уцелевших остатков русской литературы – еще не написана. Еще не составлен мартиролог людей и идей, человеческих судеб и моральных норм. Не знаю, что делалось в литературах бывших «союзных республик»; им теперь разбираться самим. Нам же для начала надо понять, что это был именно разгром, сдача и гибель. И стыдно называть литературой рыдания и попискивания, которые слышались в ходе этой катастрофы. При всем сочувствии к ее жертвам. Но давать совпису оценочную фору за то, что он жил при Советах так же глупо, как давать фору графоману за то, что он пишет после тяжелого трудового дня.
Отдельные особо радикальные литературоведы считают, что мир и относительное благополучие вредят культуре. Дескать, мы в России уже несколько десятилетий живем вегетарианской жизнью. Без массовых расстрелов, войн и эпидемий. И от этого литература, и особенно поэзия, становится вся такая безвкусная. Вегетативная. «Овощная».
Ну и хрен бы с ней, а? Если так ставится вопрос.
Владимир Максимов однажды сказал, что ему надоели крики «а зато у нас был Достоевский». За что за то? За тяготы и горести простого человека, который и Достоевского-то не читал? Максимов сказал, что, будь его воля, он бы с радостью сменял Достоевского на Швейцарию. Пусть у нас в России будет безбурная благополучная удобная жизнь, а у них, у швейцарцев то есть – пусть у них «зато» – за все их беды и неустройства, за вековое рабство, за нищету и несправедливость – пусть у них будет Достоевский. А мы его переведем со швейцарского на русский.
Это совершенно правильно по моральному существу, но не совсем верно исторически.
Потому что вопрос ставится совсем иначе.
Никакого «зато» в истории нет и не было никогда.
Напротив, всегда известно было – когда говорят пушки, музы молчат. Гитлер был еще хуже Сталина. Поэтому гитлеровские писатели еще хуже, чем сталинские.
Откуда же взялась странная мысль о том, что чем круче репрессии, войны и эпидемии, тем лучше литература? Эта людоедская мысль – вернее сказать, эта мазохистская глупость – пришла к нам из советских времен. Вот как это получилось.
Русской литературе в СССР было плохо – это мало сказать. Ей стало вовсе никак. Русский роман, честь и слава нашей культуры, исчез по понятным соображениям – какое там срывание масок и сострадание униженным и оскорбленным. Сталинизм не дал приличной прозы. Поэзия? Но Ахматова, Мандельштам, Пастернак, Цветаева, а также Маяковский сложились до совка, и до совка и вне совка написали своё самое лучшее. При совке они в хорошем случае повторялись. В плохом – писали холуйские стихи.
Но советская власть, на словах поклоняясь великой русской литературе, одновременно твердила о проклятом прошлом, о страшных годах царизма. И советские люди – писатели в том числе – поверили в это. Вот и щелкнуло в их голове: самая лучшая на свете литература была в самое мрачное время, при самой жестокой власти. В эпоху шпицрутенов и крепостного права. А значит, и мы, совписы трудных дней, тоже чего-то стоим.
Шпицрутены и крепостное право, конечно, были. Было много народных тягот, правдиво описанных русскими писателями XIX века. Но невдомек было совписам, что писатель XIX века жил в преблагополучной, по сравнению с веком ХХ, обстановке. Поэтому русский писатель мог спокойно и честно осмыслять ужасы своей эпохи.
Но эти ужасы не шли ни в какое сравнение с ужасами совка, но вот об этом-то советский писатель молчал. Или врал.
Кстати, русско-советский литературоцентризм – это тоже совписовское самооправдание, самолюбование тоже. Советский миф о том, что в России литература была единственным способом самовыражения нации – возник как компенсация советского запрета на русскую философию, русское богословие, русское правоведение, русскую социологию, политическую публицистику – да на всю русскую мысль XIX и особенно начала XX века, которая не умещалась в «три этапа революционного движения». И уж конечно, сталинская Россия не была литературоцентричной. Литература была инструментом, «частью общепролетарского дела». И эту роль совписы приняли. Одни – совершенно добровольно и сознательно. Другие – сначала по принуждению, а потом привыкли.
Интим с властью – вот что опошлило советскую литературу до полного бесстыдства. Ни у какого русского и, пожалуй, европейского писателя нет ничего похожего на тот пусть даже амбивалентный, но вездесущий, масштабный, обожаемый образ власти, который создала советская литература. Не найдете ни булгаковского Воланда, ни слов Юрия Олеши о «власти гения, которая есть прекрасная власть» («Строгий юноша»), ни бесчисленных Лениных и Сталиных, а также секретарей обкомов, райкомов и заводских парткомов. Представьте себе тему дипломного сочинения санкт-петербургского студента «Образ Александра II в русской прозе 1860–70-х гг.». Даже смешно. А то же самое про совписов – да милое дело!
Совпис целиком захвачен советской властью, пронизан ее проблемами – конкретными, текущими, даже сиюминутными; он воспринимает их, как свои собственные, задушевные. Повести Юрия Трифонова осуждались подслеповатыми критиками за приземленность и бытовизм. Напрасно! Весь цикл его «московских повестей» – это сведение счетов между «ленинской гвардией» и «сталинцами» причем Трифонов открыто стоит на стороне первых, то есть на стороне расстрельщиков и террористов первого призыва.
Поразителен гомоэротизм советской литературы, эта страстная, почти плотская влюбленность в вождя. Чуковский в своих дневниках договорился до того, что Сталин – женственно прекрасен. Я ни в какой мере не являюсь гомофобом. Я люблю книги таких великолепных писателей, как Жан Жене и Евгений Харитонов. Но когда писательское сообщество в своей совокупности, как целое, превращается в «приплывшего» – это отвратительно. Игорь Губерман пишет о заключенных, которых насиловали: «Они <…> приплывают, как говорят на зоне. А начав испытывать удовольствие, порой сами уже просят о нем зэков – преимущественно блатных, олицетворение мужчины, хозяев зоны» («Прогулки вокруг барака»). Да, судьба отдельного человека такого рода может вызвать сострадание. Но когда целая литература становится пассивным партнером власти – «сие есть мерзость перед Господом».
Сегодняшнее фестивальное, то есть чуть легкомысленное бытование литературы без зряшных и претенциозных попыток ответить на все проклятые вопросы и, уж конечно, без «экзистенциальной ответственности», то есть без столыпинского вагона за неправильный стишок про вождя – это всего лишь возвращение мировой (и русской тоже!) нормальности на искалеченные просторы совка.
Не надо цинически восклицать, что десятилетия мира и покоя – это, дескать, явление одноразовое и временное. Не надо звать беду.
Фестиваль, и особенно литературный интернет, помогает отвести беду. Смягчает идейные противостояния. Становится средством массовой психотерапии. Учит выражать боль и ярость не ножом и бомбой, а словами. Выразить в звуке всю меру страданий своих. Я читал недавно, что на конкурс «Дебют» (до 25 лет должно быть автору) поступило 400 тысяч работ. Целый областной город. Почти полмиллиона молодых людей спасены от тупой и опасной злобы. Это очень хорошо. Это великолепный культурный итог.
Правда, надо учесть, что в ходе такого самоанализа, самораскрытия и самовыражения редко создаются тексты, которые выдерживают проверку временем и/или широкой аудиторией. Ну и что?
Поэзии и прозы от этого не убудет.
Дух дышит где хочет. Поэзия и проза тоже родятся где хотят.
Но чаще всего поэзия – особенно русская, про другую не знаю – рождается на царскосельских лужайках (Пушкин, Ахматова, потом и Анненский туда приехал). Или в умных профессорских домах (Цветаева, Белый, Пастернак). Наконец, в богемных мансардах, где дым табачный воздух выел (футуристы, Маяковский, формалисты, обериуты). Там, где есть простор для творчества, а не борьба за физическое выживание.
Кто писал лучше – юная царскосельская львица или изувеченная советской властью старуха? Попробуйте ответить на этот вопрос честно, сбросив с души социально-политические гири, сбросив предварительное знание об ужасах пережитого.
А представление о непременно кровавой судьбе поэта – наследие советской (жестокой, конфронтационной, садомазохистской) модели мира. Живучее советское вранье.
Что же, выходит, «еще плодоносить способно чрево»?
Да нет, конечно. Ложная беременность. Сама рассосется.
Молчание близнят
Любой скажет, что «Чук и Гек» – это книжка Гайдара. Но мало кто скажет, о чем она. Я специально проверял: не знают.
Вот аннотация из интернета:
«Герои замечательной повести Аркадия Гайдара (1904–1941) – неугомонные мальчики Чук и Гек. Эта книжка о настоящей любви, дружбе и верности, о том, что “надо честно жить, много трудиться и крепко любить и беречь эту огромную счастливую землю”».
Повесть действительно замечательная.
Человеку современному и несведущему может показаться, что речь в этой повести идет об экологии. Неугомонные мальчики (судя по именам, индейцы?) борются за защиту окружающей среды. Надо бы слово «Земля» написать с большой буквы.
Но нет, конечно. В аннотации использована последняя фраза гайдаровского рассказа (конечно, это рассказ, а никакая не повесть). Но у фразы отрезан конец. У Гайдара написано: «… частливую землю, которая зовется Советской страной». Очевидно, автору аннотации стало немножко стыдно.
Рассказ напечатан в январе 1939 года. Написан в конце 1938-го. Как там насчет счастья в этом замечательном году? 1937-й год закончился лицемерным январским пленумом 1938-го (высшая власть заявила, что многих «честных коммунистов» расстреляли зря). В марте состоялся еще один Большой Процесс. Ягоду уничтожил Ежов, но уже в декабре Ежова заменили на Берию. По самым сдержанным просоветским оценкам, за два года Большого Террора было арестовано и осуждено около полутора миллионов человек, а расстреляно из них около 700 тысяч.
Т. А. Гайдар, сын писателя, в примечаниях к «Чуку и Геку» пишет: «Конец 1938 года был для Аркадия Гайдара действительно “крутым”. В ноябре неожиданно была приостановлена публикация его новой повести “Судьба барабанщика”. Сложным было время и для страны. В “Чуке и Геке” нет отзвука тех событий. И все же рассказ “Чук и Гек” несет на себе их своеобразный отсвет».
Очень интересный пассаж. У Гайдара остановили публикацию повести. Это, безусловно, неприятный момент в жизни каждого писателя. Но и (!) для страны тоже время было сложным – полтора миллиона за решеткой, почти 700 тысяч уничтожено по приговору суда; кроме того, немало народу просто погибло в лагерях.
К вопросу о ровесниках Чука и Гека – было «изъято» более 25 тысяч малолетних детей, из них возвращено в семьи родственников – около 3 тысяч. 22 тысячи Чуков, Геков (и Светлан из «Голубой чашки») пошли в спецдетдома.
В общем, время было непростым, да.
И действительно, рассказ «Чук и Гек» несет на себе отзвук тех событий.
Довольно сильный, надо сказать.
Хотя молчаливый. Молчание и есть отзвук. “Cum tacent, clamant”, как сказал Цицерон несколько по другому поводу. «Их молчание красноречивее крика».
Зимние радости «Чука и Гека», веселая поездка мамы с двумя непослушными ребятами к папе-геологу на край страны, чудесные наблюдения из окон купейного вагона, мальчик с кошкой, бодливый козел, заснеженные сопки, красавица таежная ель… Да и сами веселые потасовки мальчишек Чука и Гека – ах, как они тузят друг друга, как смешно они ссорятся! – всё тот же отзвук событий.
В виде плотно зажмуренных глаз, заткнутых ушей, головы, спрятанной под подушку, – ночью, когда из соседней квартиры слышался топот сапог, слова прощания, женский плач и детский крик.
В виде головы, завернутой в газету «Правда» и засунутой в радиоприемник, – днем.
Как точно написал Глеб Павловский в одной из своих давних статей, советская власть воспитывала – и воспитала! – слабаков. Потому что сильный человек – это не командир бронепоезда, который «неутомимо ждал приказа от Ворошилова, чтобы открыть против врагов бой». «Неутомимо ждал» – какая великолепная оговорка, какой поразительный парадокс! Почти как «молчаливо кричал». Или «отечески убивал».
Сильный человек – это и не папа Чука и Гека. Даром что он такой здоровенный: в шкафу звенит посуда, когда он идет по комнате. Сильный человек – который заступится. В 1938 году не заступались. Слабаки, они молчали. Или писали сказочки про купейный вагон, где счастливая женщина со своими веселыми детишками едет к мужу на заснеженный край земли. Как раз в тот год, когда по России ехали арестантские вагоны. И везли десятки, сотни тысяч мужей, жен и детей. В разные края нашей огромной счастливой земли.
– Ну и что? – скажут мне. – Но ведь и нетронутые геологи тогда были, и их красивые жены, и Чуки с Геками тоже, и купейные вагоны были, разве нет? И вообще многие ничего не знали!
– Были, конечно были! – отвечу я. – Не знали, откуда же им знать! Но зачем мы тогда возмущаемся нынешним гламуром на фоне нищеты? Почему мы недовольны тем, что дети олигархов учатся в Англии, а дети безработных живут впроголодь?
Нынешняя прискорбная социальная слепота и безответственность – это распаковка Чука и Гека. Генетический код советской цивилизации, проросший в наше капиталистическое сегодня.
Кстати, а как их на самом деле звали, Чука и Гека? В тексте Гайдара на этот счет нет никаких указаний. Некоторые исследователи считают, что их звали, скорее всего, Михаил (Мишук, Шук, Чук) и Геннадий или Евгений (Ген(ь)ка, Гек). Да, и еще. Скорее всего, они близнецы. Потому что в детских потасовках всё время выскакивает вопрос, кто старше.
На этот вопрос есть совершенно неожиданный ответ. Мой корреспондент из Америки уверяет, что имена Чук (Chuk) и Гек (Huck) весьма распространены в США. Изначально это были сокращения от Чарльз и Гекльберри. Но они давно используются как официальные полные имена. Ну, как у нас в России иногда встречаются Ляля Петровна или Ася Марковна, вот прямо по паспорту.
Тем самым мой корреспондент предполагал, что Чук и Гек – это эмигранты из Америки. На фоне замечательного фильма «Цирк», который вышел на экраны за год до публикации гайдаровского «Чука и Гека», это кажется вполне вероятным.
А вдруг на самом деле это были веселые мулаты, а их мама – своего рода Марион Диксон? Но не гимнастка, а коммунистка-политэмигрантка с двумя детьми от борца за права чернокожего населения, которого замучил в застенках ФБР подлый Гувер? Ну, тогда другое дело. Тогда ясно, что сталинская цензура прошлась по Гайдару своими ножницами, и в результате светлый рассказ о любви и дружбе превратился в не совсем внятный текст. Но зато совершенно понятным становится поведение сторожа. То-то я удивлялся, что он не отпер жене и детям товарища Серегина его уютную комнату, а побежал на лыжах узнавать у него лично, в чем дело. Теперь вопросов к сторожу нет: на дальнюю геологическую станцию приехала иностранка и два негритенка – ясное дело, шпионы. Шутка, конечно. А там – кто его знает…
Но это домыслы на грани вымысла. Возраст мальчиков точно не известен – но ясно, что они еще не ходят в школу. У них не имена, а прозвища. А у мамы и папы тоже нет имен (правда, у папы есть фамилия – товарищ Серегин). Почему? Но не потому, что при тоталитаризме все люди обезличены. Это было бы слишком просто и, как ни странно, «протестно». А потому что всё происходящее в этом рассказе – и в этой огромной счастливой советской стране – воспринимается с точки зрения дошкольника. Есть Мама и Папа. Синие горы. Начальники и враги.
Взгляд веселого ребенка. Это именно тот взгляд на мир, который более всего устраивает начальников.
Поразительно бессодержательная рецензия Шкловского на «Чука и Гека»: «У Гайдара появился новый голос и новое литературное умение. Он как-то более лирически понял жизнь». Еще более лирически, чем в «Голубой чашке», которая заканчивается знаменитой фразой про жизнь, которая, товарищи, была совсем хорошая. Советским начальникам нравилась именно такая лирика.
Некоторые гайдарофилы обращают внимание вот на какую фразу из «Чука и Гека»: «Кругом стояла тишина, как зимой на кладбище». Вот, дескать, Аркадий Гайдар тайком подпустил свое истинное отношение к итогам Большого Террора. Но не надо преувеличивать. Здесь нет никакого выплеска гражданской скорби. Это всего лишь образ, родившийся в голове горожанина. Сельский житель сказал бы – как зимой в лесу.
Вот, кстати, еще один пассаж. Мать узнала, что Чук и Гек потеряли телеграмму, и рассердилась. «Ну что с таким народом будешь делать? Поколотить их палкой? Посадить в тюрьму? Заковать в кандалы и отправить на каторгу?» Смеяться после слова «каторга». Мне кажется, что в 1938 году это звучит несколько бестактно. В контексте сложного времени, которое переживала страна.
Зачем Гайдар это написал, даже интересно.
Зачем он показал 1938 год глазами веселого и благополучного шестилетнего дитяти?
Это не просто детский рассказ. О детях и для детей, и отстаньте. Так писали Хармс и Введенский. Известна их судьба. У Гайдара в конце – политическое поучение. Кажется, что весь рассказ написан ради этого. Ради той фразы, которую стыдливо урезал автор сегодняшней аннотации.
Т. А. Гайдар пишет: «В этом рассказе, в разговорах его взрослых и маленьких героев, в раскрывающейся перед читателями панораме нашей огромной страны Аркадий Гайдар отстаивает свой оптимизм свою непреклонную веру в правоту ленинского дела, которое все равно одолеет любые беды и трудности».
Гайдар создавал миф о счастливой советской стране. Намеренно и цинично? Трусливо и осмотрительно? Или сам верил в то, о чем писал? Или не различал границы между правдой и мифом?
Неважно. Важно понимать, что прелестная сказка про Чука и Гека – это всего лишь одна из моделей лживого советского мифа. Который имеет неожиданные распаковки в настоящем. В виде цинизма, трусости и полного социального равнодушия.
Говорят, время такое было. Такие тогда были люди, такое у них было воспитание, миропонимание.
Но не у всех есть такое право – ссылаться на время. А также на воспитание и миропонимание.
Когда престарелый большевицкий каратель говорит, что «он верил в партию» и что «время такое было», надо его спросить: сколько он пожалел священников, которые верили в Бога? Крепких крестьян-хозяев, которые нанимали работников, потому что время такое было? Белых офицеров, потому что они давали присягу? Часто ли он, заседая в составе чрезвычайной тройки, рассматривал воспитание и миропонимание обвиняемых? Что, дескать, они – дети своего времени? Что они в свое время делали для страны всё, что должны были сделать (воевали с Японией и Германией, вешали эсеровских бомбистов), и что поэтому «мы их судить не вправе».
Не было такого. Судили по всей жестокости террористического беззакония.
Поэтому не надо про время и особенности менталитета.
Гайдар не пытается понять или, пуще того, оправдать своих, так сказать, отрицательных героев. Да у него, собственно, таких героев и нет. В смысле – в его книгах нет людей, думающих и живущих иначе, чем велено думать и жить. Есть маски, картонные фигуры злодеев в «Школе» или «Судьбе барабанщика». Или вообще условные обозначения: буржуины, плохиши, шпионы и диверсанты. Наконец, просто «враги», как в рассказе про Чука и Гека.
«Никаких компромиссов, пониманий и примирений с буржуинами, шпионами, вредителями и просто врагами!» – учил нас Гайдар своими красивыми книгами.
Поэтому – никаких компромиссов с Гайдаром.
Время и место Юрия Трифонова
В декабрьском номере «Нового мира» за 1969 год была напечатана повесть Юрия Трифонова «Обмен». Это был не просто блестящий литературный текст, но и важнейший идейный рубеж. Трифонов обозначил собою – точнее, последним периодом своего творчества – эпоху 1970-х. Начал и завершил эпоху мощную, странную и до сих пор очень влиятельную в общественном сознании. Над шестидесятниками смеются, 1970-е годы вспоминают с всё большей и большей ностальгией; само слово «застой» уже считается некорректным – предпочитают говорить об апогее и апофеозе советской истории.
Трифонов уместился в 1970-е, как перстень в футляр. Семидесятые начались 20 августа 1968 года, закончились 10 декабря 1982 года. «Обмен» был напечатан через полтора года после подавления Пражской весны. Автор скончался за полтора года до смерти Брежнева. Далее была быстрая смена дряхлых генсеков, перестройка, распад СССР – и, главное, распад той идейно-художественной парадигмы, которая казалась Трифонову незыблемой – и в укрепление которой он внес весьма значительный вклад.
Помню потрясающее впечатление, которое произвел на меня «Обмен», – более сильное, чем «Мастер и Маргарита» (журнал «Москва», 1966–1967). Гораздо более сильное, чем великолепный триптих преобразившегося Валентина Катаева (как тогда говорили, молодого Катаева) – «Святой колодец» (1965), «Трава забвенья» (1967) и «Кубик» (1968). Деревенскую прозу я тогда почти не читал. Вернее, проглядывал, но эти авторы мне совсем не нравились. Ибо я их воспринимал – наверное, не совсем справедливо – как реакционеров. Потому что в полемике «Нового мира» с «Октябрем» и «Огоньком» я был, естественно, на стороне Твардовского, а не Кочетова и Софронова.
Однако я уже прочитал напечатанный на папиросной бумаге роман Солженицына «В круге первом». Конечно, я был поражен мощью и масштабом этой книги, а в особенности той жуткой действительностью, которая открылась мне. И конечно, раньше я читал «Один день Ивана Денисовича» и «Правую кисть» (тоже в самиздате).
Трифонов не только выдержал это сравнение – с Булгаковым, Катаевым и Солженицыным. Он легко их победил – в моей душе, разумеется. И, полагаю, в душах огромного большинства интеллигентных советских горожан, не задетых обеими ветвями диссидентства, демократической и националистической.
Помню, как я сказал своей маме: «Трифонов не остановится на “Обмене”. Он еще напишет несколько прекрасных вещей. Он станет очень знаменит. Он вообще станет нашим лучшим писателем». Я это сказал просто так, от души. Я в самом деле так думал. Недели через две мама сказала: «Я видела Юру Трифонова, я ему передала, что ты сказал. Он прямо весь расплылся, покраснел от удовольствия!»
Думаю, что ему не просто был приятен комплимент от юного почитателя. Тут дело было несколько глубже. Помню еще один мамин рассказ. Нина Нелина, первая (погибшая в 1966 году) жена Трифонова, рассказывала моей маме. Дело было в конце 1950-х. Ранняя слава Трифонова – автора повести «Студенты» – уже схлынула. Вот Нина рассказывала:
– Представляешь себе, подружка говорит мне: «Ты среди писателей вращаешься, познакомь меня тоже с каким-нибудь писателем, я тоже хочу за писателя замуж. Ну, я не прошу какого-нибудь знаменитого или гения, а вот так – простого такого, нормального, среднего писателя. Ну, как твой Юрка, например».
Возможно, таково было самоощущение самого Трифонова. Есть живые классики Симонов, Федин, Леонов. Есть молодые авторы «лейтенантской прозы» Бондарев и Бакланов, есть писатели-деревенщики. Еще не выдохлись поэты-шестидесятники. Обо всех о них спорят в журналах. Еще есть хмурый Солженицын. Есть диссиденты-самиздатчики. И есть огромное большинство «простых, нормальных, средних писателей». Обыкновенных. Хороших, но никому особенно не интересных.
Тем более что роман Трифонова «Утоление жажды» (1963) и его отличные рассказы середины 1960-х – все это было принято читателями и критиками весьма благожелательно, но тоже так, нормально. Но вот вышел «Обмен» – и Трифонов второй раз в своей жизни «проснулся знаменитым». Первый раз – в 1950 году, после «Студентов», когда выпускник Литинститута опубликовал свою повесть в «Новом мире», получил Сталинскую премию и целые мешки восторженных читательских писем.
Потом наступила долгая пауза.
«Обмен» сразу сделал Трифонова советским писателем № 1. Об этом говорили восторг и ярость, с которой читатели и критики набросились на эту маленькую повесть (а также на следующие вещи Трифонова, до «Другой жизни» включительно). Ругали и хвалили Трифонова за одно и то же – за быт. За то, что его герои живут мелкой и до обидного приземленной жизнью. Недовольны – по мелочи, ссорятся – по мелочи и счастливы тоже по мелочи. Обменять квартиру, защитить диссертацию, получить прибавку к жалованию, устроить сына в институт. Одолжить у брошенной женщины деньги на лечение матери. В санатории переспать с медсестрой, а потом чинно вернуться к жене. После смерти мужа тут же найти себе женатого, но очень умного и доброго друга. «Где же большие цели? – спрашивали критики, в том числе и неглупые. – Как не стыдно писать о тупых злых мещанах?»
Люди узнавали себя и брезговали собою узнанными.
Трифонов с добродушной серьезностью объяснял, что слово «мещане» ничего плохого в себе изначально не содержит, оно означает «горожане». И никаких «мещан в плохом смысле слова», то есть людей тупых и злых, в его повестях нет. «Но ведь и в самом деле, – писал Трифонов в каком-то интервью, – отрицательная Лена из “Обмена” вовсе не отрицательная. Не изменяет мужу, не предает друзей, не обвешивает покупателей. Она любит мужа и дочь, заботится о семье, ее ценят на работе, она даже соавтор учебника!» (цитирую по памяти, но близко к тексту). Конечно, Трифонов посмеивался над своими критиками. Ему важно было не кто человек снаружи, а что он такое внутри, в душе. Трифонов принес в советскую литературу – подарил советскому читателю – долгожданную психологичность и многомерность.
Кстати говоря, все или практически все герои Трифонова – именно герои, за исключением фоновых персонажей – люди худо-бедно интеллигентные. В обоих смыслах слова. Люди думающие и люди умственного труда. Научные сотрудники, литераторы, преподаватели, служащие, старые большевики на пенсии.
О старых большевиках чуть позже.
Трифонов пишет о «чистой публике» – опять же в обоих смыслах слова. О «чиновниках не ниже титулярного», как выразился Чехов в знаменитом письме к Киселевой. И о людях в общем и целом благоустроенных, даже если они живут в коммунальных квартирах. Быт – он, конечно, тяжелая штука, но герои Трифонова бытом не сломлены и неустанно его улучшают, приспосабливают под свои желания и нужды. В этом кардинальное отличие Трифонова от пришедших позже Людмилы Петрушевской и Нины Садур, где быт равен бытию. Трифоновские же герои живут все-таки чуточку над бытом. Бытовое неустройство им мешает думать и чувствовать. Оно, это неустройство, занимает некое досадное место в их жизни. Но быт, разумеется, не определяет их мыслей и чувств. Герои Трифонова мыслят работой, любовью, историей, моральными категориями – а не очередями, нехваткой денег, протекающим потолком, тараканами и больной собакой, как герои упомянутых писательниц.
В этом смысле Трифонов писатель полностью советский. Или, если угодно, писатель эпохи модерна (не в смысле «стиль модерн», он же art nouveau, а в смысле «индустриальная цивилизация»). Со свойственным модерну четким разграничением души и тела, верха и низа, осмысленного бытия и бессмысленной повседневности. Поэтому не надо обманываться «бытовизмом» Трифонова – он-то как раз писатель возвышенный, решающий большие проблемы, вышивающий крупный узор, но – на мелкой канве реальности. И в этом он, конечно, на сто голов превосходит большинство советских писателей – и «простых, нормальных, обыкновенных», и даже выдающихся – которые создавали в своих романах и рассказах какой-то малоузнаваемый мир, удобный и красивый.
После «Другой жизни» Трифонов напечатал роман «Дом на набережной» и большую повесть «Старик» – это уже был другой заход и замах. То, что едва проблескивалось в «Обмене» и «Другой жизни» в виде реплик и отрывочных воспоминаний дедушек-бабушек, вышло на первый план. Это была искренняя попытка осмыслить русскую катастрофу. Или хотя бы поговорить о ней. Если в «Старике» представлен первый акт трагедии – сама революция и красный террор, то в «Доме на набережной» – ее четвертый акт, судороги сталинского режима («борьба с низкопоклонством перед Западом»).
Старые большевики не случайно мелькнули в «Обмене».
Тема революции, террора и репрессий была Трифонову понятным образом близка. В 1967 году в «Политиздате» вышла его документальная книга «Отблеск костра», рассказ об отце писателя, Валентине Трифонове, председателе Военной коллегии Верхсуда (уничтожен в 1938 г.). Брат его, дядя писателя, командарм Евгений Трифонов, был расстрелян в 1937 году. Двоюродный дядя по матери – высокопоставленный советский юрист Арон Сольц, прозванный «совестью партии», в 1938 году насильно отправленный в психбольницу и безвестно умерший в апреле 1945-го.
Должен был произойти какой-то расчет с прошлым. Двойной расчет. Во-первых, с режимом, который погубил отца и дядю, выгнал семью из Дома на набережной, из чести и богатства в нищету и ничтожество. Во-вторых, с самим собою, с книгой «Студенты» (1950) – где так называемая «борьба с низкопоклонством» описана со всем восторгом юного сердца.
«Дом на набережной» – это как бы новая версия «Студентов». Тот же филфак в конце 1940-х. Но милый искренний Белов стал хитрым и подловатым Глебовым (фамилия звучит как анаграмма). Гнусный низкопоклонец Козловский превратился в Ганчука, который вызывает сочувствие, а его гонители – наоборот, омерзение. Белов просто расстается со своей девушкой – Глебов предает свою возлюбленную.
Мы все никак не доберемся до старых большевиков.
Но сначала кинем быстрый взгляд на русскую советскую литературу 1960-х.
К тому времени в нашей литературе обозначилось три главных идейных потока.
В СССР, который десятилетиями жил в тяжелейшем социально-политическом расколе (на красных и белых, на пролетариев и «бывших», на ленинцев-сталинцев и троцкистов-бухаринцев), – говорить об идейных потоках, увы, необходимо, хотя и противно. Куда приятнее говорить о поэтике и стилевых взаимовлияниях. Хотя, наверное, почти во всех странах есть литература правая и левая, почвенническая и космополитическая, традиционная и авангардная. В СССР в 1960-е годы сформировалось три литературы – советская, антисоветская и, так сказать, внесоветская.
Советская литература признавала предложенную властью идейную парадигму как данность. Таково было подавляющее большинство тогдашних литераторов.
Антисоветская – изо всех сил с нею боролась. Это были единицы – Солженицын, Шаламов, Синявский и Даниэль, Аркадий Белинков. Простите, если кого не упомнил. Но важнее всего была тут не борьба с советской властью, не обличение ее пороков, а именно неприятие официального воззрения на отечественную историю и советское общество.
Внесоветская – представляла собою попытку вообще из нее выпрыгнуть, писать, как будто ты не советский писатель, а американец в Париже. Примерно так старались писать Аксенов и Гладилин, Венедикт Ерофеев и молодой Катаев. Отчасти даже Нагибин.
Трифонов – безоговорочно советский писатель. Он не существовал вне правил русско-советского литературного поведения – то есть не мог отказаться от политического высказывания. Собственно, концентрация на повседневности и была таким высказыванием: просто жизнь – вот предел, очерченный для добрых граждан. «Внесоветская литература» молодых космополитичных шестидесятников и примкнувшего к ним Катаева была другой – стилистическая фронда, осторожные насмешки над авторитетами, обращение к запретной русской философии. Трифонов называет эту философию «Леонтьевы, Бердяевы и прочие Белибердяевы» и принципиально не касается текущей политики.
Вот, собственно, кредо 1970-х: молчи, занимайся собой. Собой, своими делами, понял?
Что касается советской истории, то он принял официальную, точнее говоря, официально никогда не отмененную концепцию: добрые и честные люди («ленинцы») совершили революцию и победили в гражданской войне, а потом пришли злые и подлые люди («сталинцы») и уничтожили добрых и честных.
Конечно, жизнь сильнее доктрины, особенно у такого писателя, как Трифонов. Кошмарная реальность коммунистического террора 1920-х прорывается на страницы «Старика», проскакивает фразами в «Доме на набережной». Но русский, а за ним и советский писатель не может только показывать, он непременно должен объяснять. И тут Трифонов, проникновенный мастер психологических подробностей, точнейший аналитик тончайших мотивов поведения, – тут он вдруг начинает говорить о тектонических сдвигах истории и уподобляет общественные конфликты столкновению наэлектризованных грозовых туч. То есть вдруг переходит на безличный, какой-то метаисторический уровень.
И это понятно. Человечески, психологически понятно. Трифонов остается верным, любящим, тоскующим сыном своего расстрелянного отца. Сыном честного коммуниста-ленинца, которого уничтожили сталинские перерожденцы. Понять, принять и вслух сказать, что в 1937 году старый пахан натравил новую банду на банду прежнюю, – он не мог. И уж тем более не мог позволить себе вспомнить, что ленинская гвардия поубивала не меньше народу, чем сталинские соколы.
Ужасный парадокс: чтобы понять и сказать полную правду о «Доме на набережной» и его обитателях, Трифонову надо было бы стать Павликом Морозовым – осудить и обесславить своего погибшего отца. Но Павлики Морозовы не пишут хороших книг.
Писательская сила Трифонова именно в его исторической ограниченности, как сказал бы старый марксист Ганчук из «Дома на набережной».
Поэтому так хорошо у него получались старики закалки 1920-х годов, твердокаменные старухи-моралистки, старые большевики, престарелые бомбисты, народовольцы и прочие идеалисты, готовые ради своего благородного нетерпения столкнуть страну в кровавое болото. А в быту умеющие поднять отношения сына и невестки на невиданную принципиальную высоту и дать смертный бой мещанству.
Видно было, что своих ровесников Трифонов очень хорошо понимает, точно оценивает, безжалостно анализирует. И довольно часто осуждает. Хотя они, в сущности, неплохие люди, как он сам признает. А стариков – тех, которые когда-то в кожанках и с маузерами, а теперь в пижамах и с газетками, – их он любит. Несмотря ни на что. И конечно же, он понимал, несмотря на что. «…И это было слитно, не разодрать, как два разноцветных куска пластилина, скатанных в шар…» («Дом на набережной»).
Проницательный историк и талантливый писатель – разные профессии.
Я не согласен с Трифоновым политически и исторически.
Но я обожаю его как писателя. Когда я недавно перечитал «Время и место», то снова поразился – ни одного пустого абзаца, ни одной проходной фразы.
И я очень рад, что он не стал историком или борцом, как Солженицын или Белинков. Тогда не было бы у нас писателя Трифонова.
А еще я благодарен судьбе, что виделся и разговаривал с ним. Два раза довольно подробно. Всего два раза. Мы были соседями по даче, он жил напротив, через аллейку, я дружил с его дочерью и зятем, но мне было как-то неловко. Однако два раза случилось. Помню, я его спросил: «Кто сейчас самый интересный писатель, как вам кажется?» Он сказал: «Фридрих Горенштейн». Я первый раз услышал эту фамилию и спросил: «А где его можно почитать?» Трифонов мрачно ответил: «Нигде. Его не печатают».
Такие дела.
Литературные мечтания
Интернет – давайте не будем заниматься самообманом – уже практически вытеснил печатную прессу. Хотя бумажные газеты, конечно же, сохранятся. И бумажные объявления на стенах. И даже надписи на заборе.
Точно так же электронная книга обязательно заменит печатную. Ну, не совсем заменит, а решительно потеснит. Вытолкнет на обочину.
Удобные и недорогие электронные книги уже есть. Непонятно, почему печатная книга должна остаться главным носителем текстов. Привычка? «Ах, как приятно полежать с книгой на диване!» Какая чепуха. А почему вам с букридером на диване не лежится? В кресле не сидится, в стогу не валяется, в поезде не едется?
Наверное, в свое время кому-то милее были глиняные таблички. С ними было гораздо приятнее, чем с папирусом, сидеть в тени зиккурата.
И уж конечно, были сибариты и традиционалисты, которые протестовали против «кодексов» (книг в нынешнем виде, которые надо перелистывать). Им были привычнее «волюмены» (то есть свитки, которые надо было перематывать с палочки на палочку, а потом укладывать в футляр).
Кстати, переход от «волюмена» к «кодексу» был настоящей информационной революцией. Стало гораздо удобнее читать несколько книг сразу. Сопоставлять, переписывать, цитировать, компилировать, делать закладки, искать в тексте нужное место. Это было гораздо важнее, чем переход от рукописной книги к печатной.
Тем более что от манускриптов не отказались в одночасье. Печатная книга вытесняла рукописную постепенно, в течение столетий. Рукописные книги есть и сейчас. Например, девичьи альбомы. Или дневники, они же «ежедневники». Но при этом любому ясно, что манускрипт – это маргинальное явление.
Это я к тому, что традиционные бумажные книги тоже будут издаваться всегда. Но их будет всё меньше и меньше. С каждым годом они все сильнее и сильнее будут превращаться в игрушку, сувенир.
Конечно, сопротивляются не только простодушные консерваторы-читатели. Консерваторы-писатели тоже – до тех пор, пока не будет изобретена внятная система гонораров. И конечно, издатели и книготорговцы. Владельцы гужевого транспорта поначалу сопротивлялись паровозу и автомобилю. Но самые умные из них быстро перестроились, переделали свои каретные сараи в автомобильные фабрики и гаражи.
Но я, собственно, не о том.
Я о литературе.
Даже самому странно, зачем я написал такое длинное и скучное введение.
Наверное, потому, что я никак не решусь сказать то, что собрался. Слегка робею. И сам себя отвлекаю посторонними рассуждениями.
Однако вперед.
Цифровые технологии изменят не только способ хранения и передачи текста – они изменят самоё литературу. Дело не только в скорости и компактности. Дело в поисковых машинах, которые становятся все более и более мощными. Дело в «программах извлечения информации», которые сейчас активно разрабатываются.
Изменится не только литература настоящего и будущего. Литература прошлого – тоже (потому что прошлое существует в настоящем, и более нигде).
Литература – это довольно сложный, но в целом понятный и привычный организм. Писатели, издатели, массовые читатели, читатели – ценители и знатоки. Профессиональные критики, некоторые специальные институции (клубы, премии, фестивали). Но в центре литературы – суверенные тексты. Которые нельзя публиковать без спросу, сокращать и растягивать, резать на куски и продавать по кусочкам. Нельзя цитировать без ссылок, слишком уж нахально подражать, а тем более переписывать наново или включать в другие тексты и так далее.
Вся эта система, сложившаяся за последние две – две с половиной тысячи лет, рушится на наших глазах.
Дефицит и книголюбы
Во все времена хороших книг не хватало. Всегда оказывалось, что самые лучшие, самые нужные, самые важные книги уже распроданы (или запрещены властями). В общем, их нельзя достать. В советской стране книжный дефицит усугублялся нерыночной издательской политикой. Гонорар советского писателя зависел от тиража, но тираж далеко не всегда зависел от продаж: в дело вступали властные отношения и соображения идейности, партийности и прочей, как тогда говорилось, целесообразности. Хорошие книги издавались, но молниеносно сметались с прилавков. Книги плохие лежали мертвым грузом.
Спецраспределители были не только для дефицитных шмоток, но и для книг. Специальная книжная экспедиция (было такое учреждение) снабжала партийно-советскую номенклатуру Прустом и Кафкой, Шукшиным и Мандельштамом. Для советских творцов существовала «Книжная лавка писателей» со знаменитым вторым этажом, куда пускали только по членскому билету Союза писателей. В букинистических магазинах было либо никому не нужное старье, либо мало кому интересный антиквариат. Зато на тротуарах перед букинистическим всегда толпились книжные жучки, предлагавшие тех же Пруста с Кафкой из-под полы, в 5–10–20 раз дороже официальной цены, вытисненной на переплете.
Поэтому книгами стремились обладать. Купить и поставить на полку. Хорошая домашняя библиотека – главное достояние и главная гордость образованного человека. Оно и понятно: в читальный зал ходят по учебной или профессиональной необходимости; берут в библиотечном абонементе или у друзей только то, что никак иначе не достать. Но любимые книги должны быть собственными. Нужные справочники – тоже. Не побежишь ведь всякий раз в библиотеку, чтобы перелистать Чехова или заглянуть в словарь псевдонимов! Особая гордость – отцовские и дедовские книги. Не только гордость интеллигентскими корнями (о знаменитые «три университета»!), но еще и обладание книгами (точнее, текстами), которых сейчас не достанешь. Русская философия, поэты-акмеисты, Киплинг, Ницше, и пр., и пр.
Среди книголюбов ХХ века собственно библиофилы (коллекционеры раритетов) составляли ничтожно малую долю. Люди покупали, выменивали, добывали именно тексты, а не собственно книги как предмет культуры. Даже знаменитый Анатолий Тарасенков, собравший почти все издания всех русских поэтов 1900–1955 годов, тоже был скорее текстолюбом, потому что добытые книги переплетал по своему вкусу – поступок для настоящего библиофила непозволительный.
Букридеры и интернет-ресурсы гарантируют реальную общедоступность любых текстов (за исключением тех, которые пока еще не оцифрованы и не вывешены, но это вопрос времени). Личная библиотека на глазах перестает быть символом образованности и духовности. Стеллажи от пола до потолка – штука скорее ностальгическая, чем реально необходимая. Тем более что всех нужных книг все равно не купишь и на полках не расставишь.
Это как с водоснабжением: когда живешь далеко от колодца, то полезно запасать воду впрок, натаскать большую бочку. Если колодец во дворе – принесешь ведро, и до следующего раза. А если в доме водопровод – открываешь кран и наливаешь ровно столько, сколько нужно сию минуту. Чайник, а то и чашку.
Капкан изобилия
Свобода печати и рыночная экономика буквально за десять лет совершили чудо. Книг в новой России издается значительно больше, чем в СССР, – и по названиям, и по общему тиражу. Однако в результате картина получилась столь же ужасающая, только в противоположном смысле. Если в СССР книгу интересного философа или историка расхватывали за три дня, то в нынешней России таких книг явный переизбыток. Я не знаю, как обстоят дела с литературой по естественным наукам, но в науках гуманитарных просто голова идет кругом, едва подойдешь к прилавку. Ярмарка Non-Fiction производит на меня до странности гнетущее впечатление. Хотя, казалось бы, радоваться нужно: великое множество книг, толстенных, прилежных, мелким шрифтом и с комментариями. По всем темам, которые ты только мог вообразить. И примерно вдвое больше – по темам, которые ты, если честно, и вообразить не мог. Потрясающее изобилие. Но при этом – бессмысленное. По любой отдельной проблеме книг издается столько, что их физически невозможно не только прочитать, а хотя бы перелистать. Никаких денег не хватит, чтобы их купить, никаких сил, чтоб донести до дому, никаких полок, чтобы расставить.
Бессмысленно покупать книгу, в которой тебе нужно несколько страниц или даже строк. Странно тратить от 300 до 800 рублей на книгу, которую прочтешь в лучшем случае один раз. Тем более что интересных новинок – десятки, а то и сотни на каждой ярмарке, в каждом магазине.