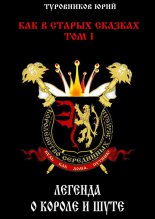Лермонтов и Пушкин. Две дуэли (сборник) Голлер Борис
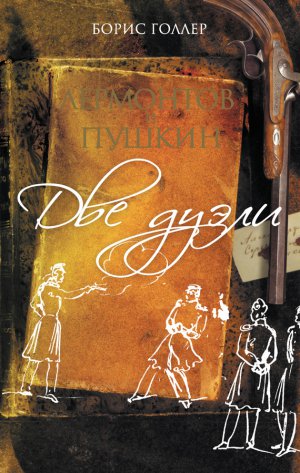
- …Но, право, этих горьких строк
- Неприготовленному взору
- Я не решуся показать…
- Скажите ж мне, о чем писать?..
Повторим! Эта забота Лермонтова о «неприготовленном взоре» оказалась чем-то новым. На столетия вперед. Представьте себе Достоевского с его открытиями «бездн и язв духа», которого вдруг взволновала опасность смутить чей-то «неприготовленный взор».
В свое время прекраснодушье наших предков оставило нам в наследство нечто трудно выразимое словами – с чем, тем не менее, много лет мы должны были считаться, – представление о некоем «Гоголевском периоде русской литературы». – Коего никогда не было и в помине – и не могло быть. Гоголь был один – и остался один. Его никто не понял. Он и сам себя не слишком хорошо понимал! Подлинные последователи Гоголя пришли много поздней – и он бы первым отшатнулся от них. Мало кто был так одинок и остался одинок в литературе, как Гоголь… И если говорилось о «Гоголевском периоде» – совсем непонятно было, с какого боку в нем мог примоститься Лермонтов.
Или для него нужно было придумывать еще один период. Особый.
Но все это – чушь, конечно. Был всего один период – пост-Пушкинский. И он длился больше полувека – до конца XIX, а может, дольше. Тынянов где-то сказал, что после Пушкина весь девятнадцатый век русской литературы только и делал, что боролся с Пушкиным.
Спор шел, конечно, не с самим Пушкиным, – но с художественной системой Пушкина. С пушкинским ощущением мира.
4
Лучшим рассказом Лермонтова стал бы, верно, «Штосс», если б автор успел дописать его. То есть то, что мы называем «Штосс»: «У графа В. был музыкальный вечер». Рассказ навеян, конечно, «Портретом» Гоголя – больше нежли чем-нибудь. (Иные определяли ему в отцы Гофмана. Не знаю. Мне легче отталкиваться от Гоголя.) Тема: проигрыш возлюбленной в карты. Тот же художник – только Лугин. Тот же портрет, случайно доставшийся герою о казавшийся вдруг в центре происходящего. Интересно сопоставить описания лиц на портретах… У Гоголя: «Это был старик с лицом бронзового цвета, скулистым, чахлым; черты лица были схвачены в минуту судорожного движения и отзывались не северною силою. Пламенный полдень был запечатлен в них. Он был драпирован в широкий азиатский костюм…»[31]
В. А. Лопухина
У Лермонтова: «…поясной портрет, изображавший человека лет сорока в бухарском халате, с правильными чертами, большими серыми глазами; в правой руке он держал золотую табакерку необыкновенной величины. На пальцах красовалось множество разных перстней»[32]. Даже «азиатский костюм» пришел из Гоголя. У Лермонтова это – «бухарский халат».
Несколько расходится оценка самой живописи: «…когда удалось счистить с лица пыль, он увидел следы работы высокого художника. Портрет, казалось, был не кончен, но сила кисти была разительна» (Гоголь). «Казалось, этот портрет писан несмелой ученической кистью, платье, волосы, рука, перстни, все это плохо сделано» (Лермонтов). «Высокий художник» и «ученическая кисть». Но важно главное, что отмечено в том и другом портрете. У Гоголя «Необыкновеннее всего были глаза: казалось, в них употребил всю силу кисти и все старательное тщание сам художник. Они просто глядели, глядели даже из самого портрета, как будто разрушая его гармонию своею странною живостью». («Разрушая гармонию… живостью» – это очень сильно!) У Лермонтова: «В выражении лица, особенно губ, дышала такая страшная жизнь, что нельзя было глаз оторвать: в линии рта был какой-то неуловимый изгиб, недоступный искусству и, конечно, начертанный бессознательно, придававший лицу выражение насмешливое, грустное, злое и ласковое попеременно». «Такая страшная жизнь» в лице – тоже надо запомнить. В одном случае – глаза: сильные, беспощадные, разрушающие… В другом случае: «изгиб губ», выражающий, прежде всего, насмешку. Может, над судьбой? (Что такое игра в штосс – как не сама Судьба?) «Насмешливое, грустное, злое и ласковое» – это про Лермонтова. Про него самого. Ниже он скажет: «В лице портрета дышало именно то неизъяснимое, возможное только гению или случаю». «Гений или случай» – уж подчеркнем мы сами.
И дальше… сон или явь о старике, покидающем ночью свой портрет, и «уходящем в рамки» после. Но тут две фабулы расходятся – чтоб больше, очевидно, не встретиться.
Одно удовольствие следить, как Лермонтов отрывается от своих образцов. Как он оставляет от них скорлупки и выплевывает. Так интересно наблюдать, как он без разбору берет ноты из пушкинского аккорда «Путешествия в Арзрум» в своем «путевом очерке» из «Героя» – переставляя их местами, чтоб получался новый аккорд. (Непосредственно об этом – чуть ниже.)
Так в «Маскараде» он беззастенчиво «отработал» Шекспира. Взяв, в сущности, весь его ход в «Отелло» – любовь стареющего человека к юной, прекрасной и добродетельной женщине. И показывая, что делают с этой любовью злые языки – светская сплетня, которая легко заткнет за пояс наглого и воинственного «возрожденческого» Яго… Быстро превратив любовь в зеро, а разуверение в любви – в преступление.
- Я потерял ее, и я обманут.
- Мне может только ненависть помочь.
- О, ужас брачной жизни! Как мы можем
- Считать своими эти существа,
- Когда желанья их не в нашей воле?..[33]
Разве это – не одно и то же? Даже платок Дездемоны превращен в браслет Нины. Да и сама Нина не являет собой никакой новый характер: как две капли воды, Дездемона – только из другого мира. Но Отелло доверчив, наивен, благороден, а Арбенин – циник и один из тех, кто сам споспешествовал превращению этого мира в мир без любви и сострадания. У него была одна вера: частичка веры – его любовь. Единственное прибежище, где эта вера скрывалась. Он думал, что не ошибся, – только единственный раз. А жизнь умело подбрасывает ему доказательство мнимой ошибки.
У Гоголя в «Портрете», в сущности, реальны все обстоятельства, кроме находки нищим художником Чартковым денег в рамке картины, по случаю доставшейся ему на распродаже, и ночного сна героя… У него картина – портрет ростовщика, начинает распространять на героя свою власть только потому, что герой сам изменил себе как художник… В «Штоссе» история художника, которому по случаю, однако уже – достаточно темному и инфернальному, досталась картина, портрет (ростовщика или игрока – мы не знаем) – быстро поворачивает к «фэнтези», как мы сказали б сейчас, к истории любви… к поиску идеальной женщины и смертельной схватке за нее с судьбой. Штосс у Лермонтова – и фамилия ростовщика, и игра… женщина – и образ, мелькавший еще в набросках художника, и пленница в руках (то есть в банке): игра идет на нее – и за нее… Заметим, что эта история происходит с человеком, всегда искавшим любви – но так и не нашедшим ее. «Никогда жизнь не производила ничего столь воздушно неземного, никогда смерть не уносила из мира ничего столь полного пламенной жизни: то не было существо земное – то были краски и свет вместо форм и тела, теплое дыхание вместо крови, мысль вместо чувства; то не был пустой и ложный призрак… потому что в неясных чертах дышала страсть бурная и жадная, желание, грусть, любовь, страх, надежда…» (Где-то в затылке, в подсознании – почти на грани, мелькнет: «Но не тем холодным сном могилы // Я б хотел навеки так уснуть…») Согласитесь, никто еще не писал в ту пору такой прозы на русском языке – и вряд ли напишет впредь.
«И всякий вечер, когда они расставались, у Лугина болезненно сжималось сердце – отчаянием и бешенством. Он уже продавал вещи, чтоб поддерживать игру; он видел, что невдалеке та минута, когда ему нечего будет поставить на карту». Последние слова рассказа: «Надо было на что-нибудь решиться. Он решился».
На что решился, мы не знаем. И будь проклят Мартынов – и ныне, и присно, и во веки веков – что мы так и не узнали. Можем добавить только – этот мотив игры с судьбой в борьбе за женщину – у Лермонтова не нов. Он связан почти со всей, такой недолгой – «взрослой» биографией его. Самый нутряной мотив этого нелегкого – и в высшей степени скрытного человека.
5
Связь «Казначейши» с более поздним «Штоссом» – вроде примитивна. И вместе с тем очень сложна. Общая только основа фабулы – игра в карты на женщину.
С другой стороны – это чисто лермонтовский ход: вариаций. Вариативного мышления. Разработка одного и того же мотива – в разных регистрах, в разных жанрах. Возвращение к пройденному – только на другом витке. Главные темы следуют за ним чуть не с детства. Впрочем – почему «чуть»? Вспомнить только «Демона» и сколько он работал над ним. Все редакции, начиная с совсем детской, имели первой строкой: «Печальный демон, дух изгнанья…»
В сущности, эту верховную тему сочинений своих Лермонтов трижды написал в завершенном виде в трех главных жанрах. В поэзии, в прозе, в драматургии. «Маскарад», «Герой нашего времени», «Демон». Можно бы их вполне объединить под заголовком: «Три „демона“ Лермонтова».
Неизвестно, читал ли Лермонтов повесть Гофмана «Spilersgluck», которую сватали в источники «Штоссу» Лермонтова, но «Гофман наверняка не знал, – пишет Лотман, – о нашумевшей в Москве 1802 года истории, когда князь Александр Николаевич Голицын, мот, картежник и светский шалопай, проиграл свою жену, княгиню Марию Гавриловну (урожденную Вяземскую), одному из самых ярких московских бар – графу Льву Кирилловичу Разумовскому, известному в свете как le comte Leon, – сыну гетмана, масону, меценату… Последовавшие за этим развод княгини с мужем и второе замужество придали скандалу громкий характер»[34]. Гофман не знал, конечно, а Лермонтов знал наверняка – он был коренной москвич, и кто в московском свете не вспоминал об этом?..
Вероятно, из этой истории и вырос сюжет «Тамбовской казначейши», чтоб после прорасти в инферналии «Штосса».
В личном плане, какой всегда существует у всякого художника, сюжет «Казначейши» тяготел к одному из главных событий лермонтовской биографии – к замужеству Варвары Лопухиной в Москве, к ее браку с Н. Ф. Бахметевым. А это, в свой черед, заставляет нас продолжить эти связи до соответствующих линий и образов в «Княгине Лиговской» (Вера Дмитриевна) и в «Герое нашего времени» – в «Княжне Мери» (Вера).
Чтоб быть внятными, скажем прямо: в этом браке и в крушении с ним жизни Вари – да и, вероятно, самого Лермонтова – повинен был более всего он сам. Мы чаще и сильнее виним других именно в собственных ошибках. Уж так устроен человек. Выйдя из стеснительных рамок казарменного житья и юнкерской школы, в которую неизвестно какая глупость завлекла его, он, мало того что окунулся в светскую жизнь со всем неистовством монаха, удравшего из кельи, – детали этого нового и бесконечно привлекательного на первых порах для него бытия он, судя по всему, с удовольствием воспроизводил в своих письмах в Москву, избрав для откровений почему-то именно круг, близкий Варе, – и более всего, ее сестру Марию и ее брата Алексиса. Зачем-то ему понадобилось наказывать Екатерину Сушкову за то, что она, несколько лет назад, будучи чуть старше его, отвергла его ухаживания, – для чего симулировать на первых порах отчаянную влюбленность в нее, и так далее… Из Петербурга в Москву бешено неслись ошеломляющие подробности этой мутной интриги. Сушкова была сирота. Воспитывалась родственниками, она нуждалась побыстрей в достойном союзе… А за Сушковой ухаживал также родной брат Вари – Алексей Лопухин, и Лермонтов жестко расстроил возможность этого брака. Короче… Варе был самый выход – замужество, и она вышла за некоего Н. Ф. Бахметева. Он был, судя по всему, достаточно богат и был помещик тамбовский. Несомненно отсюда появилось:
- Тамбов на карте генеральной
- Кружком означен не всегда…
Возможно, это объясняет, среди прочего, бешенство Лермонтова, когда название города сняла цензура, заменив его точками, – бешенство, почему-то обращенное им на издателей «Современника». Название-то, несомненно, цензура сняла! Плетневу и Жуковскому – редакторам «Современника» – оно точно помешать не могло. А вот кто снимал остальные строки, которых не оказалось в печатном тексте, мы не знаем. Есть вероятие большое, что в каких-то из них был силен пародийный оттенок – которого друзья покойного Пушкина, конечно, допустить не могли. И, возможно, этим объяснялось столь ярое возмущение Лермонтова. Быть может, этими строками он особенно дорожил, и они выражали, в какой-то мере, настрой поэмы. Напомним еще раз – Лермонтов больше не печатался никогда в бывшем журнале Пушкина.
Что касается пародийности поэмы по отношению к Пушкину – то мы чуть-чуть задели эту тему в начале нашего размышления. Охотно можем привести еще несколько примеров…
- Но скука, скука, боже правый,
- Гостит и там, как над Невой…
…сразу погружает нас в атмосферу не просто пушкинскую – но конкретно романа «Евгений Онегин». Помните? Онегин в деревне…
- …потом увидел ясно он,
- Что и в деревне скука та же,
- Хоть нет ни улиц, ни дворцов,
- Ни карт, ни балов, ни стихов…
Поскольку Онегин приехал сюда из Петербурга, то, естественно, и здесь – «скука, как над Невой»!
Чего только стоит описание местных (тамбовских) дам:
- И там есть дамы – просто чудо!
- Дианы строгие в чепцах,
- С отказом вечным на устах.
- При них нельзя подумать худо;
- В глазах греховное прочтут
- И вас осудят, проклянут.
У Пушкина:
- Я знал красавиц недоступных,
- Холодных, чистых, как зима…
- Дивился я их спеси модной,
- Их добродетели природной,
- И, признаюсь, от них бежал,
- И, мнится, с ужасом читал
- Над их бровями надпись ада:
- Оставь надежду навсегда…
И дальше поэма Лермонтова полнится сплошными перепевами «онегинских» мотивов.
О героине – Авдотье Николаевне, Дуне, супруге казначея, говорится:
- Для большей ясности романа
- Здесь объявить мне вам пора,
- Что страстно влюблена в улана
- Была одна ее сестра.
Поскольку сестра Дуни для фабулы вовсе не имеет значения – и после разговора сестер об улане вообще больше не появляется – и нам все равно, была у героини сестра, не была – не понять сей пассаж как прямой намек на пушкинскую Ольгу просто нельзя. «Улан умел ее пленить // Улан любим ее душою…», ну и дальше – про то, как она стоит с ним «стыдливо под венцом».
Вот описание самого героя у Лермонтова:
- Штабротмистр, строен, как корнет,
- Взор пылкий, ус довольно черный…
Пушкин во Второй главе романа представляет нам Ленского: «Дух пылкий и довольно странный…» Откровенная замена «духа» «взором» и «усом» при той же конструкции фразы…
И дальше – про штабротмистра Гарина:
- Шутя однажды после спора
- Всадил он другу пулю в лоб…
Тоже, как вы понимаете, некоторое сходство – с неким героем Пушкина.
- Страстьми земными не смущаем,
- Он не терялся никогда…
Этот «не смущаемый страстьми земными» герой сильно напоминает Онегина, покуда тот не ощутил укол истинной любви к Татьяне.
Про героиню у Лермонтова:
- Она картавя говорила,
- Нечисто Р произносила;
- Но этот маленький порок
- Кто извинить бы в ней не мог…
Пушкин тоже оттенял нечто подобное:
- Как уст румяных без улыбки,
- Без грамматической ошибки
- Я русской речи не люблю…
Забавно объяснение Гарина с Дуней на вечере у губернского казначея, ее мужа:
- Она, в ответ на нежный шепот,
- Немой восторг спеша сокрыть,
- Невинной дружбы тяжкий опыт
- Ему решила предложить —
- Таков обычай деревенский!
- Помучить – способ самый женский.
«Богат, хорош собою, Ленский // Везде был принят как жених // Таков обычай деревенский». (Заметим, это все он делает так же открыто и в вызывающе пародийном – «Журналисте, читателе и писателе»!)
- Но уж давно известна нам
- Любовь друзей и дружба дам.
«Врагов имеет в мире всяк, // Но от друзей спаси нас, Боже! // Уж эти мне друзья. Друзья! // О них недаром вспомнил я!» – можно цитировать до бесконечности из Пушкина по тому же поводу. «Надзоры теток, матерей // И дружба тяжкая мужей».
А это бесконечное множественное число, тоже откровенно – из «Евгения Онегина». «Мы», «нам»:
- Тогда, как мы, враги Гимена,
- В семейной жизни зрим один
- Ряд утомительных картин…
«Я жить спешил в былые годы…» – напоминает нам автор в своем лирическом отступлении – эпиграф к Первой главе из Вяземского («и жить торопится. И чувствовать спешит…») – эпиграф, кажется, не менее известный, чем сам роман Пушкина.
Или в другом – столь же лирическом:
- Ужель исчез ты, возраст милый,
- Когда все сердцу говорит,
- И бьется сердце с дивной силой,
- И мысль восторгами кипит…
Так и хочется продолжить пушкинским:
- Ужель, и впрямь и в самом деле,
- Без элегических затей
- Весна моих промчалась дней
- (Что я шутя твердил доселе)?.
- И ей ужель возврата нет,
- Ужель мне скоро тридцать лет?..
А объяснение Гарина с Дуней, похожее на известное письмо Онегина к Татьяне:
- Я вижу, вы меня не ждали —
- Прочесть легко из ваших глаз;
- Ах, вы еще не испытали,
- Что в страсти значит день, что час!
- Среди сердечного волненья
- Нет сил, нет власти, нет терпенья!..
А у Пушкина это…
- И я лишен того: для вас
- Тащусь повсюду наудачу;
- Мне дорог день, мне дорог час:
- А я в напрасной скуке трачу
- Судьбой отсчитанные дни…
Такое ощущение, что два текста Пушкина и Лермонтова можно бы просто переставить местами.
А сцена в поэме Лермонтова – появление мужа героини в момент объяснения героев:
- Штабротмистр преклонил колени
- И молит жалобно; как вдруг,
- Дверь настежь – и в дверях супруг…
Можно бы просто продолжить – по Пушкину:
- И тут героя моего
- В минуту злую для него
- Мы, мой читатель, оставляем…
Но Лермонтов продолжает по-другому:
- И через час ему приносит
- Записку грязную лакей.
- Что это? чудо! Нынче просит
- К себе на вистик казначей…
Драматический финал и «злую минуту» для героя Лермонтов заменяет грязной запиской, принесенной лакеем. Ничего не произошло. «Нынче просит – к себе на вистик казначей…» Все! Карточная игра – вместо жизни и смерти.
В ответственный момент – пред тем как герою его шагнуть в кабинет и вступить в игру с казначеем, автор вступает сам и останавливает действо:
- Но здесь спешить нам нужды нет,
- Притом спешить нигде не надо.
- Итак, позвольте отдохнуть,
- А там докончим как-нибудь.[35]
…тут, как две капли воды, пушкинский обрыв действия перед тем, как Татьяне предстать перед Онегиным – после письма (концовка Третьей главы):
- Но следствия нежданной встречи
- Пересказать не в силах я;
- Мне должно после долгой речи
- И погулять, и отдохнуть:
- Докончу после как-нибудь.
У поэмы еще – весьма выразительный конец:
- …Признайтесь, вы меня бранили?
- Вы ждали действия? страстей?
- Повсюду нынче ищут драмы,
- Все просят крови – даже дамы.
- А я, как робкий ученик,
- Остановился в лучший миг;
- Простым нервическим припадком
- Неловко сцену заключил,
- Соперников не помирил
- И не поссорил их порядком…
«Друзей поссорить молодых // И на барьер поставить их // Иль помириться их заставить, // Дабы позавтракать втроем…» Опять же… «Трагинервических явлений // Девичьих обмороков, слез»…
Цитировать можно больше, но и так понятно… «Тамбовская казначейша» таит в себе, среди прочего… почти пересказ… переложение весьма известных мотивов и строф «Онегина». И это – никак не подражание Пушкину и не выплеск творческой молодости. Это – установка литературная. Пора подражания для Лермонтова давно прошла к этому моменту. Да она и длилась не так долго в прямом смысле. Среди многих дорог, частью проложенных, а частью едва намеченных Пушкиным, – он очень быстро нашел свою. И занялся ее «дноуглублением». В чем и будет заключаться, собственно, его судьба в литературе. Такая краткая, такая наполненная…
«Казначейша» была несомненно пародией на «Евгения Онегина». Очень тонкой, достаточно злой. Зачем, почему?.. Трудно сказать. По той же причине, вероятно, по какой век спустя Хемингуэй и Фолкнер, почти одновременно, оба нападут на Шервуда Андерсона, в не в самые лучшие для него времена… когда слава его станет меркнуть, да и собственные творческие достижения его – начнут угасать… А они, стольким обязанные ему, творчески и человечески (он на первых порах их жизни и писаний активно помогал обоим), – напишут оба, не сговариваясь, по жестокой пародии на него – с единственным чувством, вероятно, – утишить тоску зависимости – одного художника от другого, освободиться внутренне – ото всего, и от благодарности в том числе. Чтоб заставить других слушать свое собственное слово.
В чем состояла пародийность у Лермонтова? Взята скрупулезно и применена блестяще – стилистика «Онегина», включая саму онегинскую строфу. И в этой стилистике – вместо истории любви, очарования жизнью и разочарования в ней – путешествия по жизни автора вместе с героями – рассказан провинциальный анекдот. Банальщина, пустячок. Мелкая история. И с этим вместе – весь роман Пушкина как-то снижался. Терял в своем значении.
Потому, вероятно, какие-то строки убрала вовсе не цензура. Но они показались слишком «пушкинскими» Плетневу и Жуковскому. Или, не дай бог, ироничными?.. Хотя все-таки пародии на великий роман они не раскусили сразу – иначе б не стали вообще печатать поэму. – А может, что-то понял один Плетнев и сопротивлялся, как мог, публикации?.. Напомним: «О Лермонтове я не хочу говорить, потому что без меня говорят о нем гораздо более, чем он того стоит. Это был после Байрона и Пушкина фокусник…» Бедный Плетнев! Он был поэт малодаровитый. Но он любил поэзию и обожал Пушкина и был ему вернейшим литературным другом. Занимался изданием его книг, вычитывал рукописи после переписчика… Но то был Пушкин! Потерпеть же нового гения следом, рядом, да еще с его молодым, явным пренебрежением к старшим… Как было сказано в одном историческом романе: «Для этого мало быть сыном Людовика – для этого надо быть Людовиком!» – Чтоб понять и принять Лермонтова в ту эпоху – мало было роли «ученика и последователя» Пушкина, поэта «пушкинского круга»… Надо было быть Пушкиным! А что такое, вообще, человеку пишущему жить в эпоху Пушкина или Лермонтова – мы об этом, возможно, поговорим в своем месте, хоть чуть-чуть. Искусство жестоко – ничего не попишешь – жестокое занятие. Оно не убивает, не ранит впрямую – но способно покалечить душу.
Лермонтов «обожал „Онегина“, знал его наизусть» – по известным свидетельствам. Но дело в том, что в пору написания «Героя нашего времени» «Евгений Онегин» уже не устраивал его. Своим подходом к человеку… Самим рисунком человеческой души в романе.
В этом смысле «Тамбовская казначейша» была еще одним предисловием к «Герою». Ибо демонстрировала отказ от избранных кем-то путей. Она писалась не «мальчиком предрассуждений, но мужем». Автором VI редакции «Демона».
Что касается биографии Лермонтова – внутренней, а не только литературной… Поэма была из того, что печаталось Лермонтовым – то есть становилось достоянием общим, – первым знаменьем ожесточенного спора со своей личной судьбой. Сказать жестко: откровенным печатным выпадом против брака Варвары Лопухиной, ставшей Бахметевой.
В «Казначейше» впервые появляется тема женщины, которая в плену у старика, во всяком случае у человека, который ей не пара… «…Жил некто господин Бобковский, Губернский старый казначей…» Женщина у него «в банке». Проигравшись в пух, он ставит на жену – и проигрывает.
Вариация этой темы возникнет в «Штоссе»…
И, быть может, именно «Казначейша» была той первой каплей яда, которая изъязвила сердце г-на Бахметева Н. Ф., тамбовского помещика, – мучила его и подвигла в итоге заставить жену сжечь все письма поэта… Оставшиеся рукописи и альбомы с рисунками Варенька срочно передала, чтоб не пропали, Александре Верещагиной (в замужестве Хюгель) – своей кузине и другу Лермонтова.
А незаконченный, а верней – только начатый роман «Княгиня Лиговская» напечатают лишь много лет спустя. Ни Лермонтова уже не будет в живых, ни Вари… Пьесу «Два брата» тоже, кажется, напечатают. «Пишу четвертый акт новой драмы, взятой из происшествия, случившегося со мной в Москве. – О, Москва, Москва, столица наших предков, златоглавая царица России великой, малой, белой, черной, красной, всех цветов, Москва, преподло со мной поступила»[36]. (Это про встречу с Варей в Москве, когда Варя уже вышла замуж.) Лишь бедный господин Бахметев, кажется, доживет – и возможно, будет все это читать, хотя бы в отрывках. Но «Герой нашего времени» явится на свет очень скоро и станет известен ему. Там появится Вера с родинкой – правда, на щеке, а не над бровью… и замужем за «хромым старичком». Который сперва трясет руку Печорину как заступнику княжны Мери и выражает радость, что у него нет дочерей, а потом узнает о любви своей жены к этому самому Печорину…
Бьюсь об заклад, он часто пытался представить себе – каково Варе в браке с Бахметевым. Иногда жалел ее, иногда злился отчаянно. А что он имел, в конце концов, против Пушкина, «Онегина»?.. Да ничего, в сущности. Он ими восхищался. Он только считал, что «Онегин и его причт» (как назвал сам Пушкин) – лишь внешний ряд жизни. «Несчастной ревности мученья, // Разлука, слезы примиренья…» А его занимал другой ряд.
- А между тем из них едва ли есть один
- Тяжелой пыткой не измятый,
- До преждевременных добравшийся седин
- Без преступленья иль утраты…
«История души человеческой, даже самой мелкой души…»
Во всяком случае, когда он начал писать «Героя» – он уже точно понимал: его собственный путь лежит по направлению к внутреннему человеку.
Глава третья
Грани истории души…
1
«…автор едет как бы навстречу Пушкину – не из Ставрополя к Тифлису, а из Тифлиса к Ставрополю. Они могли бы встретиться на Крестовой горе или на станции Коби»[37].
Может, следует подумать, наконец, над этим встречным ходом?.. И вообще – над этими случайными-неслучайными «совпадениями», которые отмечали многие и которые так по-разному трактовали исследователи. Займемся, наконец, текстом того самого «путевого очерка», который представляет собой вступление в роман.
Сперва вернемся к пушкинскому «Путешествию в Арзрум».
У Пушкина: «На другой день около 12-ти часов услышали мы шум и увидели зрелище необыкновенное: 18 пар тощих малорослых волов, понуждаемых толпою полунагих осетинцев, насилу тащили легкую венскую коляску приятеля моего О***. Это зрелище тотчас рассеяло все мои сомнения. Я решился отправить мою тяжелую петербургскую коляску обратно во Владикавказ и ехать верхом до Тифлиса. Граф Пушкин не хотел следовать моему примеру. Он предпочел впрячь целое стадо волов в свою бричку, нагруженную припасами всякого рода, и с торжеством переехать через снеговой хребет»[38].
У Лермонтова: «Я должен был нанять быков, чтоб втащить мою тележку на эту проклятую гору, потому что была уже осень и гололедица, – а эта гора имеет около двух верст длины.
Нечего делать, я нанял шесть быков и нескольких осетин. Один из них взвалил на плечи мой чемодан, другие стали помогать быкам, одним почти криком.
За моею тележкою четверка быков тащила другую, как ни в чем не бывало, несмотря на то, что она была доверху накладена. Это обстоятельство меня удивило. За нею шел ее хозяин, покуривая из маленькой кабардинской трубочки…»[39] (первое появление Максима Максимыча).
Именно эти «18 пар волов» и «целое стадо волов» – в одном случае и «шестерка» и «четверка быков» в другом – сумели вызвать такой переполох в литературоведении, что заставили говорить о «незнании Пушкиным функциональной семантики кавказского быта» и даже о «беспощадном реализме», с которым Лермонтов «разоблачает» Пушкина.
По-моему, здесь нет ровно никакого повода для издевки над автором «Путешествия в Арзрум»: он сам-то поехал верхом, в то время как прочие персонажи – и приятель автора О*** с его «венской коляской», и однофамилец автора – граф Пушкин (В. А. Мусин-Пушкин) – двинулись «через снеговой хребет» путем более обычным и менее опасным, что вызывает вроде иронию и у самого автора «Арзрума».
Да и сходство двух текстов – Пушкина и Лермонтова – здесь весьма относительно: пожалуй, они оба лишь описывают один реальный эпизод: переезд через горы – в одном и том же месте.
Чуть более убедителен другой пример – с «оказией».
Пушкин: «С Екатеринограда начинается военная Грузинская дорога; почтовый тракт прекращается. Нанимают лошадей до Владикавказа. Дается конвой казачий и пехотный и одна пушка. Почта отправляется два раза в неделю, и проезжие к ней присоединяются: это называется оказией»…[40] (У Пушкина – выделено. – Б. Г.)
И сызнова такое ощущение, что два путешественника описывают одно и то же событие вне связи друг с другом.
Лермонтов: «Мне объявили, что я должен прожить тут еще три дни, ибо „оказия“ из Екатеринограда еще не пришла и, следовательно, отправиться обратно не может. Что за оказия!.. но дурной каламбур не утешение для русского человека, и я для развлечения вздумал записывать рассказа Максима Максимыча о Бэле, не воображая, что он будет первым звеном длинной цепи повестей; видите, как иногда маловажный случай имеет жестокие последствия!.. А вы, может быть, не знаете, что такое „оказия“? Это – прикрытие, состоящее из полроты пехоты и пушки, с которым ходят обозы через Кабарду из Владыкавказа в Екатериноград»[41].
По Эйхенбауму: «Здесь сходство становится настолько разительным, почти цитатным, что в вопросе: „А вы, может быть, не знаете, что такое «оказия»?“ слышится другой вопрос: „Помните ли вы «Путешествие в Арзрум» Пушкина?“»[42]
Но я нарочно привел цитату подряд, а подчеркнул в ней только то, что взял в рассмотрение Б. Эйхенбаум. Остальное выпущено при цитировании: так делают многие, когда хотят настоять на каком-то единственном прочтении текста! На самом деле, при таком расстоянии между двумя пассажами об «оказии» сходство решительно размывается – тем паче что в промежутке автор-рассказчик успевает сообщить нам вещи куда важней: о том, что с «Бэлы» началась по «случаю» вся «длинная цепь повестей».
Но исследователь приводит и третий пример:
Пушкин: «С высоты Гут-горы открывается Кайшаурская долина с ее обитаемыми скалами, с ее садами, с ее светлой Арагвой, извивающейся, как серебряная лента, – и все это в уменьшенном виде, на дне трехверстной пропасти, по которой идет опасная дорога»[43].
Лермонтов: «И точно такую панораму вряд ли где еще удастся мне видеть: под нами лежала Койшаурская долина, пересекаемая Арагвой и другой речкой, как двумя серебряными нитями; голубоватый туман скользил по ней, убегая в соседние теснины от теплых лучей утра; направо и налево гребни гор, один выше другого, пересекались, тянулись, покрытые снегами, кустарником; вдали те же горы, но хоть бы две скалы похожие одна на другую, – и все эти снега горели румяным блеском так весело, так ярко, что, кажется, тут бы и остаться жить навеки; солнце чуть показалось из-за темно-синей горы, которую только привычный глаз мог бы различить от грозовой тучи; но над солнцем была кровавая полоса, на которую мой товарищ обратил особое внимание. „Я говорил вам, – воскликнул он, – что нынче будет погода; надо торопиться, а то, пожалуй, она застанет нас на Крестовой. Трогайтесь!“ – закричал он ямщикам.
Подложили цепи под колеса вместо тормозов, чтоб они не раскатывались, взяли лошадей под уздцы и начали спускаться; направо был утес, налево пропасть такая, что целая деревушка осетин, живущих на дне ее, казалась гнездом ласточки…»[44]
Вы видите здесь какое-нибудь реальное сходство? Я не вижу! Ни как внутреннюю цитату, ни как знак читателю. Потому что… мной, опять же, отмечены места, приведенные Эйхенбаумом, совместно, слитным текстом… между тем, как в тексте Лермонтова они разорваны меж собой – в одном случае на две строки, в другом – на целых одиннадцать! Цитируя подобным образом, можно что угодно сделать похожим на что угодно! Или надо быть таким слишком «проницательным читателем». К сожалению, Лермонтов, как всякий автор, обращался к другому!..
И все же… не будем отмахиваться совсем от этого размытого сходства.
Рассмотрим еще один отрывок. Случайный… Не имеющий отношения ни к Пушкину, ни к Лермонтову, но приоткрывающий для нас завесу…
«Спуск с горы, около полторы версты, кончается на косогоре Гут-горы. Косогор этот продолжается версты на две, так что можно сказать, плечом касаешься Гут-горы, а ступень лошади становится на край пропасти. На дне пропасти видишь скалу, покрытую лесом и отделяющуюся, подобно острову, от всех высот.
С вершины горы осетинские деревни кажутся не более чернильницы, а скот, пасущийся по лугам, не более мухи. Из ущелья вытекает Арагва, которая принадлежит уже к системе рек грузинских, так как Терек, вытекающий за этим хребтом, но только с другой стороны Крестовой горы, принадлежит системе рек кавказской линии. Мы ехали среди облаков, некоторые ходили гораздо ниже нас, а иногда попадали во влажные облака или тучи, и крупный дождь осыпал нас; иногда тучи, пробежав, давали место солнечным лучам, от которых местоположение принимало особую прелесть»[45].
Этот текст написан, скорей всего, раньше пушкинского. Хотя, несомненно, был Пушкину известен; Лермонтову – трудно сказать! А может, знакомый – и одному и другому. Не в этом дело! Это – из «Записок во время поездки в 1826 году из Москвы в Грузию» Дениса Давыдова. И если здесь есть сходство – с первым текстом, пушкинским, и особенно со вторым – лермонтовским, почти тождественное, – то исключительно по причине географической. Речь идет об одном и том же месте. Кто бы ни стал описывать это самое место – неизбежно впал бы в повтор!
И Лермонтов никому не отдает здесь «дани памяти» – и уж точно не «разоблачает с беспощадным реализмом» никого. Тем паче Пушкина. Он просто смотрит с тех же точек, с каких смотрел Пушкин. А вот почему он захотел выбрать именно эти точки, или только эти точки, и упрямо описывает одни и те же места – это другой разговор.
Спросим себя: что остается в памяти читателя – даже самого внимательного – от самого лучшего путевого очерка? Описания? Вряд ли. Скорей всего и более всего – сам путь! Та самая география местности. «Имена местностей – имя», как говорил Пруст. Движение в пространстве.
«Бэла» – а за ней вся «длинная цепь повестей» – сознательно создается Лермонтовым на пушкинском пути. Только Лермонтов проходит этот путь нарочито – в противоположном направлении. И все, что он хочет подчеркнуть здесь, – именно этот вектор. Противоположно направленный!
И Б. М. Эйхенбаум, и те, кто шли за ним в создании идиллических картин прямого литературного наследования, возможно, быстро б отказались от всех иллюзий своих, и от «дани памяти» в том числе, – если б обратили внимание на строки Лермонтова, которые совсем уж на виду – не надо далеко ходить. – Это – первые строки «Максима Максимыча»:
«Расставшись с Максимом Максимычем, я живо проскакал Терекское и Дарьяльское ущелья, завтракал в Казбеке, чай пил в Ларсе, а к ужину поспел во Владикавказ. Избавляю вас от описания гор, от возгласов, которые ничего не выражают, от картин, которые ничего не изображают, особенно для тех, которые там не были, и от статистических замечаний, которых решительно никто читать не станет»[46].
Маршрут пушкинского пути в «Арзруме»: Владикавказ – Ларс – Дарьяльское ущелье – Терекское – селение Казбек – пост Коби… «В Коби мы расстались с Максимом Максимычем…» (это еще первое их расставание). Прочертите путь назад, в обратном направлении!
Я еще сопротивлялся этой мысли, и слово «статистика» смущало меня. Оставляло крохотную надежду. «Статистические замечания»?.. Где у Пушкина «статистические замечания»? Словарь Даля… «Статистика – …история и география в известный срок»[47].
«Дариал на древнем персидском языке значит ворота. По свидетельству Плиния, Кавказские врата, ошибочно называемые Каспийскими, находились здесь. Ущелие замкнуто было настоящими воротами, деревянными, окованными железом. Под ними, пишет Плиний, течет речка Диориодорис»… (Пушкин. «Арзрум»)[48].
К сожалению, с точки зрения словаря Даля – «Путешествие в Арзрум», в этом самом месте – полно именно «статистических замечаний».
И какая издевка так «спрямить» пушкинский маршрут! Заменив все подробности пути чисто гастрономическими: «завтракал в Казбеке, чай пил в Ларсе, а к ужину поспел во Владикавказ». (Но это все – места, где Пушкин останавливается подробно.) «Избавляю вас от картин… и от статистических замечаний, которых решительно никто читать не станет». Невольно вспомнишь:
- …Но эти странные творенья
- Читает дома он один,
- И ими после без зазренья
- Он затопляет свой камин…
Но зачем это понадобилось ему именно в этом месте – скажем поздней. Покуда обратим внимание на одно обстоятельство…
Пушкин, как мы помним, в «Арзруме» едет в Грузию – из России. Автор-рассказчик Лермонтова – держит обратный путь: вовнутрь, во «внутреннюю Россию». И путь, который автор-рассказчик прочерчивал в своем «путевом очерке», неслучайно шел в противоположном Пушкину направлении.
2
И прежде романы начинались часто с путевого очерка – с путешествия, которое словно дарило нам потом сам роман. Нечаянная встреча в дороге и чей-то рассказ – или вторжение в путешествие некоего события. Лермонтов раздвигает границы этой к тому времени уже подуставшей формы и превращает ее в нечто более подвижное… Путешествие не кончилось на истории Бэлы – оно только началось. Что сулило следующий поворот событий – встречу с тем самым Печориным, а потом – его дневник… который в финале снова вернет нас в крепость, где они служили некогда с Максимом Максимычем. – Добавим – в крепость в ту пору, когда, кажется, еще не случилась история Бэлы. И пред финалом в «Княжне Мери» – перед дуэлью с Грушницким – опять возникнет эта крепость, в которой Печорин будет записывать задним числом все, что произошло, – и возникнет концовка дуэли и всего пятигорского «малого романа».
Странствие продолжается, и у него свои задачи в тексте. Да и финальное в романе появление Максима Максимовича (конец «Фаталиста») – подтверждает эту мысль, что оно и не прекращалось. Здесь сама жизнь вторгается в «роман-путешествие», подсекая его на разных уровнях… А эти случайности, в свой черед, связаны меж собой уже не фабулой, даже не сюжетом… чем-то другим, некой вязью раздумий о жизни и загадках бытия. «Бэла» словно «любовь Свана», вправленная в жизнь Марселя, – вставлена в роман, где главное все-таки – история в Пятигорске. Ибо только после нее в жизни Максима Максимыча – и автора-рассказчика – и тем самым нашей с вами жизни – появится Печорин. Загадочная фигура.
«Таманью» обрывается Первая часть его «Дневника». И слова «конец первой части» звучат даже несколько обескураживающе. Как, уже все?.. Дневник только что начался! Возникнет часть вторая – куда более обширная и значительная в разработке. Но автор, словно нарочно, являет нам автономность первой части и ее особую значимость. Намекая на что-то… И о чем этот рассказ «Тамань» – по-настоящему нельзя сказать. Чтоб понять, что эта случайность и есть сердцевина романа, надо, ох, сколько пройти! И… в этом одна из главных черт лермонтовского психологизма. Или один из главных его приемов. История, разворачивающаяся сторонне, вне связи с основным движением фабулы, – на самом деле, может статься, объясняет все… Фабула и сюжет, сюжет и фабула мешаются меж собой и на каждом шагу ставят подножки друг другу.
Фабула романа: некто Печорин едет на Кавказ, верно в действующую армию («с подорожной по казенной надобности»), в Тамани его обокрали и чуть не убили (встреча с «честными контрабандистами»), через какое-то время, уже побывав в боях, он оказывается в Пятигорске на водах («Княжна Мери» – княжна, Грушницкий, Вера) – в итоге (вероятно, за дуэль) он попадает в крепость за Тереком, где служит Максим Максимыч; история Бэлы; во время службы в крепости Печорину случилось прожить «две недели в казачьей станице, на левом фланге»: поручик Вулич («Фаталист». Было ли это до или после истории с Бэлой, мы так и не узнаем – скорей всего, до…). Через несколько лет, возвращаясь во внутреннюю Россию, его сослуживец Максим Максимыч рассказывает случайному попутчику (Автору-рассказчику) эту историю; потом во Владикавказе они встречают Печорина, – Автор в первый и в последний раз видит его. – Обида, нанесенная Печориным старому служаке; разговор о каких-то бумагах, оставленных Печориным: «– И что за бумаги? – А Бог его знает, какие-то записки…» Бумаги в руках рассказчика. – Еще через какое-то время – весть о том, что Печорин умер, возвращаясь из Персии, позволяет Автору эти записки опубликовать…
По фабуле части романа выкладываются следующим образом:
«Тамань» – «Княжна Мери» – «Бэла» – «Фаталист» (до или после «Бэлы») – «Путевой очерк» – встреча с Печориным и попадание его записок к Автору – смерть Печорина – публикация записок…
По сюжету: «Путевой очерк» – «Бэла» – вновь путевой очерк – встреча с Печориным («Максим Максимыч»), записки попадают к Автору – весть о смерти Печорина, публикация записок – «Дневник Печорина» (те самые «записки»): «Тамань» – «Княжна Мери» – «Фаталист».
Иными словами: когда происходит действие, допустим, «Тамани» – нам уже известно о герое много больше, чем мог бы дать отдельный эпизод его столкновения с «кругом честных контрабандистов»; и когда мы обращаемся к главной повести в «цепи повестей» – «Княжне Мери» – мы тоже уже знаем историю Бэлы и про случай в Тамани и так далее. И естественно, нам известно это все, когда читаем мы новеллу «Фаталист».
Композиция Лермонтова напоминает собой решетку атома с ядром в центре и электронами на орбитах. Вот Максим Максимыч, кто-то «третий», случайный рассказывает о некоем, неизвестном нам, Печорине: герой покуда для нас – будто электрон, расположенный на внешней орбите. Но вот он перешел на другую орбиту – ближе к ядру, к сердцевине своей истории – и тем самым ближе к нам: мы встречаем его, и Автор-рассказчик может со стороны описать его и наблюдать его в действии – став невольным свидетелем обиды, нанесенной им Максиму Максимовичу. А потом в руках Автора оказывается дневник Печорина, и мы очутились в самом центре ядра… Но и здесь что-то вроде «решетки атома». Сперва – чисто «внешний» ряд: эпизод с героем – мало что говорящий о нем самом… «Тамань». Роль этого эпизода мы поймем много позже – а может, и вовсе не поймем. И вот мы уже – в самом центре ядра: «Княжна Мери» – внутренняя история героя. Печорин не только действует здесь, но пытается объяснить себе себя. А в конце романа, совсем внутри «ядра», оказывается еще один атом: новая «решетка». Сам Печорин, ставши «электроном на внешней орбите», рассказывает нам о поручике Вуличе… И… если б Вулич оставил свои «записки», мы имели бы новый «дневник» – только Вулича. И пытались бы понять другую загадку… Конец романа: Максим Максимыч «вообще не любит метафизических прений». Слово «метафизика» возвращает нас к самой теме «загадки» – с ним мы вернулись к началу: к путевому очерку. Все!..
Сюжет романа расставил по каким-то своим местам все отдельные эпизоды фабулы – так, что возникла словно еще одна фабула – над первоначальной; еще одно движение, резко отличное от первого: внутрифабульное движение частей по отношению друг к другу и взаимозависимость этих частей. Фактически это и есть композиция романа.
Композиция часто представляется нам только отношением сюжета к фабуле. Мы уже наткнулись на это обстоятельство, говоря об «Онегине». И впрямь бывает, что это – главный рычаг композиции. В «Герое нашего времени» тоже – нечто в этом роде. Только… В отличие от «Онегина», тут не сказать, что герои психологически слабо разработаны, а весь психологизм ушел в композицию… Здесь композиция сама восходит куда-то, возвышаясь над фабулой и сюжетом, и составляет уже новую самостоятельную структуру. В том числе – психологическую. Структуру психологической загадки. И тем олицетворяет собой тайнопись книги.
По-настоящему сложные композиции станут возникать лишь в XX веке. Пруст – «В сторону Свана», Булгаков – «Мастер и Маргарита». Но и здесь можно сказать, что композиция лермонтовская гораздо сложней…
Тема «загадки современного молодого человека», которую ставит перед Автором-рассказчиком Максим Максимыч, – это первый аккорд, идущий в разработку. Он звучит дальше в различных модификациях, превращаясь в загадку человека вообще. Какую Бог ставит перед каждым человеком и которую каждый человек вынужден решать для себя…
3
Я был уверен, что Хемингуэй почти не знал Лермонтова. Ну не больше, чем мы знаем Вордсворта или Китса. Это – обычный принцип размежевания разноязычных литератур. Которые иногда даже не подозревают значения каких-то величин в литературе другого… Русских, вообще, по-настоящему стали читать на Западе, начиная с Тургенева. Толстой, Достоевский, Чехов… Не уверен, что там читают Бунина, несмотря на Нобелевскую премию. И вместе с тем, мне казалось, Хемингуэй не мог не подозревать о существовании Лермонтова. Какие-то фразы, повороты мысли в прозе автора «Фиесты» и «Белых слонов» напоминали автора «Героя нашего времени». В самом деле. Смотрите!
«Грустно видеть, когда юноша теряет лучшие свои надежды и мечты, когда пред ним отдергивается розовый флер, сквозь который он смотрел на дела и чувства человеческие, хотя есть надежда, что он заменит старые заблуждения новыми… Но чем их заменить в лета Максима Максимыча? Поневоле сердце очерствеет и душа закроется.
Я уехал один». («Княжна Мери».)
«Теперь, кажется, все. Так, так. Сначала отпусти женщину с одним мужчиной. Представь ей другого и дай ей сбежать с ним. Теперь поезжай и привези ее обратно. А под телеграммой поставь „целую“…
Я пошел в отель завтракать». (Э. Хемингуэй. «Фиеста»)
Потому я не сильно удивился, когда в одном из последних интервью писателя (оно было напечатано в «Иностранной литературе») увидел имя Лермонтова чуть не на втором месте среди тех, кого Хемингуэй назвал своими учителями…
Эти лермонтовские обрывы сцен, вроде приведенной выше, и мгновенные переходы – необыкновенно питательны в плане психологическом. Они незаметно выстраивают за сказанным еще целый ряд – того, что в умолчании… «Я сказал ей одну из тех фраз, которые у всякого должны быть заготовлены на подобный случай». Или: «Тут между нами начался один из тех разговоров, которые на бумаге не имеют смысла, которых повторить нельзя и даже запомнить: значение звуков заменяет и дополняет значение слов, как в итальянской опере». В самом деле, здесь молчание и умолчание, «значение звуков заменяет значение слов» – чисто музыкальный прием.
Набоков упрекал Лермонтова в отсутствии стиля в его понимании: «Надо быть критиком-аскетом, у которого вызывает подозрение роскошный изысканный слог и которого, по контрасту, неуклюжий, а местами просто заурядный стиль Лермонтова приводит в восхищение своим целомудрием и бесхитростностью. Но подлинное искусство не есть нечто целомудренное и бесхитростное…»[49]
Набоков ошибается. Подлинное искусство очень часто есть нечто – «целомудренное и бесхитростное». От «хитростей» оно редко выигрывает. Впрочем, Набоков и Хемингуэя называл «современным Майн Ридом». Его собственное барокко, временами переходящее в рококо, было чуждо спокойной мужской сдержанности лермонтовской прозы. Ее грустному равнодушию к миру – от полного понимания беспросветности и ничтожности его и одиночества самого себя – и человека в мире… («В себя ли заглянешь, там прошлого нет и следа // И радость, и муки, и все там ничтожно…») Где уж тут «роскошество»?..
«История души человеческой, даже самой мелкой души едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа». Эта максима из предисловия к «Дневнику Печорина» – вместе с тем кредо Лермонтова. То, что Лермонтов спаял в одном романе столь разнородные вещи, как романтическую повесть, реалистический, почти бытовой рассказ и светский реалистический «малый роман» «Княжну Мери», соединив это все с путевым очерком и готической новеллой о предопределении, – и есть путь познания человека, который он предложил.
В сущности, «Бэлой» и «Максимом Максимычем» задан лишь подступ к психологии героя. К загадке ее. С первым приближением к разгадке мы столкнемся только в Тамани – «самом скверном городишке из всех приморских городов России».
Вот краткий диалог в финале слепого мальчика и Янко, контрабандиста:
«…а старухе скажи, что, дескать, пора умирать, зажилась, надо знать и честь. Нас же больше не увидит.
– А я? – сказал слепой жалобным голосом.
– На что мне тебя? – был ответ».
Но потом и главный герой скажет про себя самого: «Да и какое дело мне до радостей и бедствий человеческих, мне, странствующему офицеру, да еще с подорожной по казенной надобности!..» И окажется, что его отношение к миру – странствующего офицера, дворянина и прочее – мало чем отличается от позиции контрабандиста Янко. И мелькнет еще нечто важное, что мы сперва можем оценить лишь как бойкое сравнение: «Как камень, брошенный в гладкий источник, я встревожил их спокойствие и, как камень, едва сам не пошел ко дну».
Этот «камень» станет главной метафорой романа.
Зачем ему хочется быть этим камнем?.. или… зачем он стремится им быть?…
Есть определенное сходство фабул «Онегина» и «Княжны Мери». Странно, что это сходство фактически не бросилось в глаза при появлении романа Лермонтова на свет. «Онегин» Пушкина был слишком известен. Но никто не обратил внимания – не помню, чтоб Лермонтову это ставили как-то в вину. А почему?.. Может, потому же, почему в «Маскараде», по сравнению с «Отелло» Шекспира, – сходство размывается тотчас, как только мы приближаемся к самим персонажам…
Имя Онегин, конечно же, родилось случайно. А вот Печорин уже случайным не был. Был отраженной волной. Вызовом. Хоть Лермонтов еще и не мог читать Белинского – про «разницу между Онегою и Печорою». Он сразу взял этот подъем. С «Княгини Лиговской». Возможно, он догадывался, что когда-нибудь должен будет заменить Пушкина, он знал себе цену. Хотя и не думал, что это произойдет так скоро. Он, вообще, полагаю, ни о чем таком не думал – как всякий молодой человек.
Сравните! «Разочарованный молодой человек», скептик, «демонического складу», как могли сказать тогда, – влюбляет в себя романтическую барышню… эта ситуация приводит его к ссоре с приятелем, который приревновал девицу… дело доходит до дуэли – и на дуэли «скептик» убивает «романтика»… Тут, правда, сходство обрывается, но… даже драгунский капитан, автор дуэльной интриги, вполне мог бы сойти за Зарецкого пушкинского. («Глава повес, трибун трактирный…» «И человека растянуть // Он почитал не как-нибудь, // Но в строгих правилах искусства…») Конечно, у Пушкина две барышни – а не одна… хоть некоторые и полагают (Набоков), что в замысле Пушкина была сперва одна барышня (Татьяна без Ольги).
Что касается внешнего сходства фабулы «Княжны Мери» с «Онегиным» Пушкина – это сходство мгновенно размывается, как только мы приближаемся к самим персонажам.
Параллели: Печорин – Онегин; княжна Мери – Татьяна; Грушницкий – Ленский.
Начнем с княжны. Она, безусловно, романтична – читает Байрона, сентиментальна, способна полюбить, и тот, кого она избирает в итоге, являет собой несомненно духовное начало. – То есть ей в жизни дано отличить – недюжинное в человеке, дух истинный (натуру глубокую и сильную) от обманки… суррогата. Но… «Во все время прогулки она была рассеянна, ни с кем не кокетничала… а это великий признак…» – это после мрачных откровений Печорина. Она безумно кокетлива, честолюбива, заносчива, даже взбалмошна. И… вы можете представить себе Татьяну, торгующую в лавке персидский ковер и испытавшую (или явившую наглядно) «восхитительное бешенство» от того, что ковер достался кому-то другому?
Это – Татьяна без письма к Онегину. Без клятвы: «Другой!.. Нет, никому на свете // Не отдала бы сердца я…» Без единственности ее любви.
Без мольбы о спасении: она вполне согласна с жизнью, какую вынуждена вести.
Без судьбы старших, нависающей над нею угрозой…
Даже без природы вокруг и связи с этой природой… Она ее не замечает.
Грушницкий… «Приезд его на Кавказ так же следствие его романтического фанатизма», – говорит о нем Печорин. Но что за «романтизм»?.. «Грушницкий слывет отличным храбрецом, я его видел в деле; он махает шашкой, кричит и бросается вперед зажмуря глаза. Это что-то не русская храбрость». Можем ли мы представить, чтоб Ленский согласился стреляться с бывшим приятелем, как бы ни был оскорблен, – на условиях, придуманных драгунских капитаном?.. (То есть так – чтоб пистолет противника не был заряжен?) Ленский – чистая природа, какое-то светлое начало романтизма, Грушницкий – всего лишь – выродившаяся ипостась образа…
«Он так часто старался уверить других, что он существо, не созданное для мира, обреченное каким-то тайным страданиям, что он сам почти в этом уверился». Но тут мы останавливаемся – и перестаем ругать Грушницкого. Мы вспоминаем другое:
«– Да! такова была моя участь с самого детства. Все читали на моем лице признаки дурных свойств, которых не было, но их предполагали – и они родились. Я был скромен, меня обвиняли в лукавстве; я стал скрытен. Я глубоко чувствовал добро и зло; никто меня не ласкал, все оскорбляли: я стал злопамятен. Я был угрюм – другие дети веселы и болтливы; я чувствовал себя выше их – меня ставили ниже. Я сделался завистлив. Я был готов любить весь мир – меня никто не понял, и я выучился ненавидеть. Моя бесцветная молодость протекла в борьбе с собой и светом; лучшие мои чувства, боясь насмешки, я сохранял в глубине сердца; они там и умерли. Я говорил правду – мне не верили: я начал обманывать; узнав хорошо свет и пружины общества, я стал искусен в науке жизни и видел, как другие без искусства счастливы, пользуясь даром теми выгодами, которых я так неутомимо добивался. И тогда в груди моей родилось отчаянье». Монолог Печорина перед княжной Мери. Но не видим ли мы тут Грушницкого?..
Тут, кстати, почти повтор речи Александра Радина перед Верой – из пьесы Лермонтова «Два брата» – той самой, что была «взята из происшествия, случившегося в Москве». Неудавшейся пьесы, конечно. Там этот монолог был вполне искренен, хоть и не без рисовки – пред самим собой. Произносился перед женщиной, которую страстно любят. Здесь это говорят княжне… приводят ее в трепет, вышибают слезу, но это – лишь повод разжалобить ее качнувшееся в его сторону сердечко – которое, по правде, Печорину вовсе не нужно. Его амбиция – и только. Хотя, кажется, со времен Белинского и до наших дней здесь видели откровение «лишнего человека». Пытающегося выплыть с трудом – среди житейских бурь и мировых и человеческих несовершенств.
Если б это говорилось Вере, доктору Вернеру – близким ему людям, кому-нибудь, в общении с кем мы могли бы предполагать душевную откровенность героя – мы б поверили ему. Однако в этой ситуации пред нами – почти монолог Грушницкого! «Он так часто старался уверить других, что он существо, не созданное для мира, обреченное каким-то тайным страданиям…» Вот что о Печорине говорит Вера, которая слишком хорошо знает его: «…никто больше не может быть так истинно несчастлив, как ты, потому что никто столько не старается уверить себя в противном».
Сам герой скажет о себе: «А что такое счастие? Насыщенная гордость».
Кажется, что в «Княжне Мери» – дан поединок несчастий: подлинного и мнимого. Истинного – и взятого напрокат, приклеенного к лицу для вящей выразительности – как маскарадная маска. Но… Главный антипод Печорина в «Княжне Мери» – есть тень, но вовсе не Ленского или какого-нибудь другого романтического персонажа. Это – тень Печорина – пародия на него самого. Его проекция в мире. Издевка автора над своим героем – или насмешка героя над собой… или насмешка автора над самим собой?
Забегая чуть вперед, скажем – Лермонтова тоже убила пародия на него самого: Николай Соломонович Мартынов. Который также писал стихи – и даже были среди них, говорят, сочувственные декабристам. – Не какой-нибудь там официозный злодей и фанфарон…
Это столкновение человека с пародией на себя – в сущности, центр психологизма «маленького романа» – или главной «повести», входящей в роман.
Может, это и главный ключ к тому обстоятельству – почему 15 июля 1841-го, в седьмом часу вечера, у подножья неизвестно какой горы под Пятигорском – отставной майор Мартынов застрелил на дуэли тенгинского пехотного поручика Лермонтова – хотя они совсем недавно были (или считались) друзьями.
Такой «двуобъектности» – человек и его тень – начисто нет у Пушкина в антиномии «Онегин – Ленский». Там герои принципиально различны. Два измерения жизни. Два возраста – жизни и любви.
И еще одно… может, самое важное… «Явно судьба заботится о том, чтоб мне не было скучно», – говорит Печорин, услышав первую реляцию доктора Вернера о матери и дочери Лиговских и об интересе, явленном княжной к Грушницкому. Почему ему хочется досадить Грушницкому? Потому что он так плох или так антипатичен ему? Ну конечно, Грушницкий «из тех людей, которые на все случаи жизни имеют готовые пышные фразы и которые важно драпируются в необыкновенные чувства, возвышенные страсти и исключительные страдания». Нет, возможно. Грушницкий неприятен Печорину именно этой своей пародийностью по отношению к нему. Какое-то кривое зеркало – Репетилов рядом с Чацким. Но все же… согласитесь, это – не повод, чтоб раздразнить его, как зверя – и погубить.
«Я его понял, и он за это меня не любит… Я его также не люблю: я чувствую, что мы когда-нибудь столкнемся с ним на узкой дороге и одному из нас несдобровать».
Но… одна деталь… Вернер говорит о Грушницком:
«– Княжна сказала, что она уверена, что этот молодой человек в солдатской шинели разжалован в солдаты за дуэль…
– Надеюсь, вы оставили ее в этом приятном заблуждении…
– Разумеется.
– Завязка есть! – закричал я в восхищении: – об развязке этой комедии мы похлопочем…
– Я предчувствую, – сказал доктор, – что бедный Грушницкий будет вашей жертвой».
Эта «завязка» приведет к смерти Грушницкого и к горькому разочарованию во всяком случае – а скорей, к глубокой душевной травме – княжну Мери.
«Послушай, – сказал Грушницкий очень важно: – пожалуйста, не подшучивай над моей любовью, если хочешь остаться моим приятелем…. Видишь, я люблю ее до безумия… и я думаю, я надеюсь, она также меня любит…» – Это все написано. Он изливался в своих чувствах Печорину – по глупости, не ожидая подвоха… на самом деле он не испытывает никакой неприязни к Печорину.
Однако… Тот начинает действовать лишь потому, что ему скучно!
Курортная скука, бесплодные занятия, ненужные романы – и в итоге погубленная человеческая жизнь – все это будет не раз описано еще, и после Лермонтова тоже. Однако…
Откровения Печорина об истоках своего жизнеотношения, приведенные нами выше в разговоре его с княжной Мери – дают нам лишь возможность сформулировать, почему им решительно нельзя верить! Поступки героя Лермонтова обусловлены каким-то побуждением, но это побуждение всегда тёмно. Тайна духа героя сокровенна – в том числе она – тайна и для него самого. Герой перебирает причины, тасуя их про себя, – но сам понимает, что не в них дело. А дело в чем-то другом. Он признается себе: «Я чувствую в себе эту ненасытную жадность, поглощающую все, что встречается на пути; я смотрю на страдания и радости других только в отношении к себе, как на пищу, поддерживающую мои душевные силы…» – Это, разумеется, все не так грубо и примитивно – как в речах простого контрабандиста Янко в «Тамани». Но это – решительно то же самое. «Зло порождает зло, – рассуждает Печорин, – первое страдание дает понятие об удовольствии мучить другого; идея зла не может войти в голову человека без того, чтоб он захотел приложить ее к действительности; идеи – создания органические, сказал кто-то; их рождение дает уже им форму, и эта форма есть действие…»
«Как камень, брошенный в гладкий источник…» И вот серьезный, умный, явно прочитавший много книг и много над ними думавший человек, и не скажешь чтоб лишенный вовсе благородства – понятия о благородстве, – становится орудием зла… Ибо существует страсть ко злу – которой он сам не может понять и унять в себе.
Сделаем ход, может, самый неэтичный по отношению к роману и его герою. И сосчитаем души, погубленные этим «камнем»: старуха и слепой (в «Тамани»), княжна Мери, Грушницкий, Бэла, Вера, несчастный Азамат – мальчишка с его дикой мальчишеской, типично восточной идеей – украсть родную сестру в обмен на чужого коня… и совращенный старшим, далеко не «восточным» – российским, светским человеком, помогающим ему сделать это… (в то время как он, кажется, по воспитанию своему – должен был содрогнуться от одной этой идеи и помешать ее осуществленью) – и смертельно обиженный Максим Максимыч… И мы можем вспомнить еще загнанного коня… который после, в «Холстомере», воскреснет у Толстого (гонка за возлюбленной).
«Детерминированность поведения и характера – основная установка реализма XIX века», – указывает Гинзбург[50].
У нас долго не замечали, что у Лермонтова нет вовсе этой детерминированности. Что приближает его к нам. С этим он перепрыгивает в XX век. Может, в XXI.
Термин «лишний человек», столь понравившийся когда-то в России, открывший когда-то целую плеяду таких личностей – но самых разных людей и создавший стройную теорию их существования, – начисто отбил у нас охоту искать других объяснений. Или заставил расписаться в бессилии?..
Мне скажут – что Грушницкий сам нарвался на все безвкусицей своего поведения. Которое заставит нас всю дорогу – почти до конца повести – любоваться вместе с героем тем, как он вертится в силках, расставленных умелой рукой приятеля… совершая ошибку за ошибкой и даже преступая границы обычной порядочности. Все правда, но никто нас не убедит, что в Грушницком не открыли этот клапан почти силком извне… не вытащили из человека неопытного и нестойкого – и эту безвкусицу, и эту непорядочность – со дна его души, не скажем ничтожной, нет! – не ничтожной, только слабой, пожалуй, – все эти качества, которые мирно там дремали, – не извлекли их на свет и не сделали новостью для него самого. При всей его примитивности – он был молод, влюблен… он приехал на воды после ранения и отчаянно жаждал жизни и любви.
Скажут, что княжна Мери – уж точно не Татьяна Пушкина со своим честолюбием, кокетством, своей мелкостью – если хотите! Ну да, она – не Татьяна – обычная светская барышня – не лучше, не хуже других. Но и ее маленькая душа чего-то стоит в этом мире. И они оба сталкиваются с человеком, который мог наедине с собой сказать о себе: «Моя любовь никому не принесла счастья, потому что я ничем не жертвовал для тех, кого любил, я любил для себя, для собственного удовольствия; я только удовлетворял странную потребность сердца…»
Может, это – главная тема романа Лермонтова: «странная потребность сердца». Мы с вами жалеем ее? Да. Лермонтов заставляет нас жалеть тех, кто не так уж заслуживает жалости. И в этом – одна из вершин психологизма в прозе. И он был первым, возможно, кто этой вершины достиг.
С другой стороны, даже Вера – нежное, болезненное, бесконечно любящее, трагическое создание – все же снабжено автором неким ограничителем нашей к ней приязни. Вот их первая встреча после разлуки.
«– Мы давно не видались, – сказал я.
– Давно, и переменились оба во многом!
– Стало быть, уж ты меня не любишь?..
– Я замужем!.. – сказала она.
– Опять? Однако несколько лет тому назад, эта причина также существовала; но между тем…» И дальше:
«Она решительно не хочет, чтоб я познакомился с ее мужем – тем хромым старичком, которого я видел мельком на бульваре: она вышла за него для сына. Он богат и страдает ревматизмами. Я не позволил себе над ним ни одной насмешки: она его уважает, как отца! и будет обманывать, как мужа!.. Странная вещь сердце человеческое вообще, и женское в особенности!»
Эта «странная вещь» и парализует невольно – и безо всякого ханжества, наше прямое сочувствие персонажу. Все становится много сложней. И это несмотря на то, что перед тем идет выразительное:
«Я бы тебя должна ненавидеть: с тех пор, как мы знаем друг друга, ты ничего мне не дал, кроме страданий…
„Может быть, – подумал я: – ты оттого-то именно меня и любила: радости забываются, а печали никогда…“»
Вера сама уговаривает его поухаживать за княжной Мери: «Я ей дал слово познакомиться с Лиговскими и волочиться за княжной, чтобы отвлечь от нее внимание». Она настаивает на этом: «Ты не хочешь познакомиться с Лиговскими?.. Мы только там можем видеться…» – Так что она косвенно берет на себя вину за все дальнейшее. Тем более что она знает Печорина: «…это одна женщина, которая меня поняла совершенно, со всеми моими мелкими слабостями, дурными страстями…» А уже – через сцену: «Нынче я видел Веру. Она замучила меня своею ревностью. Княжна вздумала, кажется, поверять ей свои сердечные тайны: надо признаться, удачный выбор! …лучше скажи мне просто теперь, что ты ее любишь!..