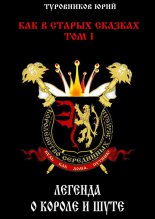Лермонтов и Пушкин. Две дуэли (сборник) Голлер Борис
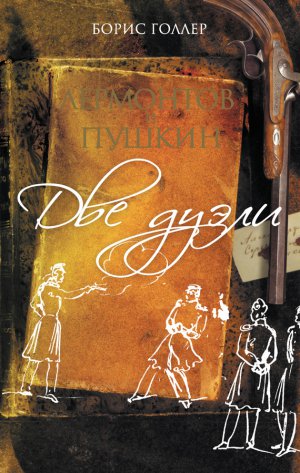
Над развязкой дуэли с де Барантом витает это монаршее раздражение.
Офицера, который вынужден был принять вызов, вступившись за русскую честь и за честь мундира – что отметил специально даже военный суд, – при самом благополучном исходе поединка – вместо того чтобы простить или хотя бы наказать символически – высылают снова на Кавказ – и теперь уже прямо в действующую армию – под пули горцев.[182] «Тот, кто мог заменить нам Пушкина…» Пушкину царь, по его понятиям, много прощал – он держал его при себе, даже не отпускал поселиться в деревне, выйти в отставку – под угрозой закрыть ему вход в архивы: понимал, что при царствовании его нужен такой поэт. «Империя блестящих фасадов» нуждалась и в Пушкине. Конечно, в Пушкине – под страхом опалы и под непосредственным орлиным взором монарха. Царь хотел иметь при себе прирученного Пушкина и очень опасался его – отвязанного.
Пушкин писал до времени политические стихи либерального или даже революционного толка. Это уж потом про них стало возможно говорить почти презрительно: «подобранные тайной полицией» – и даже в письме к великому князю. Мол, они ничего не стоили. Но сперва их подбирали многие – не только тайная полиция. И тогда это имело смысл – хоть Вяземский и предостерегал автора в свое время: «Оппозиция у нас бесплодное и пустое ремесло во всех отношениях: оно может быть домашним рукоделием про себя и в честь своих пенатов, если набожная душа отречься от нее не может, но промыслом ей быть нельзя. Она не в цене у народа»[183]. Пушкина приблизили, приручили – он стал, время от времени, выдавать другие политические стихи. «Стансы» в том числе – и не только их. Потому перлюстрировали даже его переписку с женой: хотели знать – что он думает на самом деле?..
В юности Лермонтов тоже воспевал свободу. В зрелости он почти не писал и не написал никаких политических стихов. И знаменитое «Прибавление» было едва ли не случайностью в этом смысле. С некоторых пор его занимал только человек – и что с ним происходит в этом печальном мире.
- Ты хочешь знать, что делал я
- На воле? Жил – и жизнь моя
- Без этих трех блаженных дней
- Была б печальней и мрачней
- Бессильной старости твоей…
Жизнь. Бой с барсом. Смерть. «И с этой мыслью я усну // И никого не прокляну…» Вот и все. «История души человеческой, хотя бы самой мелкой души…»
- И с грустью тайной и сердечной
- Я думал: жалкий человек,
- Чего он хочет? Небо ясно,
- Под небом места много всем…
А у властей на него, возможно, был особый взгляд. Какие-то расчеты. Вспомним, как во дворце, передавая из рук в руки, взахлеб читали «Демона». Царь это знал – от него это требовало каких-то шагов по приручению нового поэта – еще один «блестящий фасад империи», но Лермонтов обманывал все ожидания.
Он не писал стихов против власти – но не писал их в ее честь. (В отличие от позднего Пушкина.) Он вообще не касался в литературе ее политической составляющей – будто таковой вовсе не было.
Для него как писателя власть, как бы, не существовала. Он проходил будто сквозь нее – как привиденье через стену. И это раздражало или обижало – пожалуй, больше иной крамолы. «Отдавать жизнь за идею – значит слишком большое значение придавать неподтвержденным истинам». (Кажется, Анатоль Франс – век спустя.) Когда власть не принимают всерьез – это тоже крамола. Его равнодушие было важней для власти, а может, и опасней, нежели его мелькания на каких-нибудь балах, где ему не полагалось быть. В этом он всего лишь демонстрировал независимость, какую деспотии, даже слабые, не прощают. То, что на Лермонтова вдруг ополчились верхи, немножко напоминало «дело Бродского» – через столетие с лишком. Тот ведь тоже был осужден больше не за то, что власть ругал, а за то, что ее словно и не замечал.
Здесь нужно добавить: Лермонтов предложил миру, сравнительно с Пушкиным, – другой образ поэта, другую систему поведения.
Пушкин был горд, и гордился в себе и как будто нес в себе – Поэта.
Лермонтов тоже был горд – но именно из гордости в себе Поэта скрывал. Неслучайна, верно, мысль, что поведение позднего Лермонтова, уже известного писателя, определялось во многом трагедией, постигшей Пушкина. Вяземский писал в том же письме (Пушкину): «Ты любуешься в гонении: у нас оно, как авторское ремесло, еще не есть почетное звание. Оно звание только для немногих; для народа оно не существует».
Вот Лермонтов и жил во внешней жизни так, будто ощущал, что не существует это «авторское звание».
Почти никто из современников не запомнил его пишущим. Это его – человека, который за самый короткий срок, отпущенный ему Богом, успел сделать так много, так мощно. Зато в изобилии – предания о том, как он надламывал в ресторане тарелки о голову, чтоб они потом лопались в горячей воде, или рассовывал по карманам соленые огурцы. «Князь Васильчиков рассказывал мне, что хорошо помнит, как не раз Назимов, очень любивший Лермонтова, приставал к нему, чтобы он объяснил, что такое современная молодежь и ее направления, а Лермонтов, глумясь и пародируя салонных героев, утверждал, что „у нас нет никакого направления, мы просто собираемся, кутим, делаем карьеру, увлекаем женщин“, он напускал на себя la fanfaronade du vis и тем сердил Назимова. Глебову не раз пришлось успокаивать расходившегося декабриста, в то время как Лермонтов, схватив фуражку, с громким хохотом выбегал из комнаты… Он вообще любил или шум и возбуждение разговора, хотя бы самого пустого, но тревожившего его нервы, или совершенное уединение»[184].
Не забудем, что это – разговор с бывшим декабристом, то есть человеком идеи! И что с этого вопроса, что такое современная молодежь – читай, современный человек! – начнется, в сущности, разговор Максима Максимыча с Автором-рассказчиком и, фактически, весь роман «Герой нашего времени».
В первую встречу с Белинским в Пятигорске, в ответ на попытку серьезного разговора о Вольтере, Лермонтов бросит что-то вроде: «Да вот что я скажу вам о вашем Вольтере, – если б он явился теперь к нам в Чембар, то его ни в одном порядочном доме не взяли бы в гувернеры!» (И Белинский, и Лермонтов оба были из Чембарского уезда Пензенской губернии.) Этим он заслужил известную реплику Белинского в письме (ее цитирует Сатин): «…пожалуйста, не пускай к себе таких пошляков, как Лермонтов!»[185] Потом будет встреча Белинского с Лермонтовым в Ордонанс-гаузе, на гауптвахте, где Лермонтов содержался под арестом за дуэль с де Барантом, – и Белинский вынесет о собеседнике мнение буквально полярное.
Он «походил на маленького бесенка, которого Мефистофель мог подсылать к Вагнеру нарочно для того, чтобы смущать его глубокомыслие» (И. Панаев).[186]
Лермонтов часто издевался над людским «глубокомыслием» – что правда, то правда. Оно раздражало его – похоже, ему казалось, что эти разговоры не ведут ни к чему и что способность человека познать мир чрезвычайно мала… «Мы иссушили ум наукою беплодной…» Висковатов найдет очень точную формулу этого поведения – приведя цитату из Гейне, которого Лермонтов любил и переводил и который был ему очень близок:
- Дай маску мне, – хочу маскироваться
- Я пошляком, чтобы в толпе глупцов
- В личинах гениев, героев, мудрецов
- Не мог бы их подобием казаться,
- Дай мне ту пошлость, что они скрывают…
- Чтоб мог я на великом маскараде —
- С толпой смешавшись – мало кем быть узнан…[187]
Не только в поэзии Лермонтова и Гейне – во всей манере поведения было много общего…
У Гейне будет потом в предисловии к поэме «Атта-Троль»:
«Завистливая бездарность, после тысячелетних усилий, нашла, наконец, средство против дерзости гения: она придумала антитезу таланта и характера. Толпе сплошь и рядом преподносились истины, вроде: „Все порядочные люди, как правило, плохие музыканты, но хорошие музыканты – необязательно порядочные люди…“»
Нам следует отметить про себя: два крупнейших поэта России предложили своей эпохе две принципиально различных системы поведения художника. И обоих убивают в дуэли – одного за другим, с разницей всего в четыре с половиной года. Не нужно было вовсе – не то или иное поведение поэта. Не нужен был сам Поэт!
Лермонтов, может, называл это иначе – но хорошо знал про себя, что «антитеза таланта и характера» – уже придумана как средство против гения. И что по этой формуле добивали Пушкина.
Ему была необходима маска – чтоб скрываться. Этой маске он пожертвовал своим истинным лицом – первого трагического поэта России.
6
«В истории жизни и гибели Лермонтова есть какая-то тайна». Эти слова Эммы Герштейн, открывающие книгу «Судьба Лермонтова», можно бы и вправду поставить эпиграфом ко всей этой судьбе. Только тайну не исчерпывают факты типа: «Белые листы, корешки вырезанных страниц, письма с оторванным концом…»[188]
Наверное, больше был прав Блок, когда писал на самой заре создания классического лермонтоведения: «Почвы для исследования… нет, биография – нищенская, остается провидеть Лермонтова…»
«Остается провидеть…» «Причиной ссоры противников был „спор о смерти Пушкина“» – графиня Ростопчина – Александру Дюма.
Ростопчина уж точно – информированный источник. И Лермонтова прекрасно знала, и петербургский свет тоже. Но кто подсказал Баранту?.. Осталась где-то на полях еще фраза, якобы сказанная Лермонтовым: «Эти Дантесы и Баранты заносчивые сукины дети!» Вряд ли, если б шла речь просто о соперничестве по поводу женщины, Лермонтов стал бы так откровенно объединять эти два имени. Хотя… все может быть. Он был раздражителен, а поведение Баранта по отношению к той же Щербатовой могло казаться заносчивым. Могло напоминать ему того, другого… «Он был наглее нас…» Ведь не один Трубецкой, должно быть, говорил в свое время о «наглости» Дантеса и о том, как он себя вел с дамами. (И при этом – какой успех!) И Барант тоже – мог быть «наглей».
И все же… сама мысль об оскорблении французской нации родилась не у французов, это точно, а у кого?.. И кто подкинул ее французскому бездельнику и сыну посла Луи-Филиппа?
Это первый эпизод. Не последний. Все начинает быстро стремиться к развязке. Возникает Кто-то… Некто. Как Неизвестный в «Маскараде». Маска вместо лица. Кто-то подговаривает на дуэль офицера Колюбакина, над которым Лермонтов посмеивается. Мелькает в материалах, что Колюбакин походил на Грушницкого. Может, так – может, нет… Кто-то в Ставрополе сватает на эту роль Есакова. Кто-то, уже в Пятигорске, – Лисаневича, который ухаживал за Надей Верзилиной, а Лермонтов посмеивался над ним. Лисаневич якобы сказал (опять же – кому-то), в ответ на уговоры наказать Лермонтова: «Что вы! Чтобы я поднял руку на такого человека?» А может, это сказал Колюбакин. А может, нам просто хочется, чтобы кто-то сказал так, – а никто ничего не говорил.
«Корешки вырезанных страниц, письма с оторванным концом…» Кажется, вся судьба – «с оторванным концом»!
Тут и начинает маячить на горизонте смутная фигура Николая Соломоновича Мартынова.
Вообще, враги у Лермонтова были. И необязательно те, над кем он строил насмешки. Он был горд. Верней, в его попытке не выделяться и быть как все даже дюжинные люди предполагали гордыню.
А гордость вызывает предубеждение.
Неприязненником Лермонтова был, к примеру, граф Владимир Соллогуб, хоть он и печатался в одном с Лермонтовым журнале Краевского – «Отечественные записки». Известный автор «Тарантаса» и повести «Большой свет», в которой он «вывел светское значение Лермонтова» – словечко, которое, похоже, пустил в свет он сам. «„Маленький корнет“ Мишель Леонин, мечтающий о „большом свете“ и приглашении в Аничков дворец, вскоре осознает всю ложь и лицемерие аристократического общества» – так пересказывает сюжет «Лермонтовская энциклопедия»[189]. В памфлетное задание на написание этой повести со стороны великой княгини Марии Николаевны я как-то не очень верю. Я думаю, Соллогуб оправдывался этим мнимым волеизъявлением свыше. Лермонтов, что бы ни говорили о нем – и, главное, что бы ни сочинял об этом в письмах он сам, – не так стремился проникнуть в «большой свет». Это «проникновение» было ему обеспечено рождением, во-первых, и стихами на смерть Пушкина, которые нажили ему врагов и многих раздражили, но привлекли к нему общее внимание, да и его известность как писателя росла. Кроме того… автор оды «Смерть поэта» и знаменитого «Прибавления» к ней знал этому свету цену. На «большой свет» Лермонтов, как бы, и не обиделся – или сделал вид. Он вообще в литературе был крайне даже странно не обидчив. Об этом мы говорили уже. Похоже, его литературных мнений нет в письмах – не потому лишь, что писем дошло до нас крайне мало, – но и потому, что он их, эти мнения, не высказывал. Может, просто – не высказывал вслух? Внешне они с Соллогубом вроде даже приятельствовали. Хотя Соллогуб явно ревновал к Лермонтову свою невесту, потом жену – Софью Виельгорскую. Стихотворение «Нет, не тебя так пылко я люблю…», скорей всего, обращено именно к ней, – а не к молоденькой, хорошенькой Кате Быховец, «дальней родственнице Лермонтова, с которой поэт встречался летом 1841 года в Пятигорске». Весь рассказ Кати Быховец о Лермонтове и гибели Лермонтова, дошедший до нас, вызывает такое светлое ощущение от нее самой и от ее отношений с ним, что никак не сближается с трагическими ассоциациями самого стихотворения. Не знаю, кому понадобилось отказываться от простой и вызывающей доверие истории появления этих стихов, какую предлагала сама Софья Соллогуб?.. И искать в Кате Быховец сходство с Варварой Лопухиной, какую находила только сама Катя… Ну да – ей так казалось: «я думаю, он и меня оттого любил, что находил в нас сходство, и об ней его любимый разговор был…» Но кто сказал, что это сходство и вправду находил он сам? Наверное, легенду о любви Лермонтова к Лопухиной Катя вывезла с собой из Москвы и насчет «любимого разговора» – явно преувеличивала: он был слишком закрытый человек! С этим стихотворением вообще – несусветная путаница.
- Я говорю с подругой юных дней,
- В твоих чертах ищу черты другие,
- В устах живых уста давно немые,
- В глазах огонь угаснувших очей…
Повторим в который раз: Лермонтов был религиозен в настоящем смысле слова. Он не мог бы написать: «уста давно немые» и «огонь угаснувших очей» о человеке живом. Это грех! А на нем и так, он считал, много грехов! Так что… никакая, пребывавшая в здравии, Варвара Лопухина не могла стоять за этим образом. «„…уста давно немые“ наталкивали на предположение о давно умершей девушке…»[190] – но эта девушка никак не находится в ранней биографии Лермонтова – куда более известной, чем поздняя… Можно предположить, что это вообще – образ рано ушедшей матери, который мнился Лермонтову всю его жизнь… «Когда я был трех лет, то была песня, от которой я плакал: ее не могу теперь вспомнить, но уверен, что, если б услыхал ее, она бы произвела прежнее действие. Ее певала мне покойная мать»[191]. «Подруга юных дней» вовсе не означала в то время одно лишь любовное переживание. Самое слово «подруга» имело больше значений – иначе Пушкин не обратил бы его к старой няне…
Что касается того, что Соллогуб ревновал кого-то к Лермонтову… Боюсь, поле для ревности тут более значительно, нежели ревность к невесте или даже к жене – или к успеху в свете… К Пушкину Соллогуб в самом деле относился с уважением и пиететом. Был советчиком его и секундантом в первой дуэльной истории с Дантесом – в ноябре 1836-го. Правда, Пушкин будто бы сказал ему с упреком: «Вы были больше секундантом Дантеса, чем моим!» – за то, что он пытался расстроить дуэль тогда, – но мы за это никак держать обиду не можем. Он был на стороне Пушкина – в той мере, в какой человек его масштаба способен был понимать Пушкина. Но с существованием Пушкина в какой-то мере смирились даже далекие ему в литературе люди: все смирились. Зато, когда его не стало, почувствовали невольное облегчение – и его литературные друзья в том числе. Поскольку нам трудно вообще представить себе, что такое создавать литературу рядом с Пушкиным. «Мне мешает писать Лев Толстой», – говорил Блок. Человек терял веру в себя рядом с Пушкиным – масштаб литераторов в его присутствии заметно менялся – и сразу! Но повторяю – с этим все смирились. Однако появление, след в след Пушкину, другого поэта, в котором можно было заподозрить почти равный талант, – могло быть обидно. Это было трудно пережить. Тут была ревность – не только к таланту, тут ревновали саму литературу. Эта ревность поразила и ряд прямых пушкинских друзей. Плетнев, Вяземский… Литературные ряды расстроились – начались распри, часто злобные. Осталось писать памфлеты на «светское значение» этого парвеню.
Но все равно… как бы Соллогуб ни относился к Лермонтову, вряд ли он был тем, кто напомнил Баранту стихи на смерть Пушкина, придав им некий извращенный смысл. Слишком Соллогуб был завязан сам в пушкинской истории – притом на стороне Пушкина несомненно – и сделать так означало бы изменить себе. Люди того времени – если они не были подлецами – не позволяли себе идти на такие вещи.
Притом Некто, Неизвестный – который продолжает мелькать на полях лермонтовской биографии, готовый вот-вот ворваться в нее с кинжалом или пулей в спину, – как-то очень размазан по территории внутренней России и сопредельной с ней… он не только в Петербурге, он – и в армии на Кавказе, и в Ставрополе, и в Пятигорске… рождается ощущение, что их много, этих Некто, или их связывает нечто единое. До того, что некоторые недалекие люди придумали целый масонский заговор вокруг Лермонтова. Мне даже один знакомый показывал повесть на эту тему, появившуюся в смутное время – во второй половине 80-х теперь прошлого века.
А все было просто… по этой территории расползалась одна обширная общность: столичная гвардия. «…и даже в том полку, где он служил, его любили немногие».
7
Среди врагов Лермонтова, которые появились после «дела Пушкина» и знаменитых строк о «надменных потомках», Ласкин называет, прежде всего, князя Барятинского: Александр Иванович – будущий фельдмаршал. Победитель Шамиля. То есть победителей, вообще-то, было много – но лавры достались ему: ему сдался в плен Шамиль. В лермонтовскую пору Барятинский был сперва офицером Кирасирского полка, потом кавказским армейцем, потом адъютантом Наследника. Барятинский учился с Лермонтовым в юнкерской школе, но особенных способностей и усердия тогда в учебе не явил: сказывался, возможно, «надменный потомок… прославленных отцов» (к Барятинскому это могло относиться впрямую): незачем слишком стараться, когда все само идет в руки: мать не только вхожа во дворец, но с императрицей чуть не каждую неделю завтракает. И все же, по недостаточным успехам, окончив ученье, оказался не в самом привилегированном полку – не в Кавалергардском и не в Лейб-гусарском – а всего лишь в Кирасирском. Император Николай имел и на этот счет свое мнение. Кажется, Барятинский все равно рвался в кавалергарды и считал себя кавалергардом в душе, и уж точно принадлежал к группе Александра Трубецкого. К «коноводам» гвардии. И в какой-то мере – к «кружку развлечений» монархини. Он участвовал в ряде затей кавалергардов – в частности, в том знаменитом безобразии на Неве, в затее с гробом с надписью «Борх». Посему причастность и Барятинского к пасквилю на Пушкина нельзя совсем отметать. (Напоминаем, с Барятинским был тогда на Неве и Трубецкой Сергей!)
Когда Дантес был под арестом после смерти Пушкина – Барятинский, как другие, слал ему «прелестные письма», как говорили некогда. Вот – от 19 марта: «Мне чего-то недостает с тех пор, как я не видел Вас, мой дорогой Геккерн; поверьте, что я не по свое воле прекратил свои посещения, которые приносили мне столько удовольствия и всегда казались мне слишком краткими; но я должен был прекратить их вследствие строгости караульных офицеров. Подумайте, что меня возмутительным образом два раза отослали с галереи под тем предлогом, что это не место для моих прогулок, а еще два раза я просил разрешения увидеться с Вами, но мне было отказано. Тем не менее верьте по-прежнему моей самой искренней дружбе и тому сочувствию, с которым относится к Вам вся наша семья»[192].
Дантес, сообщая Геккерну, что произведен в поручики (в феврале 1836-го), попутно упрекал, что тот противодействовал его, Дантеса, желанию отправиться на Кавказ. (Невольно подумаешь: если б Дантес уехал на Кавказ – Пушкин был бы жив!) Дантес писал: «…все, кто был на Кавказе, вернулись живые и невредимые и были представлены к крестам… Один бедняга Барятинский был опасно ранен, это правда, но зато и какая награда. Император назначил его адъютантом наследника…»[193] На Кавказе Барятинский и правда совершал подвиги – но едва не лишился жизни. Тут и взвилась его карьера, которую он закончит фельдмаршалом и победителем. Уже на вершине ее и много времени спустя после гибели Лермонтова – он будет удивлен, узнав, что его молодой личный секретарь (чиновник по особым поручениям) Павел Висковатов интересуется Лермонтовым: сам признался в этом – и сказал, что собирается писать его биографию. Барятинский стал упорно отговаривать молодого человека. (К счастью, безуспешно – и мы получили лучшую, верно, по сей день – самую полную биографию Лермонтова.)
Он был человек надменный – говорят, даже родная мать боялась постучаться к нему в комнату. Он всегда следил, чтоб дистанция между ним и другим человеком никак не была нарушена.
У него были еще причины ненавидеть Лермонтова – и кроме «надменных потомков». Было такое приключение – в школе гвардейских подпрапорщиков и кавюнкеров, среди многих приключений, в которых они участвовали, должно быть, вместе с Лермонтовым – а потом оно попало в поэму Лермонтова «Гошпиталь». Поэму порнографическую – добавим с сожалением, почти ничего другого Лермонтов за все два года школы не сочинил. Хотя тут надо признать – он и в этом был необыкновенно талантлив. Три «юнкерские» поэмы, созданные им на столь сомнительном материале, от рассмотрения коих – не говоря уж об издании! – упорно отказываются наши специалисты-лермонтоведы вот уж сколько лет, не включая их в самые полные и академические собрания, – безусловно, являются украшениями жанра порно, если этот жанр вообще что-то способно украсить. Лермонтов в нем преуспел, верно, больше, чем Барков и чем безвестный автор «Луки Мудищева». (Может, больше, чем сам Пушкин? Хотя хвастаться нечем!) Оттого и некоторые подвиги Барятинского, от которых тот хотел бы позже откреститься, попали в анналы гусарской истории, передаваемой из уст в уста.
В поэме «Гошпиталь» Лермонтова – «Князь Б., любитель наслаждений, с Лафою стал держать пари» (Лафа – Поливанов, гусар) – на «шесть штук шамапанского», что переспит с юной Марисей – служанкой старой слепой барыни, которая живет при Петергофском гошпитале. Проникнув в дом и оказавшись в спальне барыни, князь принимает за юную красотку-польку саму слепую старуху и… в страсти бросается на нее. Притом даже старая барыня, зовя на помощь, лихо выкрикивает самые непотребные слова: «Сюда – сюда… меня ….!»
На зов вбегает слуга – мужик со свечой, и что он видит?
- …Худая, мерзостная с…
- В сыпи, в заплатах и чирьях,
- Вареного краснее рака
- Пред ним зияла…
…это, не забудьте, – задница князя – и будущего победителя Шамиля. И слуга прикладывает к ней горящую свечу. И далее (опускаем детали):
- Невкусен князю был припарок…
- «Ты знаешь ли? Я князь!» – Вот штука!
- Когда ж князья …. старух?![194]
Все заканчивается тем, что славный Лафа (главный герой «Юнкерских поэм»), который сам в это время спокойно развлекался с Марисей, спасает убегающего князя, дав в зубы его преследователю – при этом открывая нам имя героя: «Где ты, Барятинский, за мною!..»
Вероятно, тотчас по происшествии это все доставило много радостей и смеху, было омыто в вине – тех самых «шести штук шампанского» – и Лермонтов был среди тех, кто обмывал. Однако несколько лет спустя поднимающемуся по карьерной лестнице офицеру, герою войны, адъютанту наследника престола, стихи стали крайне неудобны, и самое воспоминание неудобно. Но никто ничего не мог поделать уже – это «ушло в народ» – субкультура гусарства! – и гвардейские офицеры и генералы, тайком от своих жен и детей, с удовольствием перечитывали эту похабель – а иногда зачитывали вслух друзьям – порой в желании кольнуть князя, который так уж стал взбираться по лестнице чинов – что не уследить. Эта «худая, мерзостная с…» могла ли стоить жизни Лермонтову? Могла. Но вряд ли. Барятинский, кроме Петербурга, не был нигде одновременно с Лермонтовым. «Люди эти даже мешали ему в его служебной карьере»[195], – пишет Висковатов, но не подтверждает ничем. Ему возражала Ашукина-Зенгер: «В какой мере он (Барятинский. – Б. Г.) знал о Лермонтове в периоды его пребывания на Кавказе, сказать трудно. Во всяком случае, знать мог, так как брат его Владимир в 1837 г. встречался с Лермонтовым на водах»[196]. Но в 1837-м никаких попыток спровоцировать кого-либо на дуэль с Лермонтовым не зафиксировано. Потом, судя по всему, какие-то отношения между Лермонтовым и Барятинским все же сохранялись – и даже серьезные разговоры были в Москве. Да и просто по месту действия… Барятинский мог еще иметь какую-то причастность к истории с де Барантом. Но его не было ни в отряде Галафеева (Валерик), ни в Ставрополе, ни в Пятигорске одновременно с Лермонтовым… Пребывание его брата Владимира в Пятигорске, в последний приезд Лермонтова, тоже не подтверждено. Все сказанное не исключает вовсе неприязни к Лермонтову, о которой пишет Висковатов. Впрочем… говоря о Лермонтове, князь однажды высказался, что николаевская империя обтачивала людей, как бильярдные шары, – требуя существования лишь гладких, а Лермонтов был другим: он выделялся… Непохож на подстрекателя к убийству! Но это, вы скажете, уже скорей – психологический этюд, чем доказательство. Правда! Но и весь разбор, какой мы здесь предприняли, – разве не один сплошной психологический этюд?..
Н. С. Мартынов
Мне странно, что Ласкин на Барятинском остановился… Он двигался в правильном направлении.
Тут и появляется на горизонте Мартынов Николай Соломонович. Москвич. Петербургский гвардеец.
8
Они учились вместе в юнкерской школе. Притом, похоже, в школе связи между ними никакой не было. Нет воспоминаний об участии в каких-то совместных акциях или проделках. Но после школы уже между ними возникает какая-то связь: Мартынов как-то мелькает в жизни Лермонтова. У них общие корни по рождению – оба москвичи. Лермонтов хорошо знаком с семьей Николая: родители, сестры. С сестрами у него какая-то светская дружба или легкий флирт. Может, более серьезный с одной из них. Сестрам, похоже, он нравился.
Мартынов дважды принимался в жизни за воспоминания об их встречах, верно, пытаясь что-то сказать потомству – в чем-то оправдаться или что-то объяснить, – и дважды себя обрывал на полуслове, на юнкерской школе, где они встретились. Во второй раз попытался уже незадолго до смерти: «Моя исповедь» – название вызывающее. Объяснение явно не давалось ему.
Он вышел в полк из Школы гвардейских подпрапорщиков в декабре 1835-го. Полк был Кавалергардский. Так что на его глазах прошла вся недолгая, но бурная история Дантеса в полку. С Лермонтовым Мартынов дальше встречался часто – и в Петербурге, и в Москве.
В устной форме, вдогонку убитому, Мартынов послал несколько эпизодов их общения, призванных аттестовать Лермонтова дурно, – но они были настолько малы и незначащи, что могли у нормального человека вызвать только ссору с кем-то или размолвку – но никак не стрельбу из пистолета на поражение. Хотя… у обеих рассказанных им историй было очевидное достоинство: проверить было нельзя.
Вот один эпизод… Лермонтова ограбили в Тамани, когда он ехал на Кавказ, – это все знают – об этом написан рассказ «Тамань». Но, оказывается, с ним ехали письма родных Мартынова, которые Лермонтов забрал в Москве. Говорят, особенно подробные были письма сестер – чуть не дневники. В ту эпоху было модно – вести дневник и, время от времени, давать его кому-то близкому на прочтение. Но, может, не только письма? Отец Мартынова вложил в пакет еще деньги для сына. Когда Лермонтова обокрали – он, естественно, не мог вернуть письма – но деньги почему-то вернул. Вопрос: откуда он знал про них? И точную сумму? Может, вскрывал письма? (Подозрение, что Лермонтов не отдал письма, потому что их вскрыл, – высказала впервые мать Мартынова: может, боялась, что он женится на одной из девиц? – не хотела этого брака и оговорила: Лермонтов ей не нравился.) Не забудем, что вся история с письмом и с ограблением в Тамани относится к 1837 году.
Вторая легенда связана с первой; Лермонтов якобы ухаживал немного за одной из сестер Мартынова, Натальей Соломоновной (Герштейн считает, что и он нравился ей). Мартынов пустил слух, что Лермонтов и вскрыл-то письма, чтоб узнать мнение его сестры (или сестер) о себе. И что потом он якобы сказал Мартынову: «Ты знаешь, кто такая княжна Мери? Княжна Мери – это твоя сестра!» Но эта легенда возникла почти сразу по смерти Лермонтова, чуть не в ресторации Найтаки в Пятигорске, где роились тогда все слухи. В тот момент «княжон Мери» было хоть отбавляй – полный Пятигорск. Эмилия Клингенберг – старшая дочь Верзилиной от первого брака и падчерица генерала Верзилина – тоже не избежала разговоров о том, что «княжной Мери» была она, как, впрочем, и ее совсем юная сестра Надин. Обе они, кстати, после вышли за Шан-Гиреев – Акима и Алексея – близких родственников Лермонтова.
Рождение легенды, на мой взгляд, более всего демонстрирует полную растерянность общества в Пятигорске перед случившимся – и поиск каких-то самых простых и понятных причин…
Самое интересное, что оба эпизода, как бы порочащие Лермонтова, – не мешали им с Мартыновым еще долго встречаться по дружбе. А в Пятигорске почти до конца оставаться в одном тесном кругу. (Та же Екатерина Быховец, в совершенной ярости против Мартынова – право, такой ярости, как она, никто другой не выказал, – отмечала в письме: «А давно ли он мне этого изверга, его убийцу рекомендовал, как товарища, друга!»[197]).
9
На Кавказе осенью 1840-го Лермонтов и Мартынов вместе участвовали в экспедиции генерала Галафеева.
«Он приехал на Кавказ, будучи офицером Кавалергардского полка и был уверен, что всех удивит своей храбростью, что сделает блестящую карьеру, и только и думал о блестящих наградах. На пути к Кавказу в Ставрополь, у генерал-адъютанта Граббе, за обеденным столом, много и долго с уверенностью говорил Мартынов о блестящей будущности, которая его ожидает. Так что Павел Христофорович должен был охладить пылкого офицера и пояснить ему, что на Кавказе храбростью не удивишь, а потому и награды не так-то легко даются. Да и говорить с пренебрежением о кавказских воинах не годится»[198].
Это воспоминание о появлении Мартынова на Кавказе, в штабе Граббе Висковатов приводит со слов сына командующего – Николая Павловича Граббе.
Портрет Мартынова этого времени оставил и Костенецкий, один из офицеров штаба:
«Это был очень красивый молодой гвардейский офицер, блондин, со вздернутым немного носом и высокого роста. Он был всегда очень любезен, весел, порядочно пел под фортепьяно романсы и полон надежд на свою будущность: он все мечтал о чинах и орденах и думал не иначе, как дослужиться на Кавказе до генеральского чина. После он уехал в Гребенской казачий полк, куда он был прикомандирован, и в 1841 году я увидел его в Пятигорске. Но в каком положении! Вместо генеральского чина он был уже в отставке, всего майором, не имел никакого ордена и из веселого и светского изящного молодого человека сделался каким-то дикарем, отрастил огромные бакенбарды, в простом черкесском костюме, с огромным кинжалом, в нахлобученной белой папахе, мрачный и молчаливый»[199].
(Добавим, тот же Костенецкий пишет о Лермонтове не слишком приязненно – так что объяснить его отзыв о Мартынове его расположением к Лермонтову никак нельзя.)
Висковатов пояснял: «Мартынов в общем носил форму Гребенского казачьего полка, но, как находившийся в отставке, делал разные вольные к ней добавления, меняя цвета и прилаживая их согласно погоде, случаю или вкусу своему… Рукава черкески он обычно засучивал, что придавало всей его фигуре смелый и вызывающий вид. Он был фатоват и, сознавая свою красоту, высокий рост и прекрасное сложение, любил щеголять перед нежным полом и производить эффект своим появлением. Охотно напускал он также на себя мрачный вид, щеголяя „модным байронизмом“»[200]. Добавим: он всегда ходил с большим кинжалом – даже в гостиных, даже на танцах. Та же Екатерина Быховец писала брату: «Мартынов всегда ходил в черкеске и с кинжалом». И в другой части письма: «Этот Мартынов глуп ужасно, все над ним смеялись… он ужасно самолюбив; карикатуры его беспрестанно прибавлялись». Судя по контексту – это было еще до приезда Лермонтова в Пятигорск – и лишь продолжилось при нем. Но никто из карикатуристов не был вызван на дуэль. Даже ссоры никакой не было.
Наверное, нам давно следует развести в пространстве две грани ситуации: Лермонтов – шутник, дразнилка, со склонностью к клоунаде – такую он взял на себя роль, – мог, в конце концов, спровоцировать кого-то на вызов и «допечь» его шутками. – То, что повторяют многие. В том числе – из тех, кто был приятельски настроен к Лермонтову, – не только сторонние свидетели. И, если Мартынов еще, к тому же, был почему-то зол на собственную судьбу…
Но прицельный выстрел на поражение требует серьезных оснований.
Как бы мы ни относились к Дантесу – в момент дуэли у него не оставалось выбора. Как было сказано в фильме «Последняя дорога» устами Данзаса: «Такой узел с тридцати шагов не рубят»[201].
Дантес метил вполне определенно и подло – в гениталии противника. Хотел отмстить. Попал чуть выше – в низ живота. Но Пушкин тоже был настроен стреляться до смертного исхода.
Лермонтов не собирался стрелять – и демонстрировал это вполне явственно.
- Свой пистолет тогда Евгений,
- Не преставая наступать,
- Стал первый тихо подымать…
Если бы Ленский поднял пистолет «на воздух», как тогда говорили, или отворотил в сторону, – никакой смертельной дуэли не было бы. Но…
- И Ленский, жмуря левый глаз,
- Стал также целить…
- …
Так возникала «воронка дуэли»[202].
Но Лермонтов то ли поднял пистолет на воздух, то ли первым выстрелил – тоже в воздух. Это показывали решительно все, хоть по-разному. Вероятней все-таки выстрелил – это секунданты потом, чтобы как-то обелить Мартынова, сказали, что кто-то из них разрядил лермонтовский пистолет.
Таким образом, Мартынов стрелял в заведомо безоружного человека. Притом давнего товарища…
Это заставляет нас думать. Искать причины там, где мы давно смирились с самыми простыми и неправдоподобными.
Если б мы знали, почему Мартынов уволился из армии в середине февраля 1841-го, мы б, наверное, могли понять, почему он убил Лермонтова летом того же года.
Неудача судьбы! Вот чем пахнет от его неожиданной отставки и вызывающего наряда. Лермонтов поехал на Кавказ не своей волей – а никак не добывать чины. Он мечтал выйти в отставку. Сколько можно судить – Мартынов чины, в первую очередь, и имел в виду, отправляясь на Кавказ.
Но что случилось – неизвестно.
Почему был исключен Лермонтов из «Валерикского» представления (к награде за храбрость), более или менее можно понять. Начальству он был неугоден – и довольно давно. Но почему исключен Мартынов? Офицер он был храбрый, никто не спорит, иначе он не попал бы в представление. На Кавказе, в боях – всегда было кого и за что представлять! Какие за Мартыновым водились грехи?..
Слабо мелькает один – хоть нечетко, без всякой уверенности. Он был игрок – это и после за ним шло. Откуда-то всплывает кличка его «Маркиз де Шулерхоф». Но такая кличка могла быть и просто шутливой, относящейся к завзятому игроку.
В более поздние времена рассказывали о нем. «Он был мистик, по-видимому, занимался вызыванием духов… но такое настроение не мешало ему каждый вечер вести в клубе крупную игру в карты, причем его партнеры ощущали тот холод, который, по-видимому, присущ был самой его натуре». Это приводит Герштейн мнение одного из мемуаристов и передает слово другому: «Некто Ф. Ф. Маурер, владелец богатого московского особняка, подтверждал, что Н. С. Мартынов вел в его доме крупную карточную игру. Маурер заходил даже еще дальше, уверяя, что это было единственной доходной статьей Мартынова»[203].
Если была какая-то признанная нечестной карточная игра… Ну тогда командир полка мог вызвать провинившегося офицера и поставить перед дилеммой: или суд чести, или увольнение из полка по собственному желанию (по семейным обстоятельствам). Мартынов был причислен к Гребенскому казачьему – но был офицером-кавалергардом. Он мог хотеть в этом случае вернуться в свой полк – каким-то смелым поступком: и тогда вспомним опять – дуэль Пушкина, «дело чести полка»… и стихи Лермонтова.
Во всяком случае… Мартынов увольняется из армии «по домашним обстоятельствам». Карьера его рухнула. Дом у него в Москве, но домой он не едет, болтается по Пятигорску злой как черт и в вызывающем наряде – эпиграммы и карикатуры на него множатся – еще до приезда Лермонтова. А тут Лермонтов, буквально, подворачивается под руку, да еще злит его своими насмешками и шуточками. Но они – одна компания, один круг, одна «банда» в конце концов, как они называли сами. Мартынов живет на квартире с Глебовым, а Глебов – друг Лермонтова. Да и вообще – кругом друзья, тут негде зародиться вроде столь смертельной вражде.
Тут что-то не то, не так – или есть еще обстоятельства, коих мы не учитываем.
Из всех объяснений, какие придут со стороны Мартынова, конкретно – из его семьи, всего одно, которому следует уделить внимание. Фраза его сестры, дошедшая до нас – хотя и в пересказе: «Друзья таки раздули ссору!» Как будто в этом роде высказывался и сам Мартынов.
Кто из друзей? Кто именно? Кто был рядом?..
Эмма Герштейн спешно назначила во враги Васильчикова. Посвятила этому целую главу – «Тайный враг» в своей известной книге. Но не убедила.
«Независимый либерал заключил свой рассказ о дуэли обвинением убитого, ссылаясь на его строптивый, беспокойный нрав»[204].
Но увы! утверждениями подобного рода пестрит вся книга «Лермонтов в воспоминаниях современников». Не вся ж она писана неприятелями поэта? Да и, положа руку на сердце: нрав разве не был «строптивым и беспокойным»? Чтоб признать это – вовсе не надо было быть врагом Лермонтова!
Автор приводит еще очень интересную запись в дневнике А. С. Суворина.
«Васильчиков в Английском клубе встретил Мартынова. В клуб надо было рекомендацию. Он спрашивает одного – умер, другого – нет. Кто-то ударяет его по плечу. Обернулся – Мартынов. – Я тебя запишу. – Взял его под руку, говорит: – Заступись, пожалуйста. А то в Петербурге какой-то Мартьянов прямо убийцей меня называет. – Ну как не порадеть! Так и с Пушкиным поступали. Все кавалергарды были за Дантеса». «Запись… сделана со слов П. А. Ефремова, – комментирует Герштейн, – известного издателя и редактора сочинений Пушкина и Лермонтова». Но по записи Суворина нельзя понять – кто сказал в этом диалоге самую главную – последнюю фразу. Мартынов, Васильчиков? Тем более что сама запись – с чьих-то слов. А еще идет это все от «редактора реакционной газеты „Новое время“», на что указывает автор «Судьбы Лермонтова». А Мартьянов, поминаемый здесь, большой поклонник Лермонтова, был одновременно сотрудником газеты Суворина, и Суворин выступает на его стороне. А Васильчиков был либерал и, стало быть – враг газете «Новое время».
Пусть меня простят – никакой враждебности к Лермонтову в мемуарах Васильчикова о дуэли я не нахожу. Так, как он, говорили многие, словно объективируя ситуацию. Не имевший отношения к поединку и явно симпатизирующий Лермонтову человек – вроде А. Н. Муравьева – мог сказать: «Он пал от руки приятеля, который всячески стремился избежать дуэли, но был вынужден драться назойливостью самого Лермонтова». Что делать! «Таков был общий глас!» Или почти общий.
А непосредственные участники, как в случае с Пушкиным, решили дружно что-то скрыть. Это совершенно определенно. Так вели себя, к сожалению для нас, не только достаточно далекие поэту люди: тот же Васильчиков, – но и самые близкие – Алексей Столыпин (Монго), ближайший к Лермонтову человек. Почему они приняли на себя такую обязанность – столь же непонятно по прошествии времени, как то, почему друзья Пушкина взяли на себя круговую защиту Натальи Николаевны.
Поведение Столыпина, в принципе, объяснить можно: все уже случилось – и нельзя было ничего изменить. (Вроде, по воспоминаниям, когда Мартынов кинулся к убитому, сразу после выстрела, Столыпин сказал ему: «Подите прочь! Вы уже сделали все, что могли!») И, как друг Лермонтова – верно, и идеологически тоже, – он вряд ли верил в какой-нибудь суд, кроме Божьего, и в людскую справедливость. А участвовать в фарсе не стал – как не стал бы и Лермонтов на его месте. Обыденные объяснения тоже существуют – хотя и недостаточные. В первый момент так было решено всеми – частью, от растерянности. А потом все стояли на своем. В дуэли на ролях секундантов участвовало, по меньшей мере, двое или трое людей, уже наказанных властями за те или иные провинности. (Среди них Сергей Трубецкой.) Потому выбрали двоих, чтоб они назвались секундантами. Выбрали из тех, кто не был ни в чем замешан досель: один лечился в Пятигорске от раны, полученной в бою (Глебов), другой был сыном одного из ближайших вельмож Николая I (Васильчиков). Обоим мало что грозило. Оба фактически избежали потом наказания.
Э. Герштейн как повод для ненависти Васильчикова приводит некую эпиграмму, написанную якобы Лермонтовым в Пятигорске, в последний приезд, – (якобы) мелом, (якобы) на сукне карточного стола, (якобы) скопированную потом Чиляевым (домовладельцем) и (якобы) переданную им много лет спустя Мартьянову из «Нового времени» (как видите, сплошное сослагательное наклонение!):[205]
«Если Васильчиков мог порвать с В. Карамзиным за один только намек на покровительство отца, то эпиграмма Лермонтова, ставившая под сомнение либеральные позиции Васильчикова, должна была вызывать его лютую ненависть к автору. Васильчиков мог желать смерти Лермонтова»[206]. Но с Карамзиным Васильчиков порвал – по указанной автором причине, – когда был совсем юн. После он, возможно, научился владеть чувствами. Как можно судить – Васильчиков ругнулся в игре, это стало предметом эпиграммы. А за карточным столом занимаются игрой – а не либеральными или консервативными позициями. Вообще, неизвестно – принадлежала ли эпиграмма Лермонтову: в собрании она только «приписывается» ему. На карточном столе – мелом? – скорей всего, это был коллективный труд. И потом… Если б каждая эпиграмма того времени вела за собой дуэль со смертельным исходом или тянула к ней – земля была б усыпана трупами – куда больше, чем стихами. Толкователи часто бывают бесконечно далеки от психологии эпохи, о которой толкуют. Потому и делать исчерпывающий вывод: «Васильчиков мог желать смерти Лермонтова» на столь шатких основаниях – просто анекдот. Вообще, доводы почтенного исследователя бывают забавны: «…выясняется, что Васильчиков с Глебовым ехали в дрожках Мартынова, очевидно, они и были его секундантами»[207]. Но они ж были товарищи, одна компания! – и, если у них случилась беда, и двое из них собираются стреляться – они могли ехать к месту дуэли в одних дрожках и не заботясь, кто и чей секундант!
Висковатов, который, в отличие от Эммы Герштейн (и нас с вами), встречался с Васильчиковым лично и говорил с ним о Лермонтове, вынес впечатление качественно иное. «Справедливая и горячая защита Лермонтова делает тем более чести князю Васильчикову, что сам он в свое время немало чувствовал на себе сарказм Лермонтова. Васильчиков и есть тот молодой князь, к которому, по рассказу Боденштедта, в Москве, за общим обедом так сильно приставал Лермонтов со своими сарказмами и шпильками».
Впрочем, дальше Герштейн формулирует очень точно: «Кем-то искусственно взвинченный в предыдущие дни Мартынов…»[208]
Вот и давайте думать – кем! И сперва вернемся к тому, что произошло в гостиной Верзилиных в Пятигорске – под вечер 13 июля.
10
В гостиной были танцы.
«Михаил Юрьевич дал слово не сердить меня больше, и мы, провальсировав, уселись мирно разговаривать. К нам присоединился Л. С. Пушкин, который также отличался злоязычием, и принялись они вдвоем острить свой язык… Несмотря на мои предостережения удержать их было трудно. Ничего злого особенно не говорили, но смешного много; но вот увидели Мартынова, разговаривающего очень любезно с младшей сестрой моей Надеждой, стоя у рояля, на котором играл князь Трубецкой. Не выдержал Лермонтов и начал острить на его счет, называя его „montagnard au grand poignard“ (Мартынов носил черкеску и замечательной величины кинжал). Надо же было такому случиться, что, когда Трубецкой ударил последний аккорд, слово poignard раздалось по всей зале».
Последнее событие подчеркнем особо!
«Мартынов побледнел, закусил губы, глаза его сверкнули гневом; он подошел к нам и голосом весьма сдержанным сказал Лермонтову: „сколько раз просил я вас оставить свои шутки при дамах“ и так быстро отвернулся и отошел, что не дал и опомниться Лермонтову, а на мое замечание: „язык мой, враг мой“ Михаил Юрьевич отвечал спокойно: „Это ничего, завтра мы уже будем добрыми друзьями“»[209].
«Надо же было такому случиться» – действительно! А почему игравший прервал игру именно в этот момент? Когда увидел, что Лермонтов что-то говорит Эмилии явно в адрес Мартынова – что тем более вероятно, так как Мартынов стоял непосредственно у рояля вместе с Надин Верзилиной! – Танцевальную музыку умеющие люди играют чаще по слуху, чем по нотам, – и можно спокойно в это время смотреть или хотя бы посматривать по сторонам.
«Ничего злого особенно не говорили, но смешного много…» Так же, как Васильчиков – неизвестно за какие грехи – был назначен врагом Лермонтова, – Сергей Трубецкой был назначен его другом, и так же неизвестно за что. Нет, одно основание было: он был гоним – как Лермонтов. А на Руси любят гонимых. И склонны прощать им все. Хотя из гонимых порой вырастают гонители, или они существуют порой в одном лице – и гонимые, и гонители. Я думаю, прозвище Трубецкого Сергея «miserable» строилось больше всего на его «гонимости».
Сергея Трубецкого, а после и его брата Александра – царь гнал беспощадно, изобретательно и, мы бы сказали, вдохновенно. За Александра Трубецкого царь принялся не сразу – тот долгое время еще был «Бархатом» для его супруги (вряд ли он не знал это прозвище!). Нельзя ж так сразу! Но потом расплатился с ним с лихвой. Тот уехал за границу и попросил разрешения задержаться… Царь один раз позволил с требованием вернуться в краткий срок и уже с угрозой, но во второй раз – отказал, и отказал еще в праве воротиться в страну. (Карьера Александра была сломана еще раньше.) Ему разрешил вернуться в Россию только новый царь Александр II. В дальнейшем Трубецкой оказался уже в Одессе, на заштатных ролях. Генерала ему дали, как бывало, уже в момент отставки.
Это несмотря на почти родственную любовь императорской семьи к Трубецким: к сестре Марии, к их отцу – князю Василию Трубецкому. – Когда старый князь умер, за его гробом шел эскадрон кавалергардов во главе с императором. Но это не помешало самодержцу осведомляться, на каком основании прибыл с Кавказа его высланный прежде из столицы сын Сергей – кстати, тяжко раненный в бою под Валериком, – и посадить его под домашний арест, хотя тот, вообще-то, приехал проститься с умирающим отцом. И потом государь чуть не каждый день справлялся: когда же Сергей выкатится – то есть отбудет назад?.. Напомним еще раз, что Сергей был участником «приключения на Неве». Вместе с князем Барятинским. Но, как говорил декабрист Лунин (по другому поводу): «Какая разница в наших судьбах!» Барятинский отмылся раной, его возвысили – карьера, фельдмаршал… А про Сергея Трубецкого что можно сказать?.. Ни раны не шли ему в почет, ни удаль. Сам отец, как мы помним, благодарил царя за то, что сынка перевели в армию. Потом его женили на фрейлине Пушкиной – насильно. В дворцовой церкви. (Слухи о ее поведении были самые что ни есть безрадостные.) Потом они с женой расстались – он поспешил на Кавказ… Поздней – увез от мужа молоденькую Жадимировскую – любовников нагнали, кажется, в Грузии, и его препроводили в Алексеевский равелин. Нет, вообще-то, было строгое царствование Николая Павловича, но уж не настолько, чтоб бросать в равелины за увоз чужих жен. Это была все же частная история – не политическая. И если бы всех за такие проказы заточали в равелины… Прожил Сергей недолго – после освобождения был сослан в имение, где при нем, по слухам, жила под видом экономки та самая Жадимировская. Вот все. Наверное, и впрямь несчастный был человек! На сюжет второй части его бурной биографии написан Булатом Окуджавой известный роман «Путешествие дилетантов». Там этот Трубецкой выведен вполне положительно – под именем Мятлева. И лишь где-то вскользь помянуто, что он участвовал в качестве секунданта в дуэли своего друга, замечательного поэта. Только… Его роль в дуэли Лермонтова неясна по сей день, и никто не хотел прояснить ее, и нет никаких оснований считать его другом Лермонтова.
(А про Александра Трубецкого вообще сказано в «Лермонтовской энциклопедии»: «Отношения поэта с Т. стали носить родственный характер с 1839, после женитьбы А. Г. Столыпина на М. В. Трубецкой»).[210]
За что Николай Павлович так гнал братьев Трубецких – Сергея и Александра?..
Верней всего, за пасквиль, посланный Пушкину, – больше не за что было! За пасквиль! Только мстил он, конечно, не за Пушкина – за себя. В пасквиле был задет он сам и его амурные похождения – а этого он не прощал. Потому, наверное, поначалу так слабо наказал Лермонтова. У них на минуту оказались одни враги – или один враг. А уж после Лермонтов его раздражил – что было, то было.
Но если вспомнить фразу сестры Мартынова: «друзья таки раздули ссору»… Почему в этой фразе мы слышим по сей день лишь попытку обвинения секундантов в неопытности? (Раз они могли допустить такое.) Почему не различаем другие грани и возможности ее звучания?..
Там рядом были, все знают – и вполне зрелые люди: Столыпин, тот же Сергей Трубецкой… кажется, Дорохов был – чуть не самый известный дуэлянт Российской армии – и уж точно друг Лермонтову. Сестра хочет защитить брата – это понятно. И обвиняет тех, кто подбил его на эту дуэль. Но, если вспомнить, что кто-то все время подстраивал – или пытался подстроить все лермонтовские поединки – начиная с де Баранта. …Провоцировал Колюбакина, Есакова в Ставрополе, еще кого-то. Уже непосредственно в Пятигорске – Лисаневича – который, кстати, тоже ухаживал за Надей Верзилиной. Что ж тут удивляться?.. А потом этот Некто взялся за Мартынова – и на сей раз удалось. Почему удалось – другой вопрос, и ответ, конечно – в самом Мартынове.
И еще – вокруг самой дуэли – одни сплошные выдумки. Мы говорили в самом начале о полном отсутствии истинных свидетельств и документов! Секунданты вынуждены были уклониться от признаний в участии, и вся вина и необходимость что-то объяснять легла на плечи действительно самых молодых и неопытных: Васильчикова и Глебова. Только Столыпин-Монго (это заметил Б. Эйхенбаум), находясь за границей, через два года, в Париже, в 1843 году – когда он издавал на французском переведенный им роман «Герой нашего времени», – дал такие сведения в редакционную справку к изданию: «Г. Лермонтов недавно погиб на дуэли, причины которой остались неясными…» Скорей всего, дал именно он, знавший решительно все, – больше некому было.
«Неясными», слышите? Для Монго-Столыпина они были «неясны» – почему ж они так ясны для нас?..
Заметьте, Васильчиков пытался что-то сказать о последствиях для Лермонтова «известных стихов „А вы, надменные потомки“» – и словно останавливал себя. Дважды:
«…с того дня он стал в некоторые, если не неприязненные, то холодные отношения к товарищам Дантеса, убийцы Пушкина… и даже в том полку, где он служил, его любили немногие».
«…в Кавалергардском полку, офицеры которого сочли своим долгом (par esprit de corps) при дуэли Пушкина с Дантесом сторону иностранного выходца противу русского поэта, ему не прощали его смелой оды по смерти Пушкина…»
«В 37-м все кавалергарды были за Дантеса!» Фразу, явно сказанную Мартыновым, никак нельзя приписать Васильчикову. Да не мог Васильчиков так сказать – в 70-е годы или поздней – не мог! Если б даже думал так! Это значило подмочить свою репутацию прогрессиста и либерального деятеля. Сильно подмочить! Зачем ему было идти на это?..
Гроб с надписью «Борх» на чьем-то празднестве бросил в воду Трубецкой Сергей – со товарищи. И пасквиль на Пушкина был подписан тем же именем: «Непременный секретарь Борх».
И нигде, нигде ровным счетом не сказано, что Трубецкой Сергей по вопросу о дуэли Пушкина имел какие-то иные взгляды, чем большинство офицеров его полка – все его «Красное море». Чем его родной брат – Трубецкой Александр.
«Тихий» Сергей Трубецкой, так и не всплывший на поверхность события, гонимый царем, секундант – якобы Лермонтова, якобы его друг – стоял, верней всего, серым кардиналом за громкой дуэлью Лермонтова с Мартыновым, приведшей к гибели крупнейшего после Пушкина поэта России, и всего четыре с половиной года спустя после гибели первого.
Может, был самый момент напомнить – в чем-то провинившемуся по службе Мартынову, что он кавалергард, и что-нибудь ввернуть о чести полка и намекнуть, что все может измениться… если он снимет этот плевок со знамени: «А вы, надменные потомки // Известной подлостью прославленных отцов…» – и как-то отмстить тому, кто нанес это оскорбление. Тем более что ему самому, Мартынову, нет покоя от этого приставалы, и он сам иногда готов его прибить.
Что было в сам момент дуэли, объяснялось долго и объясняется до сих пор, но правды мы не узнаем все равно.
Дуэлью якобы командовал Глебов – из тех, кто назвал себя в качестве секундантов. А из тех, кто не назвал – то есть на самом деле, вероятно, командовал Столыпин. Он был опытен в этих делах. Глебов такого опыта не имел. Он был уже заслуженный офицер, только молодой.
Противники разошлись «по крайний след». Лермонтов поднял пистолет «на воздух» – как тогда говорили. Кстати – как в дуэли с де Барантом!
Мартынов тоже медлил. И помедлил даже на счет «три». После которого или дуэль прекращается, или возобновляется. И тут кто-то из секундантов закричал – якобы не оговоренное в условиях дуэли: «Стреляйте, или я вас разведу!» И Лермонтов, вероятно, успел выстрелить в воздух, а Мартынов – в него и убил его. Вот все. Этот, катализирующий действие, возглас приписывался долго Столыпину. Со слов того же Васильчикова. В устах Столыпина эти слова сразу теряли свой роковой смысл: становились случайностью, трагической обмолвкой, волнением друга.
Но в своем «интервью» Семевскому, которое недавно было расшифровано Е. Н. Рябовым, в 1869 году Васильчиков утверждал другое: Глебов был якобы единственным секундантом обоих противников, но распоряжался на дуэли Столыпин, и будто бы Трубецкой выкрикнул то самое роковое «стреляйте!», трагически изменившее ход поединка… «Нам остается только догадываться, какие причины побудили князя (Васильчикова. – Б. Г.) со временем изменить свои показания»[211]. Речь идет о замене в воспоминаниях Трубецкого на Столыпина. Может, потому, что последнего уж никак нельзя было обвинить в недостаточно хорошем отношении к Лермонтову?
Похоже, что Васильчиков вдруг не удержался. Когда назвал имя Трубецкого. Но его намеки на друзей Дантеса и на отношение к Лермонтову ряда офицеров Кавалергардского полка – после известного стихотворения – говорят за себя сами.
И предоставим снова слово Вяземскому. Мы что-то давно их не слышали: ни его, ни старого сплетника Булгакова…
Вяземский писал А. Я. Булгакову: «В нашу поэзию стреляют удачнее, нежели в Луи-Филиппа. Второй раз не дают промаха. Грустно».
А в Записной книжке – нечто более подробное и явственное:
«По случаю дуэли Лермонтова кн. Александр Николаевич Голицын рассказывал мне, что при Екатерине была дуэль между кн. Голицыным и Шепелевым. Голицын был убит, и не совсем правильно, по крайней мере, в городе говорили и обвиняли Шепелева. Говорили также, что Потемкин не любил Голицына и принимал какое-то участие в поединке»[212].
Речь, несомненно, идет о подстроенной кем-то или наведенной кем-то издалека – одной из дуэлей прошлого.
Булгаков А. Я., в свой черед, заносил в дневник: «Удивительно, что секунданты допустили Мартынова совершить его зверский поступок. Ежели он хотел, чтобы дуэль совершилась, ему следовало сказать Лермонтову: извольте опять зарядить ваш пистолет. Я вам советую хорошенько в меня целиться, ибо я буду стараться вас убить. Так поступил бы благородный человек, а Мартынов поступил, как убийца»[213].
Старый почтмейстер эпоху знал и законы эпохи знал. Слишком много чужих писем прочитал на своем веку. Он полагал, как и мы в данном случае, что в выстреле Лермонтова в сторону или в пистолете, поднятом на воздух, не было добавочного оскорбления Мартынову (как думают и нынче некоторые исследователи). А было только выражение намерения. Сигнал противнику – что пора прекратить ссору… Что он, Лермонтов, во всяком случае – длить поединок не намерен.
Говорят, когда убили Лермонтова, старый Ермолов сказал: «Уж я бы не спустил этому Мартынову. Если бы я был на Кавказе, я бы спровадил его; там есть такие дела, что можно послать, да, вынувши часы, считать, через сколько времени посланного не будет в живых. И было бы законным порядком»[214].
Когда Лермонтов написал свое «Прибавление» – 16 строк: «А вы, надменные потомки…» – наверное, тоже можно было, «вынувши часы, считать, через сколько времени» его не будет в живых.
Две дуэли – Пушкина и Лермонтова, как ни странно, связаны меж собой, не могут быть не связаны. Они два звена в странной и страшной цепи…
11
В письмах Дантеса удивляет почти полная, однозначная пустота интересов. Он пишет о сорочках, о мебели, о сплетнях… ни одно сообщение даже о смерти кого-то из знакомых не окрашено элементарным сочувствием, жалостью, искренней печалью. Ни одной книги, кажется, не упомянуто, кроме «Истории герцогов Бургундских», – да и то на столах у других: оттого что приезжает автор книги, новый французский посол де Барант, известный историк и автор книги. Свет это занимает. Ни одного даже впечатления театрального, кроме, разве, пересказа хамской шутки с гондоном, посланным кавалергардами актрисе на сцену. Он пишет всерьез об одной своей родственнице, не слишком счастливой в браке: «плата за титул графини никогда не бывает слишком дорогой». И любовь жены Пушкина к Дантесу – это загадка. Загадка женская или загадка судьбы – неизвестно. Может, загадка жизни?.. Один из мрачных законов бытия? Так или иначе, победа Дантеса над Пушкиным – как в женском сердце, так и в светских гостиных, в светских симпатиях – была победой принципиальной и грозной в своей принципиальности. Победой новых критериев, которых держалась в тот момент элита общества.
А Мартынов, что ж Мартынов…
В своей поздней «исповеди» – мы уже говорили, – он не продвинулся на шаг – дальше их знакомства в юнкерской школе.
Он даже отдает дань Лермонтову: «Умственное развитие его было настолько выше других товарищей, что и параллели между ними провести невозможно». Но есть один момент – вроде незначащий, – на котором он останавливается подробно: «…он был ловок в физических упражнениях, крепко сидел на лошади; но, как в наше время преимущественно обращали внимание на посадку, а он был сложен дурно, не мог быть красив на лошади, и на ординарцы его не посылали… По пешему фронту Лермонтов был очень плох: те же причины, что и в конном строю, потому что пешком его фигура еще менее выносила критику…»[215]
Смутное ощущение, что в этом тайном сопоставлении внешности – фигуры своей и своего противника – а пишет это совсем не молодой, едва ли не старый человек, – скрыта какая-то тайна. Одна из тайн психологии времени – может, всех времен. А сам «он был фатоват и сознавал свою красоту и прекрасное сложение».
Есть такой комплекс неполноценности – рослых красивых мужчин. Весьма заметных в свете. Имеющих успех у прекрасного пола. Им кажется, что и прочие их качества, внутренние задатки – должны быть столь же очевидны для всех и, конечно, существуют на самом деле. И если вдруг они начинают ощущать недостаток этих качеств в себе… А если еще кто-нибудь со стороны им укажет на этот недостаток и если к тому ж это будут дамы – или кто-то значительный в этом мире… И если попутно им вдруг не удастся судьба в каком-то главном месте, где они ждали удачи, – где все говорило за то, что эта удача будет… – Тут наступает полный крах. Очень часто. И можно наступить на горло самому себе, и люди начинают совершать поступки, которых сами от себя не ждали…
Что-то заставило Мартынова уволиться из армии – верно, был проступок, не был? – по сей день неизвестно. Но крушение карьеры! Мы приводили рассказ Костенецкого – каким он видел Мартынова до отставки и каким встретил его в Пятигорске, немного времени спустя. Но он был уверен в себе – в своей значительности. Женщины не бывают столь самоуверенны, как мужчины определенного вида и строя души.
Он недоволен собой. Повторим – он блуждает по Пятигорску, злой как черт… его все раздражает. «Я понял, как надо писать, чтобы нравилось: писать надо странно!» – говорил один писатель.
Мартынов ведет себя странно – и ставит эту «странность» во главу угла. Это – новый способ привлечь внимание. Его огромный кинжал – его странность, особость. Как и весь его особый наряд. Но и это вызывает только карикатуры.
И тут является Лермонтов – поры своей короткой и бурной славы. Второе издание «Героя нашего времени». Книга у всех на руках. Вон даже царь читал, как теперь выяснилось – еще первое издание. Не нравилось – но читал. И всюду говорят вслед – это Лермонтов! Князь Голицын, который держится вообще-то наособицу, надменно, – зовет его к себе. Его зазывают к себе, волнуются его мнением. Он нарасхват. А кто он?.. Лермонтов? Маёшка, горбун. В юнкерской школе была кличка: «Маойш». Сутулый, небольшого роста. Невидный. Мартынов хорошо помнит – «…он был сложен дурно, не мог быть красив на лошади, и на ординарцы его не посылали…» И «по пешему фронту Лермонтов был очень плох»… Как такое стряслось?.. Такая разница в положении?
Хотя… «Кто скажет, что Сальери гордый был // Когда-нибудь завистником презренным?.. Никто!»
А тут этот несчастный (Маёшка, горбун!) еще лезет под руку со своими насмешками. А кто-то рядом возмущается вместе с Мартыновым. Говорит, что это нельзя так оставить (такое говорили и Лисаневичу, и Колюбакину… Раньше, должно быть, – де Баранту). Кто-то сочувствует, напутствует… А может, напоминает о чести полка например (Кавалергардского)? И даже, возможно, о том, что пора вернуться в полк, нужно вернуть уважение друзей. И что четыре года назад «все кавалергарды были за Дантеса»! (Врут! – не все. Но многие!) А «водяное общество» вокруг, в Пятигорске, как нарочно, упивается Лермонтовым. Тот устраивает бал в гроте Дианы – и даже вопреки мнению самого князя Голицына. И вообще ведет себя как хозяин и предводитель дружеского клана.
«Солёный. Нет, мне положительно странно, почему это барону можно, а мне нельзя?.. (Вынимает флакон с духами и прыскается.) …Хорошо-с, так и запишем. Мысль эту можно б боле пояснить, но боюсь, как бы гусей не раздразнить… (Глядя на Тузенбаха.) Цып, цып, цып…»
Чехов что-то понимал в дуэли Лермонтова – что-то чувствовал как художник в этой истории. Он вообще любил Лермонтова. Кроме того, его занимал сам образ дуэли. Как институции. Как действа между людьми («Дуэль», «Три сестры»). И он неслучайно придал своему ужасающему Солёному в «Трех сестрах» эту постоянную «лермонтовскую» ассоциацию…
Это всегдашнее – его, Солёного: «цып, цып, цып…» Или: «Он ахнуть не успел, как на него медведь насел…»
«Я против вас, барон, никогда ничего не имел. Но у меня характер Лермонтова… Я даже немножко похож на Лермонтова… как говорят… (Достает из кармана флакон с духами и прыскает на руки.)»
Ирина – о нем: «Я не люблю и боюсь этого вашего Солёного. Он говорит одни глупости… (Вспомним еще раз письмо Кати Быховец!)
Тузенбах. Странный он человек… Мне и жаль его, и досадно, но больше жаль. Мне кажется, он застенчив… Когда мы вдвоем с ним, то он бывает очень умен и ласков, а в обществе он грубый человек, бретёр…»
Мартынов вряд ли понял, что хотел сказать Лермонтов своим Печориным. Может, не понимал до конца – ни Печорина, ни Грушницкого. Но, возможно, он хотел показать – кто здесь Печорин, а кто Грушницкий?..
«Я позволю себе не много, я только подстрелю его, как вальдшнепа!..»
Лермонтова убил пародийный персонаж. В какой-то мере – пародия на него самого.
Убиение одного за другим – Пушкина, потом Лермонтова – в дуэли, с разницей всего в четыре с половиной года, означало, как говорят нынешние политологи, – «крушение элит». Или «элиты». «Элита» страны, которая не выносит тяжести собственных гениев, погибает сама и подводит к краю гибели все общество. Собственно, что бы сегодня ни говорили о декабре 1825-го, – крушение элиты тогдашней России началось с разгрома 14 декабря. Быстро начал меняться духовный уровень элиты. Пошло падение уровней. Наметились крушение ценностей и смена критериев в обществе…
14 декабря 1825-го одним из первых на помощь царю пришел Кавалергардский полк – во главе со смелым, честным и, верно, в чем-то недалеким графом Бенкендорфом. – Но он будет также и единственный человек, который непосредственно в момент казни на кронверке Петропавловской крепости – слабо, но выразит свой протест против второго повешения. Что, несомненно, запомнится ему в потомстве – хотя… кто скажет, что помнит сегодня еще – а что будет помнить завтра и через много лет забывчивое потомство? И главное, – что ему захочется помнить?
Почти сразу после казни на кронверке 13 июля 1826-го Кавалергардский полк устроил бал в честь нового шефа полка – правящей императрицы Александры Федоровны. Кому-то пришло в голову отмыться от этого дня. Очиститься.
И те, кто понимал что-нибудь в дворянских приличиях, мог сказать про себя, что рухнула эпоха. (Должно быть, и говорили. Но глас столь давнего времени плохо доходит до нас. Не всегда!) – Ибо в тот день не просто казнили смертью пятерых и была гражданская казнь многих людей, но погибли на виселице два бывших офицера полка: Павел Пестель и Михаил Бестужев-Рюмин. И были подвергнуты гражданской казни еще несколько его офицеров…
Именно из этого полка немного времени спустя выйдут – и Дантес, и Мартынов.
«Почему барону можно, а мне нельзя?..»
История – очень точная наука. Ее связи впечатляют.
«Цып, цып, цып…»
Санкт-Петербург 2011–2012
Плач по Лермонтову, или Белые олени
Драма в двух действиях, с Прологом
Полковник из штаба войск Кавказской линии — за 50 лет
Пушкин Лев Сергеевич — майор, 37 лет
Дорохов Руфин Иванович — прапорщик, 35 лет
Барклай де Толли — военный врач, без возрасту
Столыпин Алексей Аркадьевич (Монго) – капитан, 25 лет
Молодая дама — лет 25-ти (она же после Дама в летах)
Младшая сестра ее — лет 17-ти, но выглядит старше
Офицерик — лет 20-ти (после Г-н в летах)
Карпов — унтер-офицер, 46 лет
Тиран Александр Францевич — молодой подполковник
Пожогин-Отрашкевич — ничем не примечательный господин
Найтаки — ресторатор, без возрасту
Приезжий офицер
Игроки: 1-й игрок, 2-й игрок, 3-й игрок
Сэр Генри Миллс — полковник английской службы (тоже игрок)
Человек, пишущий письмо
Половой
Адмиральша — старуха в егерском мундире
Неизвестный — без возрасту
Человек, пишущий письмо
Юнкер Бенкендорф
Лицо с трубкой