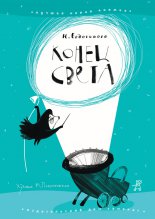Зона затопления Сенчин Роман

© Сенчин Р.В.
© ООО «Издательство АСТ»
* * *
Валентину Григорьевичу Распутину
Глава первая
Телефонный разговор
– Привет, Володь, пять минут уделить можешь?
– Да, могу… А что случилось?
– Ничего-ничего, все нормально… Идейка тут возникла одна.
– Толя, у меня от твоих идеек всегда мороз по коже…
– Да ничего страшного. Я по Красноярскому краю езжу, и тут, оказывается, есть ГЭС-недостройчик…
– Хм, у нас, если не ошибаюсь, больше десятка таких.
– Ну вот. А эта практически готова. Процентов на шестьдесят. Бросили в начале девяностых. Плотина почти закончена, машинные залы… В общем, довести до ума ничего не стоит.
– Знаю я твое «ничего не стоит».
– Нет-нет, Володь, на этот раз действительно! Вложиться, конечно, придется, но не так чтобы…
– А зачем? Нам электричества не хватает, что ли? Ты сам докладывал о мощностях…
– Смотря на что, Володь… Если рекламу и елочки расцветить, то – да. Но… Электричество можно и продавать… иностранным партнерам. Там Китай недалече, уверен, они заинтересуются.
– Китайцы сами полсотни электростанций строят.
– Ничего, им мало не будет… Алюминиевый завод поставим. Алюминий везде востребован…
– Тебе бы лишь торговать.
– Ну, без этого нельзя – рынок. А главное-то не в этом, Володь.
– А в чем?
– Понимаешь, Володь, пуск новой ГЭС, причем мощной, стратегической, – это такой имиджевый плюс! Сколько лет, типа, всё разрушали да разрушали, высасывали советское наследство, а вот теперь взяли и созиднули в конце концов. Сами, своими руками!.. А, как?
– Не знаю… Разумно, конечно…
– А то! Толя плохого не посоветует.
– Еще бы…
– Так как, принимаешь предложение?
– Хм, такие вопросы так не решаются. Не телефонный разговор…
– Да почему? Наоборот, телефонный. Для этого телефоны и изобрели… Не с грамоткой месяц скакать с берегов Енисея… Давай, Володя, так: я набросаю указ, а ты потом глянешь…
– Какой указ?
– Ну, типа, «О мерах по социально-экономическому развитию Красноярского края». И главным пунктом сделаем пуск ГЭС, строительство алюминиевого завода. Типа, это даст ощутимый толчок развитию… Человечкам работу дадим. Смотреть страшно на них. Болтаются…
– А что за место вообще? Национальный округ какой-нибудь?
– Нет-нет, русские!
– Ну, хоть это нормально. А то опять вони не оберешься: оленьи пастбища портим, традиционный уклад нарушаем…
– Это твоих нефтяников дела. У меня чисто: электроэнергия. Плотина, пруд, и погнал вырабатывать…
– Да уж… И что, переселять кого-то придется?
– В смысле?
– Ну – пруд. Знаю я эти пруды со Швейцарию.
– Там уж в восьмидесятые почти всех переселили. Осталось тысяч пять. Маргиналы да пенсы. Еще несколько колоний – специально в свое время туда на поселение отправляли, территорию под водохранилище готовить.
– И как, приготовили?
– Да говорю: почти все готово. Я бы к тебе с сомнительным проектом и не совался… Давай, Володь, дай отмашку.
– И кто будет доводить до ума?
– В плане денег?
– Ну а в каком еще?..
– Часть мое РАО будет вкладывать, часть, думаю, надо на Олежку повесить.
– На какого Олежку?
– Ну, на Баняску. Он же у нас алюминиевым королем назначен. Хочет еще алюминия – пускай инвестирует.
– Заартачится. Ему и существующих заводов хватает.
– От возможности расти никто не отказывался. Тем более можно надавить. У тебя ведь на него много накоплено. Не захочет – поедет или в Европу от дел отдыхать, или в Забайкалье куда-нибудь шить носки. Прецеденты-то есть.
– У меня на всех накоплено…
– Да понимаю, понимаю. У меня тоже, кстати… Ну, в правильном смысле… К тому же Олежек меня киданул недавно, надо, чтоб отработал.
– И что, у вас хватит собственных средств ГЭС построить?
– Достроить, Володь, до-стро-ить. Все только рады будут, благодарны. Без дураков!.. А деньги найдем…
– Угу, в госбюджете. Или в стабфонде. Алеша истерику закатит.
– Гарантирую, туда не полезем. В крайнем случае воспользуемся английским правом…
– Это что еще?
– Ну, это долго объяснять… Сложный экономический термин…
– Так-так, началось.
– Нет, Володь, никаких этих самых, как тут в Сибири говорят. Всё в рамках рыночной экономики… Алло?
– Думаю… А кому будет принадлежать ГЭС в итоге?
– А кому у нас все принадлежит, Володь?.. Все будет правильно. И Михал Иваныча не забудем.
– Но-но!
– А что, все мы люди, Володь. Ничто человеческое не должно быть нам чуждо… Но в первую очередь нужно думать об общем деле. Мы ведь хотим видеть Россию встроенной в общемировое пространство.
– У, перестань… Вообще-то, конечно, если верить твоим словам, проект интересный.
– И интересный, и полезный. Тебе, Володь, в первую очередь полезный. Войдешь в историю России… Алло, Володь, ты куда пропал?
– Что ж, можно попробовать.
– «Попробовать»… Это слово должно исчезнуть из твоего лексикона. Нужно тверже быть. «Решить», «сделать», «реализовать»!
– Все-все, перестань. И так голова пухнет.
– В общем, пишу рыбу указа, а ты Баняску подготовь. Пускай впрягается.
– Может, посоветоваться, собрать специалистов?
– Да что ж это?! Советская власть десять лет уж кончилась, а ты все – «посоветоваться». Скажи еще, политбюро собрать. Дело надо делать, Володь, а не советоваться… Ты для дела Россию на руки поднял.
– Толя, я устал тебя слушать. Даю добро, и – пока.
– Спасибо! До связи!
Глава вторая
В чужую землю
В первых числах сентября умерла Наталья Сергеевна Привалихина.
Лето проковырялась на огороде, до заморозков успела всё, кроме капусты, убрать, просушить, засахарить и засолить, спустить в подполье, а потом упала на крыльце. Долго лежала, собираясь с силами и соображая, куда ей – в избу или за ограду. Конечно, лучше в избу, лечь на койку… А если уже не поднимется? И будет лежать без воды, обмарается; а умрет, так и запахнет, весь дом пропитается мертвым. Люди-то неизвестно когда хватятся… Рано или поздно, конечно, заметят, что что-то давно ее не видать, придут, а она уж… Носы позажимают.
И потому, как немного отлегло, Наталья Сергеевна встала на карачки и поползла по двору к калитке. Куры наблюдали за ней, а петух возмущенно вскрикнул и дернул шеей… Добравшись, цепляясь за жердину, скобу ручки, она поднялась, открыла калитку, высунулась на улицу.
Этот кусочек мира был ей знаком до незамечаемости. Каждый день, больше полувека, как переехала сюда к мужу, она выходила через эту калитку со двора то за водой к колодцу, то в магазин, то выгоняла корову, то звала сначала детей, а потом внуков есть. И вроде не видела избы вдоль улицы, заборы, ворота, траву, но, если менялась хоть какая-нибудь мелочь – отваливалась штакетина в палисаднике у Мерзляковых, или наличники у Гусиных покрывались свежей краской, или скашивалась крапива вдоль чьего-то забора, – это сразу бросалось в глаза, и потом мысли долго возвращались к этой мелочи: «Надо своему сказать, чтоб подбил ограду… крапиву срезать… надо краску достать да тоже покрасить – облупилась… Через неделю покрашу – сразу не надо, скажут: “Наташка очнулась, когда другие сделали…”»
И сейчас она стояла, покачиваясь, в проеме калитки, держась одной рукой за скобу, другой – за деревянный ящик для почты (сильно на него опираться боялась – рассыплется), и жадно смотрела на эти две видимые ей избы по правую сторону, на серые глухие заборы, на красные листья черемухи в палисадниках, на темно-зеленые, почти синие шапки сосен на пригорке, где было кладбище…
Конец улицы упирался в реку, на берегу были мостки. Их каждый май ломало, корежило ледоходом, и мужики потом без ворчания, как нечто естественное, что не сделать невозможно, их восстанавливали… Женщины полоскали на мостках белье, брали воду для скотины и бани, а раньше – пока не появились насосы которые по трубам и шлангам гнали ее почти по всем дворам деревни, – и для огорода… Мужики с мостков рыбачили; раньше хорошо рыба шла – ельцов и за рыбу не считали, а радовались ленкам, хариусу. Часто и таймень попадался.
Был случай давно-давно: старуха Гусина, покойница, а тогда молодая, жулькала постирушки, а сын годовалый на берегу играл. На траве. Берег покатый, вода мелкая, заводь – течения нет… Гусина полоскала-полоскала, глаза поднимает – ребенок исчез. Бегала искала, все дно ощупала – не нашла… Мужики сбежались, до темноты чесали реку… Потом старики сказали: «Таймень утащил». И как-то все, и Гусина тоже, не то чтоб успокоились, а притихли: да, дескать, если таймень утащил, то ничего не поделаешь.
Лет пятьдесят назад это случилось, а словно года три назад. И Наталья Сергеевна сейчас почувствовала себя той почти девчонкой, которая только-только оторвалась от родителей, познала мужчину, а теперь вот, видя горе соседки, поняла, что постоянно надо быть настороже, ребенок может кануть и так – в двух шагах от матери, спокойно играющий на травке…
Потянулась кверху, чтоб увидеть реку, но не увидела. Удивилась: когда-то, стоило открыть калитку, и река поблескивала чешуей течения, слепила, а потом незаметно скрылась с глаз – перестала Наталья Сергеевна встречать ее взглядом. То ли бугор улицы перед спуском подрос, то ли она сама уменьшилась в росте, согнулась так, что хоть затянись – не вытянешься.
«Хоть бы прошел кто», – просила, чувствуя, что силы снова кончаются, ноги гнутся и скоро перестанут держать.
Не то чтобы у нее что-то болело, лопнуло, оборвалось внутри, как это, знала, слышала, бывает перед смертью у многих стариков. Не раз приходилось сидеть у коек с умирающими, и те обстоятельно, с досадой и увлечением делились последним опытом: «Шла по огороду, и гляжу – из морковки лебедина торчит. Вчера еще как не было, а тут прям будыльё. Ну и наклонилась выдернуть. Да неловко, походя. И в глазах черная вода разлилась, в уши как затычки воткнули. И – всё. Не помню, как сюды принесли, уложили. Теперь уже всё, уже не подняться. Не подняться… Черт пихнул эту травину увидеть». Или такое: «Не лежала ведь душа выходить, да делать-то нечего – надо лесины эти ошкурить было… Эх, дорого они мне стали. Вот и они лежат, и я…»
Нет, боли или обрыва она не чувствовала. То есть – побаливала, конечно, спина, колени, над висками покалывало, дышать было трудно, и при каждом вдохе в груди словно бы хрустело. Но это все привычное, все это болело и хрустело давно. А вот слабость…
Слабость была новая, необычная, полная какая-то слабость. Как вышло что-то изнутри важное, необходимое, то, что заставляло семьдесят с лишним лет шевелиться. День за днем, день за днем… И сейчас даже шагу не шагнешь, руку не приподнимешь. И, знала, никакой фельдшерицын укол, как раньше, уже не поможет.
Стояла между двором и улицей десять минут или час. Не было больше у нее того органа чувств, который меряет время. В голове крутился плотной спиралью вихрь не мыслей, не воспоминаний, а каких-то обрывков, ошметков… Вот стало очень обидно, что капусту не успела убрать, засолить. Уже и терку достала, и кадка готова – осталось только ошпарить и спустить в подполье обратно… Два ведра мелкой морковки намыла, теперь издрябнет, пропадет… Пугала мысль, сообщат ли детям, внукам, брату, чтоб ехали хоронить. Адреса под клеенкой на кухонном столе – соседи должны догадаться, найти – у многих под клеенками важные бумаги хранятся… И в телефоне есть номера, телефон на буфете… Разберутся… Но как им, детям, внукам, ехать такую даль?.. Брат рядом, в Кутае, а эти… Одна дочь в Новосибирске, другая – в Томске, сын так и вовсе в Перми живет… И ведь сын с младшей дочерью приезжали в июле, часть своих отпусков здесь прогостили. А теперь – опять…
Но самое тяжелое было то, что не знала Наталья Сергеевна, где она ляжет. Вон оно, кладбище, за задами дворов напротив, на нем и муж, и вся его родня, а решат ли ее там же хоронить…
Услышала шаги, и тут же из-за забора вывернул мальчик. Наталья Сергеевна не узнала, кто это, чей, а он обернулся и сказал:
– Здрассте, баб Нат!
Она хотела сказать ему, чтоб позвал кого из взрослых, но вместо слов из горла выдавился слабый, почти неслышимый шип. Как из сдутой резиновой лодки остатки воздуха… Решила оторвать руку от почтового ящика, махнуть, подозвать к себе, и пока решалась, мальчик оказался далеко. Шел к реке.
Наталья Сергеевна смотрела ему вслед, велела взглядом оглянуться опять, велела услышать, что ей плохо, помощь нужна… Мальчик стал срезаться – исчезли ноги на спуске, поясница, и вот уже голова. Пуста улица, слепы окна избы Мерзляковых, зажмурилась закрытыми ставнями изба уехавших Гусиных… Колени Натальи Сергеевны подломились, как трухлявые жердины на сучках, и она повалилась на землю.
В деревне давно никто не умирал. Стариков увозили в город в больницу, и они умирали там; молодежь, что раньше дралась, тонула, травилась спиртом или билась на мотоциклах, разъехалась.
Но в таком существовании без смертей, без похорон было что-то неправильное, и потому народ хоть и горевал по Наталье Сергеевне, но и оживился. Старухи спорили, кто обмоет и нарядит покойницу, старики чуть ли не всем колхозом сошлись делать гроб. Женщины обсуждали готовку поминок. А могилку отправились копать аж восемь мужиков… В общем, вся деревня засуетилась, заспешила, чтоб к приезду детей и внуков Натальи Сергеевны все было готово.
Утром мужики сошлись у привалихинских ворот, подточили лопаты, топоры, перекурили; со двора слышались женские голоса:
– Окна нельзя открывать!.. Травы надо подложить!
– Какую траву-то кладут?..
– Чабрец, помню… Помните, тёть Тоне чабрец клали.
– Не забыть кого-нибудь за пихтой послать! Пускай наломают…
Мужики слушали и грустно улыбались.
– Да, пихту надо, – согласился Леша Брюханов, сорокалетний, крепкий, работавший на дизельной электростанции.
– Пихту завтра уж, свеженькой, – сказал дядя Витя, школьный трудовик. – Ну чего, поднимамся?
Покряхтывая, сопя, словно бы через силу, встали, отряхнулись и пошли наискосок через улицу. Остановились у колодца, набрали воды в пластиковые бутылки…
Между дворами Мерзляковых и Гусиных был проулок, ведущий к кладбищу… Покойников возили центральной дорогой, делая полукруг, обязательно приостанавливаясь у реки, будто давая покидающему мир возможность попрощаться; в будни же ходили на кладбище вот так, проулком.
Но редко теперь ходили – тропка почти исчезла, справа и слева сдавливала пространство подсушенная заморозком, но еще живая, злая крапива.
Идущий впереди Брюханов рукой в верхонке ломал лезущие в лицо стволья, остальные кто ногами, кто лопатами тоже расчищали путь – знали: уже сегодня потянутся на кладбище женщины, старухи. Попроведают родню, расскажут, что скоро пожалует к ним тётка Наталья.
Кладбище на пологом, долгом увале. Песок, высокие сосны, а среди них – могилки. Хоронили без тесноты, внутри просторных оград, где лежат прадеды, деды, отцы… Очень старых памятников немного – до тридцатых годов кладбище было в другом месте, почти в центре деревни, рядом с церковью. Но потом похороны там запретили, а в пятьдесят каком-то году церковь сломали, захоронения частью перенесли сюда, частью просто уничтожили. Старое кладбище сровняли с землей, разбили скверик и поставили памятник павшим на войне.
За перенесенными под сосны могилками мало кто ухаживал – все-таки до десятого колена свою родову помнят единицы. В основном памятники как свезли в кучу, так они и лежат, поросшие мхом. Но несколько гранитных крестов со старого кладбища выделяются. Так тщательно они отшлифованы, что до сих пор слепят, как зеркало, никакой мох с лишайником на них не приживается… Говорят, делали их мастера в Енисейске, и за большие деньги местные, кто мог, конечно, покупали, трудно везли сюда. Обычно везли зимой, по льду, но самые нетерпеливые и летом – на лодках, вверх по течению.
До сих пор дожила то ли быль, то ли легенда, как богатый мужик Кибяков побожился поставить крест на могиле жены на год с ее смерти. Совсем недалеко уже от села, на порогах, лодка перевернулась, гранитный крест утонул. Долго люди пытались обвязать его веревками и вытянуть. Недели две бились, заболели от частого ныряния, а когда стало ясно, что останется крест на дне, Кибяков прыгнул в воду и не всплыл. Искать не стали – унесло течением к Енисею или под корягу забило, на корм налимам…
Кладбище огорожено кое-как – по две-три жердины прибито к соснам. Главное, чтобы скотина не зашла, не истоптала холмики, не терлась боками о памятники. Раньше, случалось, после похорон приходилось караулить свежие могилки – лезли сюда медведи, видимо, учуяв тлен. Задом кладбище выходило к мокрому логу, богатому голубикой и смородиной, а за логом начиналась настоящая – темная, непролазная – тайга. Но в последние годы медведи и прочее зверье к деревне не приближались – словно знали, что скоро ничего здесь не будет. Лишь стоячая кислая вода с червивой рыбешкой…
Отворив легкие, из арматурин сваренные ворота (ворота и два бетонных столба выглядели солидно, а дальше налево и направо – неошкуренные жердины меж стволов), мужики вошли на территорию кладбища и сразу притихли, мысленно здороваясь с покойниками.
Отовсюду на них смотрели пожилые, молодые, а то и детские лица. И у всех на этих овальных карточках взгляд был одинаковый, будто специально фотографировались на могильный памятник. Даже Витька Логинов, улыбающийся во все зубы, смотрел, казалось, печально, прощально и как-то жутко, как звал… Брюханов наткнулся на его глаза, скорей отвернулся. Они были друзьями, школу вместе окончили, потом техникум, вместе начинали работать, и Витьку убило током в двадцать четыре года. При Брюханове убило… Прошло с тех пор почти двадцать лет, Брюханов ощущает себя еще молодым, а Витьки так давно нет, столького не узнал, не увидел, столькому не порадовался. И жениться даже не успел: «Погулять надо, опыта набраться».
– Ну, чего, где привалихинская оградка, знает кто? – грубовато, излишне громко спросил Брюханов.
– Да где-то тут, – ответил плотник Афанасий Иванович, наоборот, тихо, уважительно к мертвым, – недалеко от ворот. Они ж тут старожилы.
Остальные в этом «тут» услышали не «деревня», а «кладбище»… Да, Привалихиных лежит много. Еще со старого кладбища перенесли сюда дядю мужа Натальи Сергеевны – красного партизана. Вокруг его большого высокого обелиска стали селить на вечный покой жену, братьев, сыновей, дочерей, племянников, а завтра вот ляжет и Наталья Сергеевна. Наверное, последней в этой оградке.
Мужики разбрелись было искать, но дядя Витя тут же позвал:
– Наше-ол.
Собрались снова. Постояли молча, привыкая к месту. Да и некуда было торопиться, не принято торопиться на кладбище.
Афанасий Иванович закурил; за ним закурили остальные. Посматривали на памятники, кресты, сохранившиеся тумбочки с жестяными звездочками, старались не встречаться взглядом с покойниками. Оглядывались.
Сосны были высокие, нечастые, но кронами почти смыкались друг с другом, и у земли всегда держалась тень, прохлада. Нет, бывала и удушливая жара, но для этого нужно, чтоб пекло и пекло много дней подряд. Сейчас же – хорошо. Свежо. Вкусно пахло вызревшими, умирающими травами, гулял слабый ветерок. Возле некоторых могилок росли рябины, елочки, никак не могущие окрепнуть без солнца. Пестрели искусственные цветы, покрашенные лавочки, столы… Как огромная общая комната, и вершины сосен – как свод.
Тихо в этой комнате, лишь бьет где-то дерево дятел, но этот острый звук только подчеркивает великую, торжественную тишину.
Леша Брюханов отчего-то занервничал, бросил на землю окурок, придавил ботинком. Сказал:
– Что, давайте. Надо все-таки…
– Да надо, конечно, – вроде с облегчением, что не он заговорил первым, поддержал дядя Витя; пошел туда, где лежал муж Натальи Сергеевны.
Теперь постояли перед его могилкой, глядя на фотографию, читая короткую надпись: «Привалихин Денис Степанович 9.07.1935 – 11.08.2002». Надпись была выбита на мраморной плашке, привинченной к металлическому, выкрашенному серебрянкой памятнику…
Семь лет назад умер, а казалось, что совсем недавно, только что видели его, насупленного, шагающего к своему двору от реки, насупленного независимо, был ли мешок полон рыбы или пуст. Или обкашивающего зады огорода, или курящего вечерами на лавочке у палисадника… Да, живо вспоминается, а вот – семь лет.
Но если начать перебирать в голове события, то столько всего за это время произошло… Да не «столько» по сути, а одно: когда умирал Привалихин, деревня была крепкой, цветущей, забывшей об угрозе гибели, которая накатила в восьмидесятые, а потом отступила; теперь же обречена она, остались ей месяцы, в лучшем случае – год…
И Денис Степанович смотрел на мужиков своим обычным, слегка сердитым взглядом, а им казалось, что взгляд спрашивает: «Ну и чего? Чего делать-то будете? Оставите нас одних?» Да-а… Через десяток лет пообвалятся без ухода памятники, оградки, а потом зарастет все кустами, и сгинет кладбище с лица земли, как и не было.
Некоторых покойников забрали родные еще лет двадцать пять назад, когда в первый раз наверху было просчитано, что будущее водохранилище затопит место, где стоит деревня. Самые активные стали тогда переезжать и прихватывали кости родителей, бабушек-дедушек… Если побродить, наткнешься на присыпанные сухими иголками углубления – это следы разрытых могил.
Но потом власть в Москве поменялась, строящуюся электростанцию забросили. О переселении разговоры заглохли, некоторые даже вернулись на родину из шумного мира. А вот теперь – бац! – и опять: строительство решено завершить, в зону затопления попадают такие-то «сельские поселения». В том числе и их Пылёво.
– Где копать будем? – спросил самый молодой из пришедших, Коля Крикау, в позапрошлом году вернувшийся из армии и теперь все думающий, что ему делать: ехать ли куда-нибудь, и, если ехать, куда. – Справа, слева?
– Жену вроде тут ложат, – отозвался дядя Витя, – справа от мужа.
Брюханов отошел, посмотрел, как у других. Вернулся, кивнул:
– Да, в основном так.
– Но тут сосна рядом, корни будут…
– Что ж делать, топоры есть, а главный корень, может, обойдем… Ладно, давайте приниматься.
Брюханов и знающий толк в копке могил – много раз в свое время участвовал – Глухих, из-за бесшабашности до полтинника оставшийся Женькой, стали резать лопатами прямоугольники дерна. Коля Крикау поддевал прямоугольники совковой лопатой, относил в сторону. Остальные присели кто на кукырки, кто на зад – ждали своей очереди поработать.
В избе Натальи Сергеевны тихое, шепотливое оживление.
Покойница лежала на столе уже обмытая и одетая в то, что сама себе приготовила: соседки без труда нашли сверток с нужным в верхнем ящике комода.
Ждали гроб, и место для него освободили посреди большой комнаты, поставили табуретки. Зеркала и телевизор прикрыли черными платками. На комоде лежали принесенные свечки – тонкие, купленные на развалинах церкви в Кутае.
Прошлым летом там, в бывшем райцентре, состоялось грустное торжество – «Прощание с селом» называлось. Вроде бы только с Кутаем прощались, но съехались туда многие и из окрестных деревушек, прибыли и те, кто жил в нынешнем райцентре – в городе Колпинске, в Енисейске, Лесосибирске, Красноярске, а то и еще дальше.
Были выступления народных коллективов, речи руководства района, края, известных уроженцев. В сумерках полетели в небо ракеты салюта…
На «Прощание» приехал и священник, провел поминальную службу на руинах Спасской церкви. Верующие, да и неверующие подходили под благословение, покупали свечки и прилепляли на орнамент уцелевших церковных стен. Многие унесли, увезли свечки с собой.
И вот теперь четыре из них, сбереженные, лежали на комоде и ждали, когда их зажгут у гроба покойного человека.
Как и надеялась Наталья Сергеевна, молодежь разобралась в ее телефоне – нашла номера детей. Сходили к конторе, где лучше ловилось, позвонили. Сообщили и брату в Кутай…
Ближе к вечеру – через сутки после смерти тётки Натальи – сделали гроб. Женщины обтянули его красной материей, которая хранилась в клубе еще с советского времени.
– Ну и запасы! – посмеивались старики, наблюдая, как доски прячутся под кумачом. – На флаги с лозунгами завезли, а мы уж третий десяток годов домовины украшаем. Спаси-ибо советской власти, хоть что-то доброе оставила.
– Да много доброго! – заспорила одна из самых боевитых в деревне старушек, Зинаида, когда-то передовица и активистка. – До сих пор дорастаскать не могут. – Но опомнилась, что сейчас не до того, сунула пустую иголку внучке: – Нитку вставь поскоре, я застебаю. Пора уж Наташу уложить да посидеть…
– Лапшу-то кто делат? – спросила другая старуха, Фёдоровна, старшая из большого рода Малыхов, которых чуть не четверть деревни.
– Да Валентина с Галиной Логиновы взялись.
Фёдоровна нахмурилась, повспоминала и сказала с сомнением:
– Не знаю, чё они накатают, никогда их лапши не ела…
– Вот что полотенец нет – это беда. На полотенцах гроб спускать надо.
– В магазине-то нету?
– Не-ету. Там всё резаные. Носовые платки, а не полотенца.
– Тогда хоть веревки нормальные подобрать. Не синтетику эту…
Почти не было в Пылёве изб – а их, жилых, оставалось около сотни, – где бы как-то не готовились к завтрашним похоронам, поминкам. У одних находилось в леднике мясо на котлеты, другие вызывались дать петушка (а из ранних выводков петушки как раз в тело вошли), третьи объявляли, что кисель сварят, четвертые – что блины напекут, пятые – кутью приготовят… Отец Коли Крикау, пасечник, налил двухлитровую банку свежего меда…
Люди были довольны собой, соучастием в общем деле. А главное, что там, наверху, Наталью Сергеевну отпускают без мытарств… Ее осмотрела фельдшерица и записала: «Тело хронически больной, без признаков насильственной смерти, вскрытие не требуется», – свидетельство о смерти, пообещала, будет в ближайшее время… Своего участкового в деревне не было – то есть он был на несколько деревень, жил в Кутае. И когда ему дозвонились, вопросов у лейтенанта не возникло: «Понятно – старый человек, что ж делать… Соболезную». И все.
Председатель сельсовета Алексей Михайлович Ткачук в тот момент лежал в больнице в городе, а кроме него никто не решился поднимать вопрос о месте похорон. Да и председатель, будь он здесь, может, тоже не стал бы убеждать, что лучше везти в город, не стал бы ломать этот объединивший людей порыв…
Принесли наконец-то гроб. Крышку прислонили к забору на то место, где была щель для почты, и красное пятно на сером фоне било по глазам проходивших мимо, заставляло вспомнить о покойнице, о том, что вот как оно – жил-жил человек, и нету. И со всеми так будет. Но, даст бог, так же проводят.
Общими усилиями переложили Наталью Сергеевну, поправили подушечку, подоткнули покрывало. Тихо порадовались, что покойница твердая, прохладная – по приметам, это хорошо, довольна, значит.
Потом сняли с кровати перину, на которой умерла хозяйка, отнесли в стайку, повесили на куричьи шестки. Те, старые, пересохшие, скрипнули.
– Не сломаются?
– Вы-ыдержат. Но сдвинуть надо на край, там надежней.
– И курицам спать место останется.
– Пускай петушок отпоет…
Уже когда вышли на воздух, баба Зина сказала:
– Надо прикрыть перину-то. Загадют курицы.
Нашли в летней кухне аккуратно свернутый кусок целлофана, растянули поверх перины.
– Ну вот, так лучше. Перина еще добрая.
– Может, кто из их заберет…
– Им много чего бы забрать надо. Как только вывозить будут?..
Говорили, не называя, о детях Натальи Сергеевны.
– Уж бы сами успели. Не представляю, как доберутся. Вертолет-то им под такое дело не выделят, а паром только в четверг…
– Не-е! Эт не старое время, когда вертолет по любой мелочи.
– На моторках, скоре всего, – предположил старик Мерзляков. – В городе целый бизнес ведь с ими…
– В городе – х-ха! От города до реки там километров пятнадцать!
– Ну, на берегу… Я не был, не знаю.
Отец Коли Крикау, весь день бродивший от двора, где делали гроб, до привалихинской ограды, но ни в чем не принимавший участия, – как-то потерянно наблюдал за работой, суетой, – весь день промолчавший, в конце концов не выдержал:
– Еще одна изба – на погибель.
Сказал это так, что все замерли, сжались. И несколько секунд стояли так, словно оглушенные, а потом стали торопливо расходиться. Одни направились к крыльцу, другие – к калитке. Лишь старик Мерзляков, запоздало, правда, попытался заспорить с горькими словами Крикау:
– Сын-то у Натальи пенсионер уже – он же на Севере был. Может, решит вернуться.
– Куда вернуться! – взвился Крикау, найдя повод выплеснуть то, что носил в себе от одного двора к другому. – Куда?! Тут нас самих скоро!.. В баржу – и подальше.
– Ну, давно переселеньем пугают, и тридцать лет назад пугали. А вот живем…
– Как на углях живем! Всё поразрушили – ни лесхоза с тех пор, ни какой работы.
– И слава богу. И так всё изгадили. Я вот своим хозяйством живу, и ничего мне не надо. Леспромхооз!..
– Да не будет у тебя скоро хозяйства! Сунут в четыре стены…
Двое стариков, но еще крепких, напоминающих шишковатые листвяжные столбы, стояли в узком проходе меж стайками и дровяником, посылали друг в друга дрожащими голосами эти пустые, по сути, слова и с каждым словом все больше озлоблялись. Готовы были жахнуть один другого по уху, видя сейчас один в другом врага. Так же пойманные звери, обежав несколько раз ловушку и не найдя выхода, начинают грызть друг друга.
Но разум остановил, и, сердито сопя, сильнее прежнего переваливаясь с боку на бок, старики пошли в разные стороны. Крикау – на улицу, а Мерзляков – в огород. Сначала пошел туда, чтоб просто не сталкиваться больше с Крикау, но, когда увидел землю, появилась цель: приедут наследники, и нужно осторожно как-нибудь узнать о планах; если не захотят здесь селиться, то предложить засадить огород его, Мерзлякова, картошкой. Ведь если бросить землю, то года через два-три затянет ее пыреем, пашня начнет возвращаться к целине…
Картошка уже много лет была основным заработком местных. Перед шугой проходила по реке баржа и скупала картошку. Сейчас у Мерзлякова в амбаре, прикрытые от холода и тепла брезентом, мешковиной, стояли наготове тридцать пять кулей. Если цены остались прошлогодние, то это пятьдесят тысяч рублей примерно… Раньше и морковку, свеклу, капусту скупали, но потом что-то бросили… Еще бруснику можно продать, орехи, конечно. Грибы. Голубику… Шкурки… Край у них тут добрый, голодать не даст. Пошевелись немного – и найдется тебе пропитание, возможность получить пачечку денег.
Дерн был тонкий, сантиметров пять – семь, а ниже шел почти голимый песок. Лишь вокруг корней наросли полоски чернозема, будто сами корни протолкнули питательные комочки туда, в светло-серую подземную пустыню.
Слой песка опускался метра на полтора, потом начиналась влажная, жирная почва с редкими камешками.
– Отсюда сосны и питаются, – сказал дядя Витя, заметив, что Коля Крикау с интересом мнет пальцами содержимое своей совковой лопаты.
– Как масло… И камушки как речные… Это что, раньше здесь, что ли, дно было?
– Получается, так.
– Хе-хе, – усмехнулся Брюханов, – раньше везде было дно. «Анимал планета» у вас ловится?
– Ну да… Но одно дело – телевизор, а другое – вот так… Гора, река вон она… а – дно.
– Следы великого потопа, – философски заметил Геннадий, тракторист, ленивый, точнее, не любящий работать руками. И сейчас он пришел лишь с топориком для обрубания корней, но так и не пустил его в ход, уступив рубить встретившийся корень другому.
Упоминание о потопе было к месту, и все уважительно закивали. Примолкли, видимо, стараясь представить время, когда вся земля или, может, большая ее часть была под водой… Но Геннадий сам разрушил эту уважительную к своему замечанию тишину следующими словами: