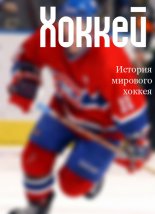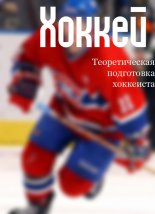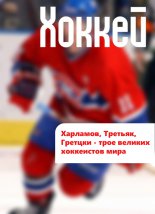Дети войны. Народная книга памяти Коллектив авторов
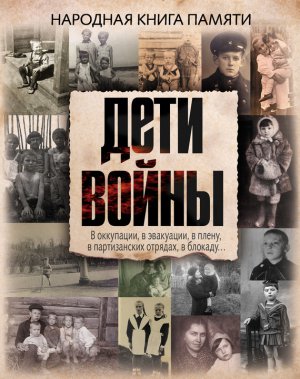
Эвакуации касплянских учреждений (а ведь это был район) как-то не было видно. Просто в один из дней все учреждения распустили, а все оборудование осталось на месте, как будто сотрудники ушли на обед. Говорили, что руководители района ушли в партизаны, а чиновники сидели дома, в своих семьях, так же как взрослые комсомольцы. В Каспле при эвакуации не нашлось организующей, направляющей руки. Было впечатление, что все действовали по принципу – спасайся кто как может. После, когда угнали всех мужчин, Каспля замерла. Оставшиеся семьи, забрав скотину и некий скарб, просто отошли в близлежащие деревни и там отсиживались.
Эта неорганизованность районного начальства, бросившего на произвол судьбы многих людей, и привели впоследствии к страшной трагедии касплян. Оккупационные органы начали постепенно по ночам арестовывать этих людей и сажать в тюрьму, в бараки больницы, в полицию. Начались следствия, аресты. Сначала брали только мужчин, позднее стали брать и их семьи. Из-за скрытости или по какой-то другой причине, но массового ухода в лес в партизаны не было. Этим же можно объяснить, что на первых порах про партизан мало кто знал, да и авторитет их был невысок. Фактически народ был оставлен, как говорят, на произвол судьбы.
К началу Великой Отечественной войны старики Елисеевы были уже в глубоких годах, за семьдесят. Дед Сергей – богатырского роста, с большой белой как лунь окладистой бородой – отличался, как все лесные жители, медлительностью, спокойствием, стариковской мудростью. Всю свою жизнь он прожил в лесной деревне Чаче, окруженной с трех сторон лесом и находящейся в 18 км от районного села Каспли.
Его старуха Тотя, как ласкательно все ее звали, прожила долгую жизнь. Нарожала ему семь сынов-богатырей, в том числе моего отчима – Тараса Сергеевича, да двух дочерей – старшую Марьюшку и Нюрку-невесту. Семья была дружная, жили все в одной большой хате. Все были работящими лесовиками и крестьянами. Они могли все: и дом срубить, и хлеб растить. Самой первой выдали замуж Марьюшку – в деревню Желуди, за Чачу, в еще большую лесную глушь, там было всего 3–4 дома. Старших сыновей Мишку, Гришку и Павла перед войной призвали в армию, они стали кадровыми военными. На войне уцелел только Григорий – грудь вся в орденах. В деревню он уже не вернулся, а осел в Смоленске. Павел и Михаил погибли на фронтах лихой войны.
Мой отчим, Тарас Сергеевич, жил в Каспле, как тогда говорили, в примнях. Со стариками жили еще трое малолетних сыновей, их в армию не забрали. Когда началась война, эти трое сыновей подались в партизаны – они были у них совсем рядом. Звали их Василь, Санька и Ванька. Они ходили героями и гордились своим партизанским положением. Одна дочь перед самой войной смогла уехать к своим родным в Челябинск, на работу.
Фактически вся большая семья Елисеевых разбрелась, и старики под старость оказались одни. А тут, как назло, стали их донимать разные болезни. Поэтому не раз до Тараса Сергеевича доходили просьбы стариков – мол, прислал бы хоть каких-то лекарств, пузырьков и таблеток. Сам Тарас боялся ехать в партизанский край – могли ни за что убить и партизаны, и немцы, а он был в семье кормильцем. Посовещавшись с матерью, они решили, что лучше съездить в Чачу мне, пацану, – дескать, что с меня толку.
Тарас Сергеевич выпросил у начальника управы Наронского коня и сани на два дня – мол, старикам отвезти лекарства, они, дескать, при смерти. «Смотри, Тарас, прибьют твоего возчика в такой дальней дороге!» Но Тарас был по натуре оптимист. Запряг хорошего коня в сани да на сани положил сплетенную из лозы по контуру саней полость, кинул в сани большую охапку соломы, под нее положил мешок с передачей – гостинцы старикам, как он говорил. И в один из ясных морозных дней отправил меня на свою родину в деревню Чачу. Справедливости ради следует сказать, что он сходил в комендатуру и выправил мне «аусвайс» (пропуск) из Каспли в Чачу. Этот пропуск впоследствии спас мне жизнь.
Меня тепло одели, посадили в сани, и я поехал. Сперва лошадь бежала рысцой, а как притомилась – пошла шагом. Из Каспли я выехал удачно, доехал до Язвищ, где был немецкий опорный пункт. Тут у меня уже начались задержки. Немцы были удивлены, что пацан из Каспли едет прямо в пасть партизанам, где мне будет «капут», как говорили. Но я вспомнил про бумагу, показал им. Они долго вертели-крутили ее. Наконец старший выругался, и, бросив что-то типа «черт с ним!», меня пропустили. На пути было еще две больших деревни – Яшино и Хохлово. Их я проехал без особых историй, так как в это время там не было ни полицаев, ни немцев.
Уже в сумерки я подъезжал к родине отчима – Чаче. Дом стариков Елисеевых стоял с краю, и я прямо с дороги въехал к ним во двор. Сказать, что дед Сергей и баба Тотя удивились, – это ничего не сказать. У них отвалились челюсти. Они некоторое время не могли говорить и только мяли и давили меня, одетого, когда я вошел в их хату. Наконец, первым отрезвел от испуга дед.
– Костик, неужели ты проехал такую дорогу и тебя не убили немцы и не разорвали волки?!
А мне, действительно, пришлось долго ехать по лесу, где заунывно выли голодные волки.
– Не знаю, дедушка, как. Но вот утром выехал, а к вечеру, как видишь, прибыл, да еще привез вам какие-то гостинцы.
Дед накинул на плечи полушубок и пулей вылетел во двор. Там он распряг коня, отвел его в сарай, дал сена, втолкнул сани подальше – спрятал и вернулся в хату. Старики с большим интересом развязали привезенный мешок, нашли каракули – записку Тараса и разные лекарства: йод, бинты, вату, какие-то пузырьки с касторкой (старик страдал запорами), еще что-то из таблеток, порошков и так далее.
Радости стариков не было предела. Разобрав все и спрятав так, что потом и сами не могли сразу найти, наконец занялись мною. Расспросили обо всем, очень были довольны Тарасом, что он устроился на такую хорошую должность конюха да еще давали и какой-то паек. Общим разговорам не было конца. Мы и не заметили, как потемнело в избе и на улице.
Дед с бабой о чем-то долго шептались, даже спорили, потом объявили мне свое решение: «Знаешь, Костик, мы решили, что ночевать мы тебя отведем в другое место – через хату. Там живут Прокоп со старухой. Мужик он хороший, у него и переспишь. К нам частенько заходят из лесу ночью партизаны. Ты ведь знаешь, что и три наших сына с ними. Зайдут, обнаружат тебя и начнут допрос, кто да что, зачем пожаловал. Им же, бестиям, не докажешь, что ты просто от Тараса приехал проведать стариков. Могут забрать с собой, а могут и во дворе шлепнуть. У них, брат, рука крутая, не хуже немцев. Так что пойдем, дед тебя туда отведет. Ты там спокойно переспишь, а утром приходи – мы тебя отправим назад. Так будет спокойно и нам, и тебе. Да ты не бойся, не зайдут они в ту хату – у хозяев в партизанах никого нет. Это у нас целая орава: как придут – так и одень потеплее, и накорми. Но ничего».
Дед Сергей помог мне одеться и очень осторожно, задворками проводил к той хате, постучал: «Открой, Прокоп, свои!» Они поговорили о чем-то, показывая на меня, у которого от такого гостеприимства уже поджилки тряслись. Дед Сергей ушел. Хозяева меня положили на лоснящуюся от старости широкую лавку, сказали «спи», а сами сели у окна и затихли. Сколько проспал – не знаю, но проснулся от слов стариков «идут, идут!».
Я подошел к занавешенному окну и увидел, что по освещенной луной улице, мимо дома шла группа людей, все больше в черной одежде, но были и в белых маскхалатах. В руках у них были короткие автоматы, на плечах висели винтовки. Вся группа – человек 10–15 – прошла быстрым шагом в начало деревни. И мне, и хозяевам было уже не до сна. Мы стояли у окна и ждали, когда партизаны пойдут назад, к себе в лес. Ожидать пришлось долго – часа 2–3, не меньше. Наконец, на дороге заскрипел снег, и мы увидели, что вся эта группа возвращалась по улице в сторону леса. Когда они прошли мимо, старики перекрестились: «Ну, свят твой ангел-хранитель, что не зашли и что пронесло! Ложись и на печке поспи еще. Потом мы тебя разбудим, и пойдешь к своим». Тяжелая дорога днем и ночные передряги свалили меня, я заснул.
Утром меня разбудили, и я вернулся к своим деду и бабе. Дед сказал: «Хорошо, Костик, что ты не ночевал у нас. Ведь приходили партизаны. Ели, отдыхали, переодевались – часа два были и ушли. Уж мы так за тебя боялись! Не дай бог, набредут на лошадь да спросят, чья, что и как! Давай скорее завтракай и езжай. День-то зимний короток, а дорога длинная». Пока я завтракал на скорую руку, дедушка Сергей уже снарядил мне в дорогу коня. Я попрощался, сел в сани, дедушка вывел меня за околицу Чачи, и я поехал.
Я подошел к занавешенному окну и увидел, что по освещенной луной улице, мимо дома шла группа людей, все больше в черной одежде, но были и в белых маскхалатах. В руках у них были короткие автоматы, на плечах висели винтовки.
Первую деревню от Чачи – Жарь – я проехал без приключений. Да и деревня-то – всего три дома утопали в низине. Потом я поднялся на холм, на нем стояла большая деревня Яшино. Она тянулась вдоль дороги версты на две. Ее я тоже проехал спокойно, небольшой пролет – и снова начиналась большая деревня Хохлово.
Как только я проехал два-три дома, на дорогу стали стекаться немецкие автоматчики. Они что-то громко болтали, щупали коня, дергали сани, сбрую.
Одному из фашистов, видимо, очень понравилась лежащая во все сани плетеная полость. Он бегал кругом, дергал ее, приподнимал, а я сидел ни живой ни мертвый. Наконец, промямлил, что я «фарен нах хаус». Немецкая фраза как-то немного остепенила немцев, но положение было тревожное. Тут из одной из хат вышел офицер, грозно бросил «вас ист дас?» (что случилось?) и, плохо говоря по-русски, спросил, что я за пацан, откуда и куда еду. Плача и заплетаясь языком, я кое-как объяснил ему, что ездил проведать старых деда и бабу, а сейчас еду домой в Касплю. И тут, наконец, я вспомнил про бумагу (пропуск), долго вытаскивал ее и подал немцу. Тот вертел, крутил, разглядывал ее со всех сторон и в конце концов бросил ко мне в сани и гаркнул, махнув рукой солдатам, мол, пропустите. Я, без ума от радости, дернул вожжи, хлестнул лошадь и медленно стал выезжать из галдевшей толпы немцев. Ну, думаю, пронесло! Спасло меня, как потом оказалось, только это удостоверение – пропуск, выправленный Тарасом Сергеевичем у немцев.
К вечеру, без больших приключений, я въезжал в Касплю. Когда я подъехал к своему дому, из него вышла мать вся в слезах, а Тарас Сергеевич захлопотал вокруг лошади, радуясь, как ребенок. Старики прислали Тарасу две большие круглые буханки черного хлеба и здоровый кусок деревенского сала, которое Тарас очень любил. «Ну, Костючек, а мы уже, грешным делом, думали, тебе „каюк“. Или партизаны застрелят, или немцы ухлопают». «И надумал же, дурень, – ругалась мать на отчима, – парнишку на верную смерть отправить из-за буханки хлеба да куска сала!»
– Видел ли ты, Костик, войска?
– Да, когда проезжал Хохлово, вся деревня была занята немцами, обозом, и даже стояли между домами четыре больших танка.
– Оказывается, из Смоленска прибыл карательный отряд, и он пошел на партизан. Счастье твое, что тебя пронесло!
Так оно и оказалось. Как только я уехал, рано утром, на рассвете, каратели дошли до Чачи, окружили ее и подожгли со всех сторон. Тех жителей, кто выбегал, – расстреливали из пулеметов и автоматов. За 2–3 часа деревня в двадцать домов была полностью уничтожена. С большим трудом, чудом старики Елисеевы, как люди, выросшие в лесу и хорошо знающие местность (канавы, лощины, тропинки), остались живы. Два дня просидели в яме, на второй день немцы уже людей не расстреливали, а брали в плен. Таких набралось два десятка человек со всей деревни. Их посадили на автомашину и, как пленных, поместили в Каспле в тюрьму.
Тарасу Сергеевичу рассказали, что Чача сгорела, многие жители погибли, а некоторые, в том числе его старики, остались в живых. Он развил бурную деятельность, обошел большое и малое немецкое начальство. Ходил несколько дней, кому-то давал в решете два десятка яиц. Короче говоря, недельные хлопоты Тараса Сергеевича да преклонный возраст стариков возымели действие, и в один из дней он привел их, чуть живых, к нам. Разместили стариков на печке.
Как только я уехал, рано утром, на рассвете, каратели дошли до Чачи, окружили ее и подожгли со всех сторон. Тех жителей, кто выбегал, – расстреливали из пулеметов и автоматов. За 2–3 часа деревня в двадцать домов была полностью уничтожена.
Мать, как могла, ухаживала за ними. А они были безумно рады и благодарны своему Тараске и жили у нас долго, пока нас не освободила Красная армия в конце осени 1943 года. После войны старики вернулись в свою Чачу вместе с сыновьями, опять отстроили свою хату и жили в ней. Их сыновья, которые были в партизанах, уцелели. Только одному – Василию – оторвало ногу, да трое не вернулись с войны.
Касплянская полиция была большой помощницей оккупантам. Я уже частично писал, какие дела она творила. Но и полицейские были разные. Сам начальник полиции Гахович ничем особо видимым себя для касплян не проявил. Видно, он был строгий руководитель за столом, на улице мы его не очень-то и видели. А вот из рядового состава выделялся один полицейский. Его звали «чужак», потому что он был пришлый – из какой-то деревни недалеко от Каспли – то ли из Шелатон, то ли из Слободы. Отличался от остальных полицейских своей жестокостью, любил похвастаться перед касплянами, был среднего роста, с неопределенным цветом волос, ходил в какой-то непонятной рубашке и штанах, больше похожих на гражданскую одежду. О нем по Каспле ходили легенды. Жестоко бил даже женщин в тюрьме при допросах, а уж расстреливал – рука не дрогнет, как говорили.
Лично я с ним близко столкнулся два раза. В первый раз я шел по своей улице Кирова и примерно где жила Нинка Котелкова вдруг услышал грозный окрик «посторонись!». Оглянулся – человек с пистолетом в правой руке мне показывал, чтобы я перешел с правой стороны улицы на левую. Я, конечно, послушался, быстро перешел улицу и остановился. Мимо меня гуськом проходила группа из четырех человек.
Впереди шел высокий, худощавый, в пальто зеленоватого цвета человек, спокойно глядя себе под ноги. Ничего необычного я не заметил. За ним шел небольшого роста в черной одежде и с черной копной волос на голове очень юркий, быстрый в движениях человек. Он шел, оглядываясь вокруг, мелко перебирая ногами. По своему виду он был похож на цыгана и еврея. Замыкал шествие этой тройки среднего роста человек-инвалид, тяжело опираясь на костыли. Этот сосредоточенно смотрел себе под ноги, костыли скрипели, и видно было, что ходьба дается ему с трудом.
Дело шло к вечеру, и все знали: если из тюрьмы немцы или полицаи приводили в больницу людей, то это – расстрел.
Сзади за ними шел полицай Сетькин с опущенной вдоль тела правой рукой, в которой, к своему ужасу, я заметил пистолет. Дело шло к вечеру, и все знали: если из тюрьмы немцы или полицаи приводили в больницу людей, то это – расстрел. Сердце мое екнуло. Я еще раз внимательно оглядел уходящую группу и побежал домой рассказать маме, что видел.
Мать выслушала со слезами на глазах: «Смотри, сынок, ведь твоих уже повели к Кукиной горе». Заходило на западе солнце, на поле ложились длинные тени. Я посмотрел, куда мне указала мать, и увидел ту же картину. По тропинке возле небольшого взгорья (холма) шла группа из трех несчастных, за ними – полицай Сетькин, замыкал шествие немец с винтовкой. Пройдя мокрую лощинку, люди повернули и пошли прямо по тропинке к Кукиной горе. И вдруг здесь началась драка. Мы увидели, что инвалид повернулся к Сетькину и начал бить его костылями. Маленький черный человек выскочил из группы, круто повернул влево, пулей вбежал на взгорок и быстро скрылся за ним. Первый, возглавлявший движение группы, просто побежал прямо по тропинке, и его сразу расстрелял немец из винтовки. Через некоторое время инвалид, дравшийся с полицаем Сетькиным, упал на землю. Он был убит из пистолета. Немец вскочил на пригорок и стал яростно палить из винтовки. Какая там разыгралась трагедия, нам, стоящим у хаты, видно не было. Но немец не побежал дальше, а стал спускаться с пригорка, и мы поняли, что и быстрому маленькому черному человеку не удалось убежать. Так вечером в летний день окончили свой жизненный путь три советских патриота, дорого отдавших свою жизнь.
Вторично судьба столкнула меня с этим страшным полицаем Сетькиным уже после нашего освобождения – в конце сентября 1943 года. Начальник полиции Гахович как-то тихо и бесшумно куда-то сгинул, исчез. А Сетькина взяли в родной деревне, где он, видимо, думал отсидеться. Его привезли в Касплю вместе со старухой-матерью. В здании больничной амбулатории организовали скорый суд. Зал был набит битком. Там были и свидетели злодеяний Сетькина, и просто любопытные. Судил его военный трибунал из трех наших офицеров, высоких по званию. В зале стоял гам, шум, крики, плач. Женщины-свидетели показывали спины, иссеченные плетьми, синяки от побоев, тыкали ими в лицо Сетькину. Он был невозмутим. Тихо сидел на стуле, охраняемый двумя автоматчиками.
Суд проходил бурно. Видно, много было обиженных этим злым человеком. Наконец объявили, что суд окончен и удаляется на совещание. Через некоторое время судьи вышли из соседней комнаты, все встали, и был оглашен приговор. Я не очень помню его начало, а вот конец запомнил хорошо. «Изменник и предатель Родины, гражданин Сетькин приговаривается к смертной казни через повешение. Приговор обжалованию не подлежит и должен быть приведен в исполнение в 24 часа». Все загудели, что правильно, что так ему, кровопийце, и надо. Я оказался у задней двери амбулатории и видел, как два автоматчика выводили Сетькина из зала суда. Один автоматчик достал из кармана белый крученый шнур и быстро связал Сетькину руки за спиной. Проходя мимо, я даже подумал, что, наверно, больно, когда руки так связаны за спиной.
К дверям подошла какая-то легковая машина – в нее сели судьи, в другую машину посадили осужденного, его старушку-мать и двух автоматчиков. Все поехали к райисполкому. Там уже возвышалась большая и широкая виселица на двух столбах с перекладиной и болтающейся веревкой с петлей посередине. Рядом в сторонке угрюмо стояла толпа касплян, тихо переговариваясь. Мы, пацаны, прибежали и стали глазеть, что будет дальше. В виселицу медленно въехала большая грузовая машина «ЗИС». Все борта ее были открыты, и образовалась как бы платформа – эшафот. На платформу вскочили два автоматчика, влез на нее и один из офицеров суда с бумажкой в руке. К борту машины подвели Сетькина, подняли его, поставили на платформу под болтающейся веревкой. Офицер громко, членораздельно прочитал по листку приговор, соскочил с машины. Два автоматчика надели на Сетькина веревочную петлю, затем один из них зачем-то вынул из кармана шнур и связал ему еще и ноги. Когда все было готово, один автоматчик хлопнул ладонью по кабине, и машина стала медленно выезжать из-под столбов виселицы. Сетькин медленно перебирал ногами, стараясь держаться прямо. Но вот платформа автомашины полностью выехала из-за столбов. Сетькин вздрогнул, сорвался с нее и повис в петле. Я видел, как его ноги несколько раз конвульсивно дернулись, и все было кончено. Так в 1943 году закончил свой звериный путь один из самых ярых предателей и изменников нашей Родины.
Не знаю, просто уже не помню, по каким делам ходил я за речку в Касплю-2, как ее все звали. Дело было летом, стояла теплая солнечная погода. Я брел, ни о чем не думая, спускаясь с пригорка, по большаку, или – как звали все центральную улицу Каспли, переходящую с востока на запад, – по улице Советской. Спустившись с пригорка около Пашки Марьенкова – знаменитого на всю Касплю балагура, гармониста и даже артиста смоленского театра, – подошел к стоящим близко к дороге зданиям. С левой стороны была почта, а напротив стояла большая и низкая несуразная хата, в которой до войны размещался райвоенкомат. За этими двумя постройками с юга была речка Каспля с отрывистым берегом, а с севера – высоченная песчаная гора, прозванная Почтовой. Дорога сужалась. Я шел, шлепая босыми ногами по дорожной пыли, когда вдруг у крыльца здания бывшего военкомата (где, как я уже знал, немцы устроили самое страшное заведение – жандармерию) меня окликнул стоявший там жандарм. Я слышал, какие жуткие пытки творят немцы над сельчанами в этой жандармерии, и остановился, подумывая просто дать ребячьего стрекача от столь опасного места.
Немец настойчивее позвал меня подойти к нему. Я увидел, что он стоит не один – перед ним был высокий и стройный наш, советский, военнопленный, одетый в командирскую гимнастерку, брюки, но без головного убора и босиком. Немец, как было видно, что-то нервничал, вертелся. В одной руке он держал большой пистолет, в другой – тонкую плетку, стек, как они называли. Пленный, видя, что я не спешу подойти на зов немца, процедил сквозь зубы: «Пацан, подойди. Иначе он тебя пристрелит». Я свернул с дороги и, дрожа всем телом, подошел к немцу. Это был настоящий жандарм: черный мундир, высокая фуражка, грудь – все было увешено и украшено разными знаками и орденами.
Немец сунул пистолет в свою расстегнутую кобуру, висевшую на животе, переложил хлыст в левую руку и стал мне объяснять, чтобы я зашел в жандармерию и вынес ему оттуда наручники. Это он мне показал свободной от пистолета рукой, обвив своими холеными пальцами запястье. Военнопленный опять тихо, сквозь зубы, сказал: «Пацан, схвати первую попавшуюся железяку и вынеси ему». Я вскочил в здание и замер от страха.
Это была большая пустая хата, посреди которой стоял огромных размеров стол. На нем были разложены самые различные предметы: клещи, кусачки, кольца, зубы, веревки с металлом, петли, ремни, плетки, толстые нагайки, просто металлические прутья, какие-то катки с острыми зубьями, молотки, пилки и многое другое. Я уже знал из рассказов касплян, что это были орудия страшных пыток, которые применялись здесь.
Это была большая пустая хата, посреди которой стоял огромных размеров стол. На нем были разложены самые различные предметы: клещи, кусачки, кольца, зубы, веревки с металлом, петли, ремни, плетки, толстые нагайки, просто металлические прутья, какие-то катки с острыми зубьями, молотки, пилки и многое другое. Я уже знал из рассказов касплян, что это были орудия страшных пыток, которые применялись здесь. Ведь иногда душераздирающие крики несчастных были слышны даже у нас в хате, хотя она и стояла далеко от жандармерии.
Дрожа от страха, с сильно бьющимся в груди сердцем, я схватил близлежащую ко мне железяку и выскочил вон.
Увидев меня, немец пришел в страшную ярость и вырвал у меня из рук, как я понял, ненужную ему вещь. Затем разразился громким криком, опять сунул свой пистолет в кобуру, переложил стек в правую руку и со всего размаха стеганул им меня по плечу и спине. Я взвыл от боли – ведь был одет в одну тонкую рубашонку, как мать говорила, из чертовой кожи. Стоя лицом к немцу и военнопленному, я сквозь залитые слезами глаза увидел, как мелькнула тень военнопленного. Он в два прыжка оказался на обрывистом берегу реки и прыгнул в воду. Немец что-то гаркнул, бросился к берегу реки и стал беспорядочно стрелять вниз из пистолета. Я понял, что свободен, выскочил на дорогу и дал стрекача.
Когда пробегал мимо комендатуры на мост, увидел, как оттуда, на бегу заряжая винтовки, выбегали немцы и бежали к жандармерии. Больничными огородами и кустарниками, ни с кем не встречаясь, я, как угорелый, чуть живой примчался домой. Рассказал все матери, она дала мне пару своих увесистых подзатыльников и отругала, что я вечно где-то шляюсь (хотя в данном случае я бегал по ее поручению). Охая и ахая, она сняла с меня окровавленную рубашку, смазала рубец гусиным салом (это было у нее лекарство от всех болячек и болезней). Плача вместе со мной, уложила в постель. Я проспал до утра, как убитый.
Хотя близко от нас был выкопан колодец, но вода была в нем желтоватая, мы брали ее только для скота и чтобы помыться. А за водой для питья и готовки еды мать ходила довольно далеко – в хороший колодец. Придя однажды от колодца, мать была чем-то напугана и расстроена. По ее словам, бабы у колодца рассказали, что вчера от жандармерии при допросе сбежал советский военнопленный. Немцы знали, что убежать ему помог наш, касплянский пацан. Как бы ни было беды, говорили бабы, если немцы его найдут, прочесывая дома. Тогда уж точно засекут до смерти эти жандармы-живодеры. Мы сидели ни живы ни мертвы. Мать дала мне одеяло и сказала, чтобы я лез на чердак, никуда весь день не выходил, а завтра она меня раненько отправит к бабе Марье – двоюродной сестре моего родного отца Павла – в деревню Горбуны, в 5 км от Каспли.
Стоя лицом к немцу и военнопленному, я сквозь залитые слезами глаза увидел, как мелькнула тень военнопленного. Он в два прыжка оказался на обрывистом берегу реки и прыгнул в воду. Немец что-то гаркнул, бросился к берегу реки и стал беспорядочно стрелять вниз из пистолета. Я понял, что свободен, выскочил на дорогу и дал стрекача.
Рано утром мать разбудила меня и, дав краюху черного липкого хлеба из картошки, отправила задворками к бабке Марье. Бабушку Марью мы все очень любили, она была воплощением доброты и нежности. Ее называли колдуньей. Она лечила односельчан: клала их через порог, обмазывала разным зельем, давала пить такие отвары из трав, что у человека глаза вылезали из орбит, выправляла вывихи – короче, лечила вместо врача. Эта старуха была незаменимым лекарем. Жила она вместе со снохой Варварой – крикухой, которая никогда не говорила тихо, только кричала. У них было двое детей – Санька и Нинка. Они тоже не разговаривали спокойно: или кричали, или дрались.
Так как немцы не собирали никого с лопатами рыть за рекой могилу, мы догадывались, что тому военнопленному повезло, и он сбежал.
С большим трудом, под опекой доброй бабы Марьи я пробыл у них в гостях около четырех дней. Рубец мой помаленьку заживал, благодаря мазям.
Озеро самое широкое в этом месте, тишина, никаких немцев, глушь да безделье быстро поставили меня на ноги, и я запросился домой. «Ну ладно, мой ненаглядный, иди. Ты ведь там самый старший, тебе надо помогать матери по хозяйству, да и за мальцами гляди да гляди». И я отправился в Касплю.
Добродушная баба Марья придумала, что ей надо на прием к врачу в больницу, собрала узелок, и мы пошли по тропинке вдоль озера в Касплю. Здесь бабушка впервые показала мне неиссякаемый родничок, который бил на берегу озера между деревнями Лубаны и Горбуны. Долго сидели мы с бабушкой там, наслаждаясь чистейшей родниковой водой, ясным днем и высоким небом.
Когда я вернулся и стал жить дома, мать не очень разрешала мне ходить, как мы тогда говорили, «на Касплю». Так потихоньку сошла молва об удачном побеге от жандармерии нашего советского военнопленного – видимо, командира Красной армии. Да, редко такое сходит – говорили у колодца касплянские бабы, видимо догадываясь, кто был тем пацаном, что невзначай помог сбежать этому командиру.
Так как немцы не собирали никого с лопатами рыть за рекой могилу, мы догадывались, что тому военнопленному повезло, и он сбежал. Это, конечно, был редкий случай – видимо, судьба помогла да то, что он был кадровым военным. Сбежать от жандарма, у которого оружие наготове да к которому на помощь бежали еще два немца, – это непросто. «Но в жизни всякое бывает», – говорила мама, вспоминая этот случай и гладя меня по голове.
Шел второй год оккупации Смоленщины немцами. Наше село Каспля, расположенное в 45 км от Смоленска, вместе со всей страной стойко переживало годины военных лет 1941—42 годов.
Мы, жители села Касплянского района, каждый день подвергались большим и малым бедам. Малыми бедами считались ежедневные поборы немцами молока и яиц, бомбежки, аресты, пытки граждан в жандармерии, одиночные расстрелы и др. Большие беды – это организация немцами массовых смертных казней со сгоном всех касплян к месту казни, периодические рейды карательных отрядов из Смоленска в леса для уничтожения партизан или массовые расстрелы ни в чем не повинного гражданского населения.
Страшные военные годы уходят в века, в историю, в безвестность. Как ни печально, но надо признать тот факт, что новое, подрастающее за нами, ветеранами, поколение не знает фактически ничего о прошедшей войне. И что особенно страшно – оно, это сегодняшнее поколение, и не особо стремится узнать правду о войне. Это, во-первых.
Во-вторых, в наших СМИ – в кино, на ТВ, по радио – редко встретишь правдивое описание или изображение правды тех военных лет. Все пересыпано сексом, шапкозакидательством, а не реальными фактами и явлениями. А если учесть, что мы – старшее поколение 30-х годов XX века – сотнями, тысячами покидаем этот свет и все уносим с собой, становится до глубины души обидно, что скоро люди будут так же мало знать о ВОВ 1941—45 годов, как мы сейчас почти ничего не знаем о великой и кровавой битве под Бородино в 1812 году. А ведь в ней погибло 56 тысяч солдат и офицеров русской армии! Вот так и по событиям 1941—45 годов скоро люди ничего не будут конкретно знать и помнить.
Ибо, как я бы сказал, люди-документы – участники и очевидцы тех грозных событий – имеют сейчас преклонный возраст 70–80 лет. Это при нашем среднем уровне жизни в 59–60 лет – уникумы. Но увы, молодое поколение зачастую не бережет, не ценит, да просто не желает слушать их рассказы среднему поколению! Вот вам яркий пример.
В 2006 году я, 77-летний участник войны и очевидец многих событий ВОВ 1941—45 годов, написал небольшую книгу-брошюру «Великая Отечественная война 1941–1945 гг. в воспоминаниях подростка». Я обращался в три московских издательства и два ленинградских с предложением издать книжку. И все издательства ответили, что эта тема их не интересует.
Я хотел бы еще рассказать об одной исторической трагедии, которая произошла в годы войны в нашем селе Каспля. Я уверен, о ней никто толком ничего правдиво не знает не только в стране, но даже в Смоленске. Я прожил в селе Каспля до 15 лет – до 1945 года, но ни разу не читал ни одной публикации об этом ни в местных, ни в центральных газетах.
Живя с 1945 года в Ленинграде – Санкт-Петербурге, я читал массу газет и тоже не помню, чтобы мне попалось на глаза какое-нибудь сообщение о касплянской трагедии. Будучи однажды на родине в отпуске, я два часа рассказывал эту страшную историю председателю сельской администрации Каспли – Барсуковой.
А было это так. В начале войны немцы буквально победным маршем захватили всю Смоленщину. В районе Вязьмы в окружение попала даже целая наша армия. В Вязьме стоит памятник, напоминающий об этом событии. Село Каспля до войны было районным центром, и фронт так быстро прошел ее, что многие руководители районных организаций даже не смогли эвакуироваться. Позже они ушли в партизаны, организовав партизанский край в районе прилесных деревень Чача, Яшино, Хохлово, Жарь и др. Некоторые же коммунисты и комсомольцы, работники школы, райбольницы продолжали жить со своими семьями.
Укрепившись и создав в Каспле ряд своих учреждений – военную комендатуру, сельскохозяйственную комендатуру, райуправу, жандармерию, полицию, – немцы, наверное, уже имели списки всех проживающих в селе людей, которые не успели уехать в эвакуацию. Вскоре их начали по ночам арестовывать и содержать в корпусах больницы. Эти аресты велись тихо и продолжались всю весну 1942 года. Помимо значительного количества мужчин, под арест попало много женщин с детьми, молодые девушки-комсомолки.
В Каспле до войны проживало две-три многодетные еврейские семьи. Они занимались, в основном, сбором утильсырья: старых тряпок, разного кухонного инвентаря – кастрюль, чайников. Я хорошо помню одну семью, где отца звали Берка. У него было пятеро детей – мал мала меньше. Со старшим его сыном, моим сверстником, я даже дружил. Его звали очень странно – Сролик. Из-за этого имени он даже не смог ходить в школу, говорил, что походил 2–3 недели, но его постоянно дразнили, и он вынужден был уйти из школы и просто помогал отцу.
Нам, касплянам, было непонятно, почему эти еврейские семьи были арестованы.
В то время мы еще не знали идеологию фашизма относительно евреев.
Отец – Берка – брал двухколесную тележку, клал на нее разные игрушки, купленные в Смоленске, и ехал по улицам села, крича: «Налетай, детвора, на мое богатство!» Мы, детвора, хватали что попадется под руки из старья и опрометью неслись к его тележке. Он тщательно осматривал наши подношения, брал их и выдавал взамен игрушки.
Еврейские семьи жили бедно, тихо, ни с кем из селян особо не дружили и, конечно, ничего плохого не делали. Поэтому нам, касплянам, было непонятно, почему эти еврейские семьи были арестованы. В то время мы еще не знали идеологию фашизма относительно евреев.
Всех арестованных мужчин, женщин и детей немцы стали содержать в большом (ранее хирургическом) корпусе касплянской больницы. Она находилась на улице Кирова, занимая большую территорию, и состояла из 3-х больших корпусов, ряда хозяйственных построек и служб. Хирургический корпус шел вдоль улицы и был обнесен деревянным штакетником, вдоль окон корпуса постоянно ходил немецкий патруль.
Немцы пустили слух, что все задержанные будут отправлены в Смоленск, а оттуда в Германию на разные работы. Поэтому родственники несли им передачи: продукты, теплую одежду, обувь, белье. Каспляне верили в этот слух и не особо беспокоились за их жизни: все как бы с этим смирились. В корпусе задержанные жили уже месяца 2–3. Однако слух, пущенный немцами, об отправке людей в Германию, не оправдался – дальнейшая жизнь их оказалась страшной, и вот почему.
Как-то летом, в конце июня, из Смоленска на двух легковых автомашинах ехали в Касплю высокие немецкие офицеры в ранге полковников и подполковников. В небольшом лесочке между Смоленском и Касплей, называемом Пущей, партизаны сделали засаду и всех этих офицеров расстреляли, а автомашины подожгли. Каспляне замерли. Все знали девиз немцев: «За каждого убитого немца расстреливается 10 граждан мирного населения». Да, говорили сельчане, добром это для нас, касплян, не кончится. И опасения эти оправдались.
В последних числах июня 1942 года в Касплю из Смоленска на 10–12 больших крытых брезентом грузовиках прибыл карательный отряд. Он разместился в пустых зданиях школы. Каратели всегда были одеты в белые мундиры с закатанными по локоть рукавами, серые брюки и ботинки, на голове были пилотки странного цвета. Вели каратели себя очень нагло. Складывалось впечатление, что их боялись даже немцы, стоящие в касплянском гарнизоне.
Немцы и полиция все время пополняли барак новыми задержанными. Последними были ребята-подростки, арестованные за то, что где-то снимали со столбов провода. Зачем они были им нужны, нам было непонятно, так как ни электричества, ни телефона в то время в селе не было.
Лето 1942 года стояло ясное, жаркое.
Каратели всегда были одеты в белые мундиры с закатанными по локоть рукавами, серые брюки и ботинки, на голове были пилотки странного цвета. Вели каратели себя очень нагло. Складывалось впечатление, что их боялись даже немцы, стоящие в касплянском гарнизоне.
Огородные посадки все поспевали.
Мать, зная голодные зимы, как-то умудрилась засадить два лапика огорода около хаты картошкой. Потом упросила соседа деда Сеньку разъехать лапики. И теперь нам с ней предстояло пройти борозды, окучить картошку и поднять ботву уже вручную. Борозды одного лапика шли от крыльца хаты до самой дороги по улице Кирова, вдоль кладбища.
Мы с матерью начали проходить борозды, в день всего по две-три, так как они были длинные, а ботва густая. Однажды утром, когда мы собирались работать, к нашей хате подошли два немца-автоматчика и, коверкая русские и немецкие слова, объяснили, постучав по своим часам, чтобы мы не работали и не выходили на улицу после 12 часов. «Если выйдете, будет пук-пук», – показали на автоматы немцы.
Мать вошла в хату и сказала: «Дети, сегодня немцы что-то затевают. Не выходите на улицу после 12 часов, сидите дома, еще, не дай Бог, пристрелят». Она постелила нам на пол дерюги и одеяла, бросила несколько наших игрушек, и мы засели дома. Прошло уже часа три-четыре. Но вдруг – то ли мать забыла о строгом наказе немцев, то ли в ней взыграла трудовая крестьянская жилка – сказала:
– Костик, что-то все тихо на улице. Пойдем-ка мы с тобой и хотя бы по одной борозде картошки пройдем.
– Гляди, мама, не пристрелили бы нас с тобой за ослушание!
– А мы, Костик, если что увидим, юркнем в хату. Тем более что борозды идут прямо до крыльца.
Мы вышли на огород и стали окучивать картошку. Да так увлеклись работой, что не сразу заметили оживленное движение карателей около корпусов больницы. Потом стали наблюдать и увидели, как из ворот больницы беломундирники выводили мужчин и строили их в колонну по четыре человека в ряд. Причем я заметил, что вдоль колонны ходил офицер (он был в фуражке) и хлыстом тыкал в строящихся людей, перемещая их по росту с одного места на другое. Получилась большая колонна: впереди стояли высокие, рослые мужчины, потом среднего роста, а к концу – низкорослые черные евреи и задержанные за провода подростки.
Я был невысокий худенький подросток, мама – маленькая худая женщина, поэтому не очень были видны в ботве картофельных борозд. Мы с мамой стояли в бороздах на коленях и, перестав работать и разинув рты, наблюдали за тем, что будет дальше. Когда колонна мужчин была полностью построена как надо, ее быстро окружили конвоиры-автоматчики в белых мундирах с закатанными по локоть рукавами. Их командир, встав впереди колонны, махнул рукой, что-то громко крикнул, и колонна тронулась по улице, приближаясь к нашим бороздам.
Вдруг, когда колонна подходила уже к началу огорода, раздалась широкая автоматная очередь, и над нашими головами просвистели пули, веером срезав картофельную ботву. Мы поняли, что над нами пронеслась смерть. В нас стрелял автоматчик, шедший впереди колонны. Мы упали вниз, лицом в борозды, лежали там плашмя, закрытые картофельной ботвой, и нас больше не было видно со стороны дороги.
Колонна медленно, я бы даже сказал торжественно, шла по дороге. Я удивился, что она шла как ходят на параде – четко печатая шаг. Не было слышно ни одного слова. Передние ряды колонны – рослые мужчины – смотрели не под ноги, а куда-то вдаль. Со стороны казалось, что люди шли не к смертельному месту, а куда-то в торжественную известность. У меня, ребенка, создалось впечатление, что они шли к своей вечности, бессмертию.
Стояла прекрасная погода, было очень тихо. Тишина нарушалась только разъяренным визгом и хрипом громадных собак-овчарок. Впереди колонны шли человек 10–12 фашистов из охраны, по бокам – по 5–7 человек, сзади – опять группа из 10–15 конвоиров. Все они были вооружены автоматами, которые несли низко на животах.
Со стороны казалось, что люди шли не к смертельному месту, а куда-то в торжественную известность. У меня, ребенка, создалось впечатление, что они шли к своей вечности, бессмертию.
Всего в колонне было около 70–80 мужчин и подростков.
Колонна медленно прошла мимо наших борозд, где мы лежали, мимо кладбища и скрылась из нашего поля зрения на несколько минут за домом и медицинской амбулаторией. Опять мы с мамой увидели ее, когда она уже шла по дороге вдоль Малой Кукиной горы.
Дело в том, что одна большая гряда —
Кукина гора – протянулась с востока на запад на значительное расстояние. Чтобы рассечь гряду, люди прорыли в песке проезд, разделив, таким образом, горы на две части: Большая Кукина и Малая Кукина горы. Впоследствии немцы выбрали это место за Кукиной горой для расстрела партизан, военнопленных, гражданских лиц. Поэтому все каспляне знали: если немцы повели людей за Кукину гору – это смерть! Вот мы с матерью и поняли, что всю большую группу мужчин немцы повели на смерть.
…Мы снова увидели колонну, когда она пошла вдоль Малой Кукиной горы, приближаясь к песчаному проезду между гор. По-прежнему колонна шла тихо, медленно и как-то торжественно. Головная ее часть стала входить в проезд и через минуту скрылась за горой. Мы замерли, ни живы ни мертвы. За горой некоторое время стояла полная тишина.
И вдруг там началась стрельба. Раздавались звонкие широкие автоматные очереди, тяжело бухали очереди крупнокалиберных пулеметов, расставленных на пригорках, и одиночные винтовочные выстрелы. Стрельба продолжалась около часа, потом все затихло.
– Сынок, поползем в хату! Сейчас каратели будут возвращаться и могут нас пристрелить.
– Нет уж, мама! Если мы спрятались, так давай не высовываться, пока это страшное побоище не кончится.
Мы по-прежнему лежали в бороздах, боясь ползти в хату, хотя оттуда и доносился плач оставленных одних детей.
…И точно, в песчаном проезде между горами показались возвращающиеся каратели. Когда поравнялись с нами, я заметил, что все они размахивали руками, громко смеялись и гоготали, как это умеют делать только немцы. Нам показалось, что каратели были просто пьяны.
Какое-то время во дворе больницы была тишина. Но вдруг эту временную тишину нарушил сплошной крик и плач женщин и детей. Мы приподнялись в своих бороздах и увидели, что каратели буквально облепили женскую половину барака. Из него за руки стали выволакивать на улицу упирающихся женщин, которые дрались, плакали, громко кричали. Каратели били их прикладами и стреляли вверх. Наконец, немцам удалось выгнать из барака на улицу большую часть арестанток. Они сбились на площадке, у выхода из ворот больницы на улицу. Образовалась бьющаяся, кричащая, голосящая толпа. Каратели пытались вырвать из этой толпы женщин, выводить на дорогу и строить в колонну. Они, как могли, сопротивлялись. Над Касплей стоял сплошной душераздирающий крик и стон.
К больнице прибыло еще четыре большие автомашины, крытые брезентом. Из них стали выскакивать каратели, окружившие толпу женщин, детей. Они погнали их прикладами от ворот на середину улицы, пытаясь построить в колонну по четыре человека.
Мы с матерью наблюдали эту ужасающую, леденящую сердце картину и обливались слезами. Так продолжалось довольно долго. Немцам никак не удавалось построить колонну. Видимо, карателям это надоело, и они натравили на неповинующихся женщин громадных собак-овчарок. Мы видели, как собаки набрасывались на беззащитных, хватали их за ноги и тащили. Особенно тяжело приходилось женщинам, у которых были дети. Малышей они несли на руках, а тех, кто постарше, буквально тащили волоком по земле, подгоняемые прикладами карателей и собаками.
Над Касплей стоял сплошной человеческий стон. Наконец немцам удалось вытащить всех несчастных из барака и с большим трудом построить в нестройную колонну. Опять раздались выстрелы из автоматов в воздух, опять послышались громкие крики конвоя, и колонна медленно тронулась от больницы по улице. Сказать, что колонна шла, будет неверно. Фактически женщины медленно тащились по дороге, волоча за руки детей. По бокам этой колонны было значительно больше конвоя, чем у мужчин.
Колонна проходила торцы наших картофельных борозд, как вдруг мы увидели, что из нее в картошку бросили небольшой белый сверток. Боковой конвоир в этот момент немного замешкался, а потом, развернувшись, с живота дал наугад по бороздам длинную автоматную очередь. Он даже остановился и хотел шагнуть в борозды, но они были только что распаханы, еще не осыпались, глубокие – и немец понял, что наберет целые ботинки сырой земли. Он тряхнул ногой, махнул рукой непонятно на кого и, круто повернувшись, стал догонять проходящую колонну. Шедшие за ним каратели, хотя и были с собаками, как-то не обратили особого внимания на брошенный кулек, прошли мимо.
Колонна, как я уже говорил, шла медленно. Впереди шли высокие, стройные и красивые девушки-комсомолки. И хотя шли гордо, как бы независимо, по их широко раскрытым ртам было видно, что они тоже кричали, время от времени поднося концы своих платков к глазам и вытирая слезы.
Вскоре у больницы послышался шум заводимых моторов, и грузовики покинули территорию больницы. Каратели уехали. Мы поняли, что все кончено. За какие-то 4–5 часов было расстреляно 157 граждан села Каспля. Было это 1 июля 1942 года.
Общие крики, плач, стенания женщин постепенно удалялись от нас. Потом мы увидели женскую колонну медленно движущейся по дороге вдоль Малой Кукиной горы. Вскоре она стала вползать в песчаный проезд между горами, и крики и стоны стали еще громче. Позже люди говорили, что их было слышно по озеру в деревнях до трех километров.
Через некоторое время опять за горой началась стрельба. Она была очень яростной и беспорядочной. Затем все стихло.
Опять каратели возвращались из-за Кукиной горы бесформенной толпой. Но на этот раз они шли какие-то пришибленные: не смеялись, ни гоготали. Больше помалкивали.
Из кулька доносился слабый писк. Я побежал домой. Мы с мамой развернули пакет и обнаружили в нем очень маленького чернявого ребенка – мальчика. «Бедное дитя! – приговаривала мама, горько плача. – И что же нам теперь с ним делать? Ведь, если немцы прочуют и найдут его, нас всех расстреляют!»
Вскоре у больницы послышался шум заводимых моторов, и грузовики покинули территорию больницы. Каратели уехали. Мы поняли, что все кончено. За какие-то 4–5 часов было расстреляно 157 граждан села Каспля. Было это 1 июля 1942 года.
…Мы с мамой вернулись в хату с опухшими, заплаканными глазами. Помылись, убрали и успокоили трех зареванных и голодных детей. Вдруг мать остановилась, ахнула и крикнула мне: «Костик, быстро сбегай в картошку и принеси тот кулек, который выкинули женщины из колонны». Я сходил, нашел белый, грязный небольшой кулек и поднял его. Из кулька доносился слабый писк. Я побежал домой. Мы с мамой развернули пакет и обнаружили в нем очень маленького чернявого ребенка – мальчика. Мать собрала все его пеленки и бросила в печку (печка у нас топилась торфом, и там каждый день тлела торфяная зола), обмыла мальчика, закрутила в чистые тряпки, дала соску с молоком – он успокоился. «Бедное дитя! – приговаривала мама, горько плача. – И что же нам теперь с ним делать? Ведь, если немцы прочуют и найдут его, нас всех расстреляют!»
Делать было нечего. Время шло к ночи. Мать положила ребенка среди постелей наших детей, и он скоро уснул. «Смотрите, дети, чтобы вы нигде ни словом не обмолвились, что у нас появился ребенок, – иначе всем нам грозит смерть». Ночью ребенок спал среди нас, детей, а на день мать заставляла меня поднимать его на чердак. Ребенок, к счастью, оказался очень тихий и спокойный.
…Однако вернемся ко дню расстрела. На этом в тот день наша беда не закончилась. В окно грубо постучали и крикнули: «Тетка Фрузка, выходи да бери с собой лопату! Пойдем за Кукину гору, приведем там все в порядок.
Немцы приказали». – «Володька, зайди и погляди! Как я брошу эту малышню?»
Пока мы шли, я подумал, что, если бы эта дорога от больницы до Кукиной горы была не песчаной, а из асфальта, мы сейчас шли бы по лужам человеческих слез и крови.
Полицай Володька, которого мать хорошо знала (он был из Полозов – деревни недалеко от Белодедова, где жила когда-то мать), заглянул в хату, увидел нас, ребят, и сказал: «Ладно, можешь не ходить! Но тогда пусть за тебя пойдет старший пацан».
– Ну что поделать, Костик?! Возьми лопату и сходи. Хотя у нее черенок сломался, когда окоп копали. Иди так.
Полицаи, пройдя по домам, набрали толпу – человек 20 касплянских мужиков, подростков – и повели всех за Кукину гору. С содроганием и страхом мы шли дорогой, по которой несколько часов назад ушли на смерть полторы сотни человек. Пока мы шли, я подумал, что, если бы эта дорога от больницы до Кукиной горы была не песчаной, а из асфальта, мы сейчас шли бы по лужам человеческих слез и крови.
Когда пришли на Кукину гору, перед нами предстала ужасная, не поддающаяся нормальному человеческому представлению картина. На всем южном пригорке валялись горы пустых маленьких гильз от автоматов и больших – от винтовок и станковых пулеметов. Общая братская могила – яма – была заполнена голыми человеческими телами. Сверху немцы засыпали котлован каким-то белым порошком, видимо известью. На это было жутко смотреть. Мы смотрели и не верили глазам. Страшной была эта могила. Казалось, тела, заполнившие яму, шевелились и дышали. Некоторых из нас от этой жути и животного страха стало тошнить и вырвало.
Послышался шум въезжающих в земляной проезд двух грузовых автомашин. Выше, на склоне горы, лежали груды одежды расстрелянных (значит, людей перед смертью заставили раздеться). Грузовики подъехали к одежде и остановились. Из кабин выскочили два немца-шофера, закричали на полицейских «шнель!» и вернулись в кабинки – они боялись нас, русских.
Полицейские распределили всех нас на две группы. Кто был с лопатами – тех поставили по краю громадного котлована и приказали забрасывать эту яму с телами землей. Кто был без лопат, как я, – заставили носить одежду расстрелянных и грузить в машины. Мы брали охапками груду разного белья, одежды, обуви и подносили к заднему борту машин. Сначала нас заставили погрузить в первую машину мужскую одежду, потом – во вторую – одежду женщин и детей.
На всем южном пригорке валялись горы пустых маленьких гильз от автоматов и больших – от винтовок и станковых пулеметов. Общая братская могила – яма – была заполнена голыми человеческими телами. Сверху немцы засыпали котлован каким-то белым порошком, видимо известью.
Я взял одну из охапок мужской одежды, и она показалась что-то очень тяжелой для меня, голодного пацана. Я увидел, что несу большое зимнее пальто. Вдруг, когда стал подавать его наверх, мне в глаза бросилась из-под воротника показавшаяся очень знакомой медная (как мне казалось, золотая) цепочка-вешалка, пришитая за оба конца. Я опешил и все вспомнил.
У нас при школе было несколько уютных домиков для учителей. С Аркадием Зырянкиным – моим ровесником и сыном одного из этих учителей – мы дружили. Несколько раз я бывал у Аркадия и видел вешалку у входной двери, направо, где висело большое зимнее пальто на медной (или золотой) вешалке-цепочке.
Вот как распорядилась судьба! Отец Аркадия расстрелян, а я несу и гружу в машину его пальто! Я даже замешкался, подавая его в машину, – у меня руки как-то опустились, а мой напарник закричал сверху: «Ну что ж ты там, Костик?!» Я подал пальто наверх, но и его, и цепочку запомнил на всю свою жизнь.
Уже будучи студентом Московского железнодорожного института, я как-то оказался в Москве у станции метро «Сокол». Мы – я и дядя по отцовской линии – поздно возвращались к нему на квартиру на улицу Сретенка. Медленно шли по какой-то широкой улице и вдруг увидели шедшего нам навстречу моего друга Аркадия с девушкой. Встреча была настолько необычной, что я не поверил глазам. Но, чтобы проверить себя, когда мы уже разошлись, я крикнул: «Аркадий!» Он остановился, затем подошел к нам. Поздоровались, обменялись несколькими фразами о нашем детстве. Я сразу вспомнил цепочку-вешалку на пальто его расстрелянного отца и хотел ему обо всем рассказать. Но Аркадий нервничал и все посматривал назад, на свою девушку, которая одиноко стояла на тротуаре. Я понял, что не стоит ничего рассказывать и портить ему хорошее настроение. Мы распрощались и разошлись в разные стороны. Так я никогда больше его и не встретил за всю свою жизнь. Но свисающую мне в глаза медную цепочку помню до сих пор.
…И хотя летом дни длинные, этот день за Кукиной горой подходил к концу. Полицаи нас торопили. Мужики с лопатами работали изо всех сил, но как-то у них постоянно не хватало земли, чтобы засыпать этот страшный котлован-могилу. Мы погрузили все кучки одежды в автомашины, полицаи махнули рукой шоферам, взревели моторы, и машины уехали на Касплю. «Век! По домам, пацаны! Да смотрите, не болтайте дома, что здесь видели, что здесь делали», – рявкнул один из полицаев и прогнал нас. Я помчался домой, не чуя под собой ног. Мама предложила мне поужинать, но я бухнулся на свою кровать и уснул, уставший от всего пережитого за этот ясный и теплый летний день 1942 года.
Проснувшись назавтра, я чувствовал себя так плохо, что мать стала меня лечить, приговаривая, что я заболел от всего пережитого вчера, что эти переживания не для моего возраста. Так прошло с неделю. Мы боялись всех, кто шел по тропинке от улицы к нашей хате.
Вскоре мать приняла решение отнести найденного ребенка в деревню Горбуны, в 5 километрах от Каспли. Там у нее жила старая добрая тетка – родня нашего отца. Мы, дети, всегда были рады ее приходу, немудреным гостинцам и звали бабой Марьей. Вдруг эта старушка сама, по каким-то своим делам, оказалась в Каспле и, конечно, зашла к нам. Они долго совещались с матерью, потом баба Марья решила, что возьмет мальчика, спрячет под широкой кофтой и унесет от нас: «А то ты, Фруза, и сама погибнешь, и всех детей твоих немцы перестреляют, если какой-нибудь мерзавец донесет им!»
Мать накормила ребенка, дала с собой бутылочку с соской, долго привязывала мальчика к кофте, и бабушка Марья ушла. Позже мы узнали, что она успешно дошла до своего дома и ребенок жил у нее около месяца. Затем она переправила его своей родне в деревню Ходыки Касплянского района (это в самой глуши), где никогда не были немцы. О дальнейшей судьбе мальчика ничего не было известно. И лишь после войны мать прослышала, что он был передан еврейским семьям, проживающим в районе станции Рудня. Там до войны обитала большая колония евреев, если так ее можно назвать, и после войны она восстановилась. Кстати, в районе Рудни проживал и Герой
Советского Союза Егоров, водрузивший вместе с Кантария знамя Победы над Рейхстагом.
…Я сел и стал смотреть за реку на центр Каспли. Вдруг увидел, как от военной комендатуры отъехала автоколонна больших грузовых машин с брезентовым верхом. Вспомнив вчерашнее, я понял, что это отбывал из Каспли в Смоленск карательный отряд, расстрелявший на нашей Кукиной горе 157 касплян. Даже посчитал машины: их прошло 12 больших, а между ними – 2 большие легковые, видимо с офицерами карательного отряда. «Вот когда бы нашим партизанам устроить засаду на Пуще да уничтожить всех этих зверей-карателей в белых мундирах!» – подумал я.
Мать мне за обедом сказала: «Костя, ведь прямыми очевидцами этой небывалой трагедии – гибели стольких людей – волей случая оказались только мы с тобой. Только мы смогли увидеть весь путь несчастных от бараков больницы до Кукиной горы, а ты даже побывал на месте их смерти. Помни это и при случае поведай людям».
Мать моя умерла 48 лет тому назад и покоится на лесном кладбище в поселке Колодня под Смоленском. Значит, из двух свидетелей описанной здесь трагедии остался в живых один я. Мне тогда было 12 лет. Все, что произошло на Кукиной горе, мой ум, мои глаза запомнили и зафиксировали, как лента документального кино. Я полагаю, об этом расстреле должна знать вся современная Россия, весь наш народ.
Табор со скотом собирался немалый, а оставлять или убивать скот было жалко (лето, жара, все попортится). Решили отъехать из Каспли не к лесу, а к железной дороге. Там была небольшая деревушка Лубаны – вот к ней и наметили. Запрягли коня, навалили домашний скарб, привязали корову, бычка, около десятка овец, пятнадцать кур – табор получился приличный. Да еще людей восемь человек!
Потихоньку отъехали и целый день тащились шесть километров, пока добрались. «Ну что ж, размещайтесь за двором! – сказала родня. – Во дворе будет тесно». Там и разместились. Питались – лепешки, вода да хлеб. Прожили там порядочное время, наконец мать послала меня узнать, освобождена ли Каспля да цела ли хата.
Как на крыльях, летел я босиком домой. Первыми, кого я встретил, был взвод наших солдат, они шли пешком. Командир остановил меня, расспросил, где немцы, как пройти на Жарь (деревня у нас была такая, вся в торфяниках). Я показал, поговорили, и они пошли. Потом наши войска пошли гуще, но все больше пехота да обозы на уставших лошадях. Прибежав на Касплю, я был несказанно рад, что наша хата осталась цела, не сожгли огнеметами отступающие фашисты.
В тот же день побежал обратно. Все были очень рады, что цела хата, и даже стали в ночь собираться домой. Ехали, радовались освобождению – свои пришли, война гремела где-то под Витебском, от нас в 120 км.
Пришедшие власти как-то негласно разделили население – был в оккупации или не был. Кто был – вдруг стал считаться второсортным. Позже появились анкеты с графой, был ли в оккупации.
Скоро обросли своими начальниками районные учреждения – и где только они раньше были?! Сразу начали организовывать колхоз, скот забирали из семей касплян. У нас сразу же взяли бычка, лошадь, несколько овец.
Оставили, как многодетной семье, только кур да корову. И что самое странное – сразу же стал ощущаться голод.
Зерно, какое было, быстро таяло под жерновами; картофель в жаркое лето особо не уродился; а мы, дети, вечерами сидели, чистили его и плакали, так как все руки были в кровавых цыпках.
Пришедшие власти как-то негласно разделили население – был в оккупации или не был. Кто был – вдруг стал считаться второсортным. Позже появились анкеты с графой, был ли в оккупации.
Сразу же организовали вербовочные пункты, и мужчин, всех подчистую, забрали в армию. Коснулось это и отчима, больного заболеванием сосудов. Военные пришли за ним и сказали: «Хватит, Тарас, спать с бабой в то время, как мы кормим вшей в окопах!» Ничего не подействовало – ни предъявленные документы, ни доводы матери. Она собрала ему сумку, и отчима увели.
Всех касплян бросили на фронт под Витебском, где фашисты сильно укрепились. Там громыхало днем и ночью месяца два-три. С уходом отчима дела у нас пошли еще хуже. Жрать было нечего, все запасы как-то быстро подъели.
В осень 1943 года я во второй раз пошел в школу, но учиться долго не пришлось – надо было работать: дров на зиму не заготовили, сена – тоже. Каспля всегда, во все времена, «славилась» дефицитом сена и дров. Мы ходили по Каспле с мешком и собирали конский навоз. Мать делала из крапивы и лопуха кое-какое пойло корове. С топором за поясом я ходил в ближайшее болото и корчевал (рубил) кустарник. Работа эта была каторжная. Мать нигде не работала, мне было 13 лет.
Мы слышали, что в Ленинграде был страшный голод, что люди там ели собак, кошек, крыс и даже были случаи людоедства. У нас-то была еще разная трава и мелкая семенная картошка, из которой получался не хлеб, а грязно-черный комок, пересыпанный песком или землей, так как, хоть сто раз мой эту мелкоту в воде – все равно она будет в песке.
Открылась почта. Тетя Устья и сестра Таня жили в Киргизии, но решили из-за малярии вернуться на Смоленщину. Народа в хате стало больше. Старики Елисеевы, видя, что Тараса Сергеевича забрали в армию, ушли пешком в свою спаленную Чачу. Мать имела кое-какие тряпки и ходила пешком за 45 км, чтобы там обменять их на килограмм отрубей. Корова дни и ночи стояла в хлеве еле живая и ревела. Овец мать сама резала по одной и растягивала мясо на месяцы, но не было соли, спичек, керосина.
Корова дни и ночи стояла в хлеве еле живая и ревела.
Овец мать сама резала по одной и растягивала мясо на месяцы, но не было соли, спичек, керосина.
Потихоньку жизнь налаживалась. На кладбище какой-то высокий начальник похоронил то ли любовницу, то ли жену. Поставил двухметровый памятник из полированного черного гранита, с длинной надписью. Он и сейчас удивляет касплян. В клубе – бывшей амбулатории больницы – стали показывать кино.
Директором клуба была маленькая и злющая-презлющая женщина, которая страшно боролась с нами, пацанами-безбилетниками. Обычно граждане покупали билеты, рассаживались по рядам и смотрели кино. У нас не было ни гроша, и мы, пацаны, набивались в клуб или через окна, или через крыльцо, когда контролеры уже уставали. Обычно мы садились перед самим экраном на грязный пол и во все глаза смотрели фильм.
Директору это было как ножом по горлу. Она смело вызывала касплянскую милицию и, показав на сидящую перед экраном шантрапу, приказывала очистить зал. Милиционеры – здоровенные ребята – брали нас, пацанов, за что попало и выбрасывали вон через крыльцо, высота которого была метра полтора. Но самое страшное, что начало крыльца на земле обрамляла бетонная плита размером метр на метр да толщиной не менее 20 см. Мы летели с крыльца как попало и куда попало. Только гибкий детский скелет мог выдерживать эти «полеты». Я часто попадал под эти «полеты», но однажды досталось так, что я запомнил на всю жизнь.
Как-то озверевший директор вызвала навести порядок в клубе офицера. Фамилия его у меня осталась в памяти навсегда – это был лейтенант милиции Чернышев. Придя в клуб, он изобрел более простой способ удаления из зала пацанов, чем предыдущие его коллеги. Он брал пацана за ногу и за руку и кованым сапогом бил в бок, а потом выбрасывал вон. Я ему тоже попался. Он взял меня за правую руку и левую ногу и изо всех сил (мужчины в 45 лет) ударил сапогом в правый бок.
Когда я скатился с камня, сам встать не смог. Ребятишки побежали к маме, крича: «Тетя Фруза, твоего Костика убил в кино милиционер!» Мать, в чем была, прибежала к крыльцу клуба и ужаснулась: изо рта у меня шла кровь, я не мог ни встать, ни идти. Она завыла во весь голос, стала звать на помощь. Двое парней подхватили меня под мышки и, благо дом был близко, принесли домой. Утром мать побежала в больницу, привела доктора Зуева Федора Тимофеевича, который осмотрел меня и предположил, что отбита правая почка: «В больницу, Фруза, в Смоленск его надо свезти! А на этого держиморду Чернышева пиши бумагу в милицию – может, чем помогут».
Мать погоревала, поплакала, поругала меня, но ни на второй, ни на третий день в больницу не повезла – не на чем и не на что. Так в 13 лет я оказался с отбитой почкой. Два месяца лежал в постели, харкал и мочился кровью да проклинал своего врага лейтенанта советской милиции Чернышева. Это было в 1943 году, в год освобождения Смоленщины от немецко-фашистского ига.
В полях остались сотни тысяч снарядов и мин. На них взрывались десятки пацанов. По Каспле прокатились эти взрывы как какое-то поветрие. Буквально каждые две-три недели по два-три пацана взрывались, разряжая эти смертоносные штучки.
В полях остались сотни тысяч снарядов и мин. На них взрывались десятки пацанов. По Каспле прокатились эти взрывы как какое-то поветрие. Буквально каждые две-три недели по два-три пацана взрывались, разряжая эти смертоносные штучки.
Старший брат Виктор, 1926 г. р., служил в армии танкистом и проезжал на фронт через Смоленск. Мы не виделись лет 10. Он прислал письмо и позвал в город, чтобы встретиться. Мы втроем – я, мама и сестра Тоня – пошли в Смоленск пешком. Пришли и увидели весь город в руинах. С трудом нашли около вокзала место и улеглись отдохнуть после 45-километрового пути. И вдруг мать чисто случайно говорит: «Дети, смотрите-ка, вон идут солдатики точно в таких шапках, как сын на фото». Солдаты услышали и подошли к нам. Мы узнали друг друга – радости не было предела. Потом на попутной машине поехали в Касплю. Дома – встречи, бесконечные разговоры. Двое суток, на которые брат с товарищем были отпущены в увольнение из части, пролетели как один час.
Брат К. П. Исаченкова, Виктор Павлович Исаченков. Бывший механик-водитель танка Т-34
С тоской мы пошли провожать брата и его товарища на станцию Лелеквинская. А часть их уже ушла в Витебск, и брат как бы оказался в просрочке. Отправив его, мы, понурые, вернулись в Касплю. Позже брат писал, что ему здорово влетело за просрочку двух дней (законы-то в армии были строгие). Его из механика-водителя танка в Польше разжаловали в рядовые автоматчики, в пехоту. Вот как дорого обошлась эта встреча! Потом он отлично воевал и войну закончил в Берлине. Только обидно было, что под конец войны был тяжело ранен в ногу.
В войну связь Каспли со Смоленском была только по железной дороге, до которой надо было пройти 19 км по лугам, а главное – лесом, где пошаливали бандиты. И один солдат, шедший этим путем, был убит. Он был сыном женщины, жившей против милиции. Его тело случайно нашли в лесу, и вся Каспля похоронила героя, шедшего домой в увольнение за хорошую службу и погибшего уже дома от рук бандитов. Горе матери было безмерным! Ведь второй, младший ее сын, который сидел со мной на одной парте и которого за большую голову звали Вовка Кумпол, погиб, разряжая крупнокалиберный снаряд.
Хотелось бы вспомнить и самое позорное, что осталось от войны после освобождения, – это пахота земли женщинами. Лошадей в колхозе почти не было, а осенняя страда не ждет! Эта картина была ужаснее, чем репинская «Бурлаки на Волге». Крик, ругань, бесконечные остановки делали эту пахоту нечеловеческим трудом.
Хотелось бы вспомнить и самое позорное, что осталось от войны после освобождения, – это пахота земли женщинами. Лошадей в колхозе почти не было, а осенняя страда не ждет! Поэтому приходилось председателю колхоза снаряжать группы по 10–12 женщин для вспашки земли. Делалась специальная ременная или веревочная сбруя, в нее впрягались женщины, на плуг ставился очень высокого класса пахарь, так как чуть глубже плуг пустишь – пахота застревает, высоко поднимешь – что толку сорняки сшибать! Эта картина была ужаснее, чем репинская «Бурлаки на Волге». Крик, ругань, бесконечные остановки делали эту пахоту нечеловеческим трудом. Но это ведь было в годы войны, я сам это наблюдал с тоской.
В один из дней к нам в хату заявился бравый советский солдат-автоматчик, а с ним наш отчим Тарас Сергеевич – исхудавший, раненный в левое плечо, с рукой на перевязи. Автоматчик был строг и суров. Прямо с порога он заявил перепуганной матери, что привел дезертира. «Пускай посидит дома, никуда не ходит. А я пойду в органы выправлять его документы».
Мы окружили отчима, а он рассказал свою горькую историю. Когда освободили Касплю, всех мужчин мобилизовали в армию, и его в том числе, несмотря на документы и состояние здоровья. Всех доставили в Витебск, обмундировали и дали оружие. Тарас Сергеевич из-за своего роста и силы попал в противотанковую роту. Ему дали большущее 4-метровое, не меньше, ружье и стали обучать стрельбе. Тарас Сергеевич, отличавшийся покладистым характером и прилежностью, сначала все приказы командира исполнял как надо. Но командир все равно был недоволен, ругал Тараса, кричал на него и звал симулянтом.
Провозившись с этим громадным ружьем с неделю, Тарас Сергеевич так и не смог его освоить и научиться стрелять в движущийся макет. Тарас Сергеевич терял терпение, но еще больше буйствовал, кричал, грозил «застрелю» его командир. Дело кончилось плачевно.
Однажды Тарас Сергеевич возился с ружьем, и, как всегда, все валилось из рук, у него начались сильные головные боли. Односельчане, видя это, посоветовали оставить Тараса в покое, дать ему простую винтовку да пару гранат – он тогда и пользу принесет, как все солдаты. Но капитан был настырный, сельчан не послушал и продолжал «учить» отчима стрелять. Тогда у Тараса лопнуло терпение, он схватил эту огромную металлическую «трубу» (ружье) и, как оглоблей, стал махать ею. Многие попали под его удар, и даже сам командир. Когда люди попадали, Тарас бросил эту «трубу» в палатку и побежал. Командир выхватил пистолет и стал стрелять. Одна пуля угодила отчиму в плечо, его связали, сделали перевязку в госпитале. И стали думать – сразу же расстрелять, как настаивал капитан, или отвезти домой и там (если не подтвердят, что он болен) расстрелять как изменника Родины.
Долго сопровождающий конвоир-автоматчик обивал пороги касплянских учреждений, милиции, райвоенкомата, больницы, райисполкома, все обошел, собрал пачку бумаг и к вечеру явился к нам домой. «Ну, Тарас Сергеевич, счастлив твой Бог дважды! Один раз, что тебя сразу не пристрелил командир. И второй – что тебя тут каждая собака знает. Вот, надавали мне оправдательных справок, что ты освобожден подчистую. Так что, Ефросинья Трофимовна, дай мне поужинать. Переночую у вас, а завтра подамся в часть. А ты, Тарас Сергеевич, сиди дома да своих детей расти, отвоевался уже!»
Так и было. Наутро солдат, забрав свой грозный автомат, ушел на станцию, а мы стали опять жить с отчимом.
Как только освободили Смоленщину от фашистов, нам пошли письма. Написал и брат моей матери – Григорий Трофимович Боровченков – военный летчик-истребитель, командир полка. Полк шел с Западным фронтом. Дядя часто летал над Смоленщиной, сопровождал наши бомбардировщики, летевшие на запад, да вел многочисленные бои с фашистскими «мессерами». Он часто сбивал фашистские самолеты, и фюзеляж «ястребка» и его грудь были украшены звездочками и орденами. Дядя Гриша был в своем деле асом. Был он очень энергичен, умен, небольшого роста, крепкого телосложения. В молодости он немного поработал шахтером-забойщиком, потом попал в армию, в летное училище и посвятил всю свою жизнь военной профессии.
Узнав из моего письма, что мы, его родня, пережили оккупацию и остались живы, он загорелся мечтой повидаться с нами. Полк его стоял под Смоленском – до Каспли рукой подать. Я нарисовал ему несколько планов Каспли, и он обещал прилететь. Так и вышло. В один из дней в нашем небе стал кружить У-2 – «кукурузник». Кружил-кружил и сел буквально в 50-ти метрах от нашей хаты. Дядя Гриша пришел к нам в хату вдвоем с ординарцем. Тот подмигнул мне и посадил меня в кабину – дескать, смотри, как все мелькает, только посторонних к себе не пускай. Весь день я просидел в кабине, и только к ночи ординарец пришел и сам забрался туда спать.
Всю ночь родители проговорили с дядей Гришей про войну, про оккупацию, про жизнь – про все, про все. Дядя рассказывал, как он сражался на Халкин-Голе, как воевал в Испании, как тяжело было воевать в первые месяцы ВОВ. Нам с сестренкой он привез в подарок старый синий летный комбинезон и сказал: «Тебе, Костя, верх – синий брезент, ну а девочке Тоне – внутреннюю меховую подкладку». Мы долго ломали голову, как из такого подарка извлечь пользу.
Забыл сказать, что, когда дядя только приземлился у нашей хаты, к нему подошло много людей, проверили документы. Все удивлялись, как он мог посадить самолет на такой маленький лужок, с четырех сторон обкопанный канавами при довоенной мелиорации.
Утром, попив крепкого чая, дядя Гриша попрощался со всеми нами, сел в У-2, сделал над Касплей два круга и улетел. Впоследствии он воевал до конца войны, был тяжело ранен под Старой Руссой и, как Алексей Маресьев, раненый прополз несколько километров, пока его не подобрали колхозники. Дядя всегда руководил большими воинскими соединениями, работал на генеральских должностях, хотя имел звание полковника.
Его жена – Азалина Петровна – рассказала мне одну интересную историю, из-за которой вся жизнь Григория Трофимовича пошла кувырком. По характеру дядя был человек прямой, кристально честный, верный сын и слуга своей Родины. Его боевое мастерство поражало многих. Так, в одном воздушном бою под Рудней он вел бой с девятью фашистскими истребителями и даже сбил одного из них. Дядю трижды представляли к высокому званию Героя Советского Союза, но всякий раз документы возвращали.
А было это из-за его наивности. При поступлении в партию, когда он заполнял анкету, в графе «социальное положение» написал – «из кулаков». Хотя его отец – Боровченков Трофим Андреевич – был родовитый крестьянин. Эта непростительная оплошность не только не давала дяде возможности получить высокое звание Героя, но он не мог получить и чин генерала, а был этого достоин.
Храбро бил он американцев в Корее, во Вьетнаме. Последней его должностью перед уходом в отставку была должность коменданта Курильских островов. Когда теперь из уст наших чиновников, не нюхавших пороху, я слышу, что можно, дескать, передать Японии один, ну два или три Курильских острова, у меня перед глазами всегда встает гвардии полковник комендант Курильских островов. И с горечью думаю, что дядя, наверно, в гробу переворачивается от этих слов. По приказу самодура Хрущева дядя был демобилизован, поселился в Волгограде, где его святыней стал Мамаев курган. Дожив до 82 лет, он тихо скончался от сердечного приступа во время зимней рыбалки на Волге. В память об этом легендарном сыне России остался скромный памятник на городском волгоградском кладбище среди колышущегося на степном ветру ковыля.
Еще одно яркое доказательство того, каким горячим патриотом был дядя Гриша. Шел голодный послевоенный 1946 год. Я учился в школе ФЗО № 5 в Ленинграде. В стране была жесткая карточная система. Нам карточки не давали – у нас было тогда, как говорили, трехразовое питание. Какое это было питание – страшно вспомнить. Мы, 16-летние парнишки, ходили всегда голодные. Время было очень тяжелое. Я жил один, и мне никто из родни ничем не помогал. От отчаяния я взял и написал дяде Грише откровенное, но пессимистичное письмо про мое житье-бытье. В ответ получил заклинание-наставление, как жить в героическом Ленинграде. «Костя, – писал дядя Гриша, – ты живешь в городе, где каждый камень – история, где каждый кусок земли полит кровью защитников города в годы блокады. Как тебе не стыдно так ныть и срываться?! Ты должен гордиться городом, судьбой, обстоятельствами, что ты попал в Ленинград, а не ныть. Должен все силы, знания, которые получаешь в ФЗО, отдавать на восстановление святыни нашей Родины – Ленинграда». Вот таким – не менее и не более – был его ответ мне.
После освобождения Каспли от оккупации старики Елисеевы ушли жить в свою родную деревню Чачу. Как известно, она была окружена немцами и уничтожена вместе с ее жителями. Часть из них, правда, каратели взяли в плен, привезли в Касплю и держали в тюрьме, а потом расстреляли.
Дед, уже очень старый, был болен и лежал на полатях, когда я в сумерках пришел в Желуди. Бабы Тоти и их дочери Марьюшки дома не было.
– А как, дедушка, развести в хате огонь?
– Возьми, внучек, патрон от винтовки (в красном углу их навалена целая куча), воткни пулю в пол, в щель между двух половиц, сверни ее, оставь в гильзе только порох. Поставь гильзу на загнетку, выбери в духовке маленький уголек и брось в патрон. Когда порох загорится от уголька, сунь в этот фонтанчик лучинку. Она загорится, и ты зажигай фитиль гильзы большого снаряда, который стоит на столе. Вот и будет в хате свет. Спичек-то у нас нет.
Дед, давая свои более чем странные советы, кашлял, кряхтел, просил подать воды и фактически отрывал меня от разведения огня по своему методу. Вечерело, в хате стало совсем темно, маленькие окна совсем не давали света.
Несколько раз у меня загорался фонтанчиком порох в гильзах, вылетая из патрона на высоту примерно 20–25 сантиметров, но я не успевал зажечь лучину. Я повторял операцию, нередко порох просыпался, или его было в патроне мало.
Наконец мне надоело возиться, и я выбрал крупный, видимо бронебойный, патрон с большей гильзой, чем от винтовки. Выковырял пулю, поставил гильзу патрона на загнетку, нашел небольшой уголек и опустил его в патрон, в порох. Сначала никакой реакции не последовало, и я подумал, что и этот патрон сгорит впустую. Тогда я нагнулся, сунул свою голову под загнетку, вернее, туда, где подают чугуны, – в топку. Увидев, что в патроне ничего не происходит, я дунул в него легонько. Порох зашипел, вспыхнул, и
Увидев, что в патроне ничего не происходит, я дунул в него легонько. Порох зашипел, вспыхнул, и искры большим столбом стали вылетать из патрона. Все пришлось мне прямо в лицо.
искры большим столбом стали вылетать из патрона. Все пришлось мне прямо в лицо. От боли я дернул головой и больно ударился о какой-то выступающий кирпич. Из головы на загнетку начала капать кровь, а все мое лицо было обожжено.
Дед Сергей испугался, вскочил с полатей, вытащил меня из-под загнетки, положил на лавку и стал колдовать надо мной. Он побежал бегом в чулан, принес горшок с гусиным салом, оторвал от полотенца кусок, обильно наложил на него сало и всю эту массу приладил мне на лицо. Завязал тряпкой рану на голове, пытаясь остановить кровь. Я лежал на лавке и корчился от боли. Дед, как будто сразу поправившись, носился надо мной, пытаясь облегчить страдания.
Огня в хате так и не было, и мы сидели в темноте. Тогда дед взял несколько лучинок, сунул их в кучу углей в закутке загнетки и стал раздувать огонь. Наконец это ему удалось, и он зажег большой фитиль от снаряда.
От боли я выл волком. Дед не знал, чем еще мне можно помочь. Тут послышались в сенях шаги, и в хату пришли от соседей баба Тотя с дочерью Марьюшкой. Сначала они подумали, что я уже скончался, и заголосили в два голоса.
– Цыц, бабы! Да жив он, жив! Маленько обжег лицо да разбил голову.
Женщины оглядели меня, стали поправлять повязки, ругать деда – как он мог такое дело доверить мне, ничего не понимающему в таком деле. Три дня, стоная и охая, пролежал я на лавке у окна. Приходили соседки, давали каждая свой совет, приносили разные народные снадобья от ожогов, от рубцов, от волдырей.
Ожог лица был сильный – от самых волос на лбу до кончика носа вся кожа обгорела. «Счастлив твой Бог, – говорили нараспев бабы, – Костючек, что ты успел закрыть глаза, а то мог бы и слепым остаться! Вон у Митьки из Апольни такой же случай произошел. До сих пор сидит с повязкой на глазах и ничего не видит: а уж и в Смоленск, и в Касплю к докторам водили». Отлежавшись и немного окрепнув, я поплелся в Касплю.
Целый день шел домой и все боялся, какая взбучка будет мне от матери. Так оно и оказалось. Увидев меня с тряпкой с двумя дырами для глаз на лице, да еще с перевязанной грязной тряпкой головой, мать всплеснула руками, запричитала, завыла как на похоронах. Я разозлился – ведь у меня болело все лицо – и стал огрызаться. Это ее немного остудило, она схватила меня за руку и потащила на прием к фельдшеру Зуеву, в больницу. Тот, думая, что я что-то разряжал (мину или снаряд), тоже начал меня костить, но, услышав, что произошло, стал развязывать тряпки и все ломал голову, чем бы смазать бинт, чтобы он не прилипал и потом было легче его снимать.
И ожог лица, и рваная рана от кирпича на голове были серьезными. Зуев даже стал писать мне направление в смоленскую больницу. Но мать, зная фельдшера сто лет, упросила полечить меня здесь, в Каспле. «Как-нибудь обойдется, главное – не затронуты глаза». – «Как сказать, Фруза! Ну-ка, Костик, погляди на этот круг. Какого он цвета?» Я, как ни старался, не отгадал. Потом он много еще чего просил меня определить – какого цвета треугольники, кружки, полоски, но я сбивался.
– Видишь, Фруза. Цвета он уже не различает, значит – это дальтонизм. Машину не будет водить, да и в армии ограничения будут.