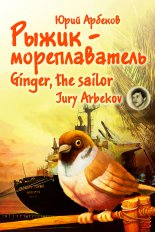Ложная память Мит Валерий

— Марти! — прикрикнул доктор.
Она вновь покорно уставилась в его глаза.
Ариман смотрел на Марти, вглядывался в ее глаза, потом повернулся к Дасти. Он переводил взгляд с одного лица на другое, с мужского на женское, с женского на мужское, еще и еще раз, пока не выговорил с большим потрясением в голосе, чем ему хотелось бы:
— Никаких подергиваний… Нет быстрого сна…
— А одно говно, — отозвался Дасти, вскакивая со стула.
Их поведение изменилось. Исчезли остекленелые взгляды. Исчезло ощущение подчиненности.
Быстрые непроизвольные движения глаз нельзя убедительно имитировать, так что они и не пытались это делать.
Марти тоже встала.
— Кто вы такой? — спросила она. — Что вы за омерзительная жалкая тварь?
Доктору не понравился тон ее голоса, вообще ужасно не понравился поворот событий. Ненависть. Презрение. С ним никогда так не разговаривали. Такую непочтительность было невозможно снести.
Он попробовал восстановить контроль над ситуацией:
— Раймонд Шоу.
Марти только криво усмехнулась.
Дасти начал огибать стол.
Почувствовав, что сейчас может подойти время для насилия, доктор вынул «беретту» из наплечной кобуры.
Увидев оружие, они остановились.
— Вы не можете быть распрограммированы, — настаивал Ариман. — Не можете.
— Почему? — спросила Марти. — Потому, что этого никогда раньше не случалось?
— Что вы имеете против Дерека Лэмптона? — резко спросил Дасти.
От доктора никогда ничего не требовали. По крайней мере, не более одного раза. Он хотел выстрелить в это глупое, глупое, дешево одетое ничтожество, ноль, маляра, всадить ему пулю прямо между глаз, разнести его рожу, выбить к черту мозги.
Но стрельба здесь наверняка повлекла бы за собой неприятные последствия. Полиция с бесконечными вопросами. Репортеры. Пятна на персидском ковре, которые невозможно будет вывести.
На какое-то мгновение он заподозрил предательство в институте.
— Кто распрограммировал вас?
— Это сделала для меня Марти, — спокойно ответил Дасти.
— А Дасти освободил меня.
Ариман замотал головой.
— Вы лжете. Это невозможно. Вы оба лжете.
Доктор услышал нотку паники в своем голосе, и ему стало стыдно. Он напомнил себе, что он Марк Ариман, единственный сын великого режиссера, достигший в своей области больших высот, чем его отец в Голливуде, что он кукольник, а не марионетка.
— Нам многое известно о вас, — сообщила Марти.
— И мы собираемся выяснить еще больше, — пообещал Дасти. — Все мелкие уродливые детали.
Детали. Опять это слово. То самое, которое вчера вечером казалось предзнаменованием. Недобрым предзнаменованием.
Убежденный в том, что они активизированы и их сознание раскрыто для него, он сказал им слишком много. Теперь у них появилось преимущество, и они могли в конечном счете найти способ эффективно использовать его. Подача перешла к противнику.
— Мы намереваемся выяснить, что вы имеете против Дерека Лэмптона, — гнул свое Дасти. — Теперь, когда мы знаем ваши побуждения, это будет еще одним гвоздем в крышке вашего гроба.
— Пожалуйста, — сказал доктор, вздрогнув от притворной боли, — не мучайте меня избитыми образами. Если вы хотите попытаться запугать меня, то будьте любезны, уйдите на некоторое время, усовершенствуйте свое образование, обогатите словарь и возвращайтесь со свежими метафорами.
Это было уже лучше, сказал себе Ариман. Он на мгновение выпал из характера роли. А его роль была очень сложной, высокоинтеллектуальной и богатой нюансами. Из всех актеров, получивших «Оскаров» за участие в слезоточивых фильмах его папочки, никто не мог бы справиться с нею так удачно, как доктор. Случайный отход от изображаемого характера можно было понять, но нужно напомнить себе, что он же владыка памяти.
Теперь в ответ на их жалкую попытку запугивания он преподаст им урок из области реальности:
— Пока вы организуете этот крестовый поход ради того, чтобы отдать меня под суд, вам все равно придется на некоторое время отправиться к вашей доброй старой мамочке. Ваш изящный домик в среду ночью сгорел дотла.
Бедные глупые дети были на мгновение полностью ошеломлены. Они не могли понять, говорит он правду или лжет, а если лжет, то с какой целью.
— Ваша изумительная коллекция мебели из магазинов подержанных вещей, боюсь, полностью пропала. И проклятая магнитофонная кассета, о которой вы упомянули — с записью сообщения Сьюзен, — тоже пропала. Страхование не может вернуть сентиментальной ценности вещей, не так ли?
Теперь они поверили. Ошеломленное выражение бездомных, нищих…
Пока они не успели восстановиться после потрясения, доктор нанес им еще один тяжелый удар.
— Как зовут того идиота с выпученными глазами, на которого вы оставили Скита?
Они переглянулись. Потом Дасти ответил:
— Пустяк.
— Пустяк? — нахмурился доктор.
— Фостер Ньютон.
— А, понятно. Что ж, Пустяк мертв. Получил четыре пули в брюхо и в грудь.
— Где Скит? — хрипло спросил Дасти.
— Тоже мертв. Тоже четыре пули в брюхе и в груди. Скит и Пустяк. Это было хорошее дельце — один двоих.
Когда Дасти снова двинулся в обход стола, Ариман решительно нацелил «беретту» ему в лицо, а Марти, схватив мужа за руку, остановила его.
— К сожалению, — продолжал доктор, — мне не удалось убить вашу собаку. Это был бы прекрасный драматический штрих, который привел бы прямо сейчас к такому милому разоблачению. Как в «Старом горлопане». Но жизнь не бывает организована так же правильно, как кино.
Доктор перехватил инициативу. Если бы сейчас можно было высоко подпрыгнуть и выкрикнуть себе радостное приветствие, то он так и поступил бы.
В этих плебеях кипели неудержимые эмоции, так как, подобно всем таким людишкам, их поведение в гораздо большей степени управлялось сырыми страстями, нежели интеллектом, но «беретта» заставляла их сдерживаться, и поэтому они с каждой секундой вынуждены были все ближе подходить к осознанию того, что пистолет был не единственным и не главным оружием доктора. Если он мог с такой легкостью признаться в убийстве Скита и Пустяка, даже здесь, в своей закрытой от всех посторонних святая святых, то, значит, у него нет ни малейшего опасения в том, что он может подвергнуться судебному преследованию за убийство; он должен быть уверен в своей неприкосновенности. С неохотой, преодолевая горечь, они неуклонно подходили к выводу, что независимо от того, насколько энергично они будут стремиться к победе над ним, он все равно застрелит их, этот игрок высочайшего класса, мощнейшего интеллекта, не признающий никаких правил, кроме своих собственных, с его исключительным талантом к обману — именно поэтому пистолетик является лишь самым незначительным из его вооружений.
Предоставив им короткую паузу для того, чтобы эта правда могла провариться в котле печально-серого вещества их мозгов, доктор решительным ходом устранил опасность ничейного исхода.
— Я думаю, что теперь вам будет лучше уйти. И еще я дам вам совет, чтобы немного подсократить фору в этой игре.
— Игре? — переспросила Марти.
Презрение и отвращение, слышавшиеся в ее голосе, больше уже не задевали Аримана.
— Чего вы все хотите? — спросил Дасти. Эмоции переполняли его, и голос срывался. — Этот институт?…
— О, — небрежным тоном откликнулся доктор, — вы не можете не понимать, что время от времени бывает полезно устранить кого-нибудь, кто препятствует проведению важных политических акций. Или направлять действия кого-то, кто мог бы им посодействовать. А иногда… бомба, брошенная каким-нибудь фанатиком правого крыла, или на следующей неделе левым фанатиком, или драматическое массовое убийство, совершенное преступником-одиночкой, или занимательная авария поезда, или кошмарное бедствие из-за разлива нефти… Все эти веши могут получить ненормально большое освещение в печати, сконцентрировать внимание нации на определенной проблеме и подтолкнуть законодательство, что послужит укреплению стабильности общества и позволит ему успешно уклоняться от крайностей политического спектра.
— И такие люди, как вы, собираются спасать нас от экстремистов?
Игнорируя ее колкость, он продолжал:
— А что касается совета, о котором я упомянул… Начиная с этих пор не спите одновременно. Не расставайтесь друг с другом. Прикрывайте друг другу спины. И помните, что любой прохожий на улице, любой человек в толпе может принадлежать мне.
Он отчетливо видел, что они не желали уходить. Их сердца торопливо бились, в их ушах гремели колокола гнева, печали и потрясения, и им хотелось найти решение прямо сейчас, прямо здесь, как всегда поступал этот сорт людишек, поскольку никто из них не мог выстроить и оценить долговременный стратегический план. Они были не в состоянии преодолеть свою отчаянную потребность в немедленном эмоциональном катарсисе при помощи холодного осознания факта своего полного бессилия.
— Идите, — величественно сказал Ариман, указывая на дверь «береттой».
И они ушли, потому что ничего другого им не оставалось.
Телевизионная камера показала на экране компьютера, как они пересекают приемную и выходят в общественный коридор.
Доктор не стал убирать «беретту» в кобуру. Он положил ее на стол, чтобы ее можно было подхватить одним коротким движением, и принялся обдумывать последние события.
Доктору нужно было узнать намного больше о том, как эта пара дуболомов из черни узнала, что они запрограммированы, и как им удалось самостоятельно распрограммироваться. Их поразительное самоосвобождение казалось ему не столько их собственным достижением, сколько самым настоящим чудом.
К сожалению, крайне маловероятно получить объяснения, если ему не удастся снова накачать их наркотиками, восстановить часовни в сознании каждого из них и заново заложить программу, что представляло собой утомительный процесс из трех сеансов, которые он уже проводил с каждым из них прежде. Теперь они были слишком осторожны, внимательно следили за тонкой линией, разделяющей действительность и фантазию в современном мире, и вряд ли могли предоставить ему такой шанс, несмотря на весь его ум.
Ему предстояло смириться и жить дальше с сознанием существования этой тайны.
Было гораздо важнее остановить их прежде, чем они смогут принести настоящий вред, чем выяснять правду об их мистическом спасении.
Так или иначе, но он не испытывал особого уважения к правде. Правда была липкой аморфной штукой, способной принять перед вашими глазами любую форму. Ариман потратил всю свою жизнь, создавая и переиначивая правду с такой же легкостью, с какой гончар превращает ком глины в горшок или вазу любой формы, какой захочет.
Сила ежедневно доказывала свое превосходство над правдой. Он не мог убить этих людей правдой, но сила, приложенная должным образом, могла сокрушить их и навсегда стряхнуть с игровой доски.
Вынув из своего саквояжа синий мешок, он положил его посреди стола и минуту или две смотрел на него.
Игра могла быть доиграна до конца уже в течение нескольких ближайших часов. Он знал, куда Марти и Дасти отправятся отсюда. Все основные фигуры тоже окажутся в том же самом месте и будут легко уязвимы для такого искусного стратега, как доктор.
Мы намереваемся выяснить, что вы имеете против Дерека Лэмптона. Теперь, когда мы знаем ваши побуждения, это будет еще одним гвоздем в крышке вашего гроба.
Какими безнадежно наивными они были. После всего, что им пришлось перенести, они все еще верили в то, что реальный мир построен по таким же непреложным законам, как и каждый из тех выдуманных, что описываются в детективных романах. Ни улики, ни свидетели, ни доказательства, ни правда не могли помочь им в этом деле. Эту игру двигали более фундаментальные силы.
Надеясь, что киануфобичка не позвонит за время его краткого отсутствия, доктор засунул «беретту» под мышку, спустился в лифте на первый этаж, вышел из здания, перешел через Ньюпорт-Сентр-драйв к одному из ресторанов в близлежащем торгово-досуговом комплексе, нашел телефон-автомат и набрал тот же самый номер, по которому звонил в среду ночью, когда ему нужно было устроить пожар.
Номер оказался занят. Он был вынужден четыре раза повторять вызов, прежде чем ему наконец ответили.
— Слушаю.
— Эд Мэйвол, — сказал доктор.
— Я слушаю, — повторили в трубке, но уже совсем другим тоном.
Выполнив обязательный ритуал с хокку, доктор приказал:
— Скажи мне, ты находишься дома один, или с тобой кто-то есть?
— Я один.
— Выйди из дома. Возьми с собой побольше мелочи. Сразу же найди телефон-автомат, где вокруг тебя хотя бы некоторое время не будет кишеть народ. Через пятнадцать минут от этого момента позвони по этому телефону. — Он назвал номер прямого телефона в своем кабинете, не проходившего через пульт Дженнифер. — Скажи мне, ты на самом деле меня понял?
— Я понял.
Ариман, сосчитав до десяти, вывел объект из часовни сознания на уровень полного сознания, после чего сказал:
— Извините, ошибся номером, — и повесил трубку.
Возвращаясь в свой офис на четырнадцатом этаже, доктор, входя в приемную, огляделся, словно рассчитывал увидеть там киануфобичку, замахивающуюся на него туфлями с длинными и острыми каблуками.
Дженнифер, сидевшая за своим столом, подняла на него глаза и приветливо помахала рукой.
Ариман помахал в ответ, но поспешил войти в свой кабинет прежде, чем она смогла начать восторженные увещевания по поводу того, какую пользу здоровью приносят съедаемые ежедневно пять унций сосновой коры, замоченной в воде.
Вернувшись за свой стол, он вынул «беретту» из кобуры и снова положил ее на стол под рукой.
Из стоявшего в кабинете холодильника он вынул непочатую бутылку газировки из черной вишни и запил водой еще одно печенье. Ему было необходимо добавить сахара в организм.
Он опять вырвался на простор. Раз или два он побывал в опасной близости от рифов, но кризис лишь подбодрил его. Он всегда был оптимистом, а сейчас знал, что от очередной захватывающей победы его отделяют считанные часы, и был возбужден.
Время от времени люди спрашивали у доктора, как ему удавалось день за днем сохранять юношескую внешность, юношескую стройность и неисчерпаемую энергию, несмотря на такую насыщенную трудами жизнь. Он всегда отвечал одинаково: мою молодость сохраняет постоянное состояние увлеченности.
Зазвонил телефон. Необходимо было сразу же активизировать абонента и открыть доступ к его сознанию, поэтому Ариман, сняв трубку, сказал:
— Эд Мэйвол.
— Я слушаю.
После хокку доктор Ариман приступил к инструктажу.
— Ты поедешь прямо в камеру хранения в Анахейме. — Он назвал адрес камеры хранения, номер ячейки, которую арендовал по фальшивому удостоверению личности, и шифр замка на двери. — Там много всяких вещей, но ты найдешь два автомата
«глок» 18-го калибра и несколько запасных магазинов к ним на тридцать три патрона каждый. Возьмешь один из автоматов, и… четырех магазинов должно хватить.
Прискорбно, но когда в доме в Малибу пять человек, с которыми нужно разделаться, а не три, и, чтобы покончить с ними, не двое, а всего один, трудно рассчитывать на то, что этому одному удастся полностью взять дом под свой контроль без большого шума, чтобы потом быть в состоянии спокойно расчленить все жертвы и, согласно первоначальному плану игры, составить ироническую мозаику. Потребуется столько стрельбы, что быстро прибудет полиция и не даст закончить работу. У копов всегда было плохо с чувством юмора.
Но, однако, не исключено, что времени окажется достаточно для того, чтобы превратить сэра Дерека Лэмптона в посмешище, как он того заслуживает.
— Помимо автомата и четырех магазинов, ты возьмешь из камеры хранения только пилу для вскрытия трупов и черепное полотно. Нет, лучше возьми два полотна, на случай, если одно сломается. — Внимание к деталям.
Он подробно описал внешний вид этих инструментов, чтобы исключить возможность ошибки, после чего объяснил, как найти дом Дерека Лэмптона в Малибу.
— Убей всех, кто окажется в доме. — Он перечислил тех, в чьем присутствии был особенно заинтересован. — Но если попадется кто-то другой — соседи, зашедшие в гости, читатели книг мэтра, кто угодно, — убей их тоже. Действуй решительно, быстро переходи из комнаты в комнату, упорно преследуй тех, кто попытается сбежать, но не трать времени впустую. Потом, прежде чем успеет приехать полиция, ты черепной пилой срежешь верхушку черепа доктора Дерека Лэмптона. — Он прочел краткую лекцию по использованию этого инструмента. — Теперь скажи мне, действительно ли ты понял все, что я тебе объяснил.
— Я понял.
— Ты вынешь мозг и отложишь его в сторону. Повтори, пожалуйста.
— Выну мозг и отложу его в сторону.
Доктор в задумчивости разглядывал синий мешок, лежавший на столе. Не было никакой возможности своевременно и без свидетелей встретиться с этим запрограммированным убийцей и передать ему такое полезное произведение Валета.
— Ты должен будешь положить кое-что в пустой череп. Если у Лэмптонов есть собака, ты, может быть, найдешь то, что нужно, но если не найдешь, то произведешь это вещество самостоятельно. — Он дал кукле заключительные инструкции, включая директиву о самоубийстве.
— Я понимаю.
— Я поручаю тебе очень важную работу и уверен в том, что ты выполнишь ее безупречно.
— Благодарю вас.
— Всегда рад тебя видеть.
Положив трубку, Ариман пожалел о том, что у него нет возможности запрограммировать семейство этого гнойного прыща Лэмптона — несносного Дерека, его неряху-жену и их психованного сына — и использовать их в качестве своих марионеток. К сожалению, они тоже знали его и относились к нему крайне подозрительно. У него была исчезающе малая возможность, а то и вовсе никакой, подойти к ним достаточно близко, чтобы дать им необходимые наркотики и провести три длительных сеанса программирования.
Тем не менее он весь кипел. Триумф был уже совсем рядом.
Газировка из черной вишни.
Мертвый дурак в Малибу.
Учитесь любить себя.
Великолепно. Доктор поднял тост за свой поэтический гений.
ГЛАВА 73
На полуострове Кейп-Код или острове Мартас-Виньярд, расположенных на холодном северо-восточном Атлантическом побережье Соединенных Штатов, это здание казалось бы олицетворением Родимого Дома из Американской Мечты, тем местом, по дороге к которому человек на прохладном рассвете Дня Благодарения переходит через спокойную речку и пересекает девственный лес, пронизанный лучами восходящего солнца, тем местом, где снежным рождественским утром в существование Санта-Клауса верят даже взрослые, воплощением идеальной обители идеальной бабушки. Хотя идеального дома — как, впрочем, и идеальной бабушки — в реальной жизни никогда не было, все же эта нация страстных сентиментальных романтиков полагала, что жилища таких бабушек должны выглядеть именно так. Выложенная сланцевыми плитками крыша с открытой галереей. Фронтоны из серебристой кедровой доски. Оконные рамы и ставни, покрытые свежими белилами, чуть отливающими голубизной. Просторная веранда с белыми плетеными креслами-качалками и подвешенной на новых пеньковых веревках скамьей-качалкой. Наманикюренный двор с пышными клумбами, каждую из которых окружает чисто белый заборчик высотой в фут. В не столь уж далеком прошлом на Кейп-Коде или Мартас-Виньярде можно было бы увидеть Нормана Рокуэлла[57], сидящего во дворе перед мольбертом и изображающего на холсте двух очаровательных детей, бегущих за гусем с недовязанным алым бантом на шее, и счастливую собаку, играющую на заднем плане.
Здесь, в Малибу, даже в разгар субтропической зимы, на невысоком берегу Тихого океана, с лестницей, сбегающей к пляжу, окруженный многочисленными пальмами, красивый, изящный, хорошо задуманный, хорошо спроектированный и хорошо построенный дом казался решительно не на своем месте. Чья бы то ни было бабушка, живи она здесь, обязательно имела бы выкрашенные в ярко-синий цвет ногти, химически обесцвеченные белокурые волосы, губы с чувственными коллагеновыми очертаниями и тяжелые груди, увеличенные рукой хирурга при помощи все того же коллагена. Дом был светлым вымыслом, под кровом которого гнездились темные истины, и при виде его — а это был всего лишь пятый визит Дасти сюда за почти двенадцать лет, с тех пор как ему исполнилось восемнадцать, — он испытал то же чувство, что и прежде: холодную иглу в сердце.
Дом, конечно, не был виноват. Это был всего лишь дом.
Однако когда они с Марти, оставив машину на подъездной дорожке, поднимались по ступенькам к парадному подъезду, он сказал вслух:
— Минас-Моргул[58].
Он не осмеливался думать об их собственном маленьком домике в Короне-дель-Мар. Если тот действительно сгорел дотла, как заверял Ариман, то Дасти не был готов сейчас раскрыться для переживаний. Конечно, дом — это всего-навсего дом, любое имущество можно нажить заново, но если вы в этом доме счастливо жили и любили, если у вас о нем хорошие воспоминания, то потеря его не может не огорчать.
Точно так же он не смел думать о Ските и Пустяке. Если Ариман сказал правду, если он действительно убил их, то и во всем этом мире, и в сердце Дасти окажется куда больше черных пятен, чем было вчера, и все время, пока он жив, им предстоит разрастаться и чернеть. Сообщение о возможной потере беспокойного, но всем сердцем любимого брата заставило его наполовину оцепенеть, и это было вполне естественно, но он был немного удивлен тем, как глубоко потрясло его известие о смерти Пустяка; флегматичный прилежный маляр был, конечно, немного странноватым, но хорошим и добрым человеком, и с его уходом в жизни Дасти вместо его своеобразной, но искренней дружбы образовалась еще одна пустота.
Он позвонил. Дверь открыла Клодетта, его мать, и Дасти, как всегда, был потрясен и обезоружен ее красотой. В пятьдесят два года ей можно было дать не больше тридцати пяти, а когда ей было тридцать пять, она обладала очарованием, которое, когда она просто входила в комнату, заставляло замереть на месте всех, кто находился в помещении, и это очарование, вне всякого сомнения, останется при ней и в восемьдесят пять. Его отец, второй из ее четырех мужей, когда-то сказал: «С самого рождения Клодетта была настолько хороша, что ее хотелось съесть. И с тех пор мир каждый день смотрит на нее, и его рот наполняется слюной». Это было настолько верно и настолько афористично, что, вероятнее всего, Тревор, его отец, где-то вычитал эти слова, а не выдумал их сам. Хотя эта характеристика казалась на первый взгляд грубоватой, но на самом деле она такой не была. Она была верной. Тревор не имел в виду ее сексуальность. Он говорил о красоте, отделенной от сексуального влечения, о красоте как идеале, красоте, которая была настолько потрясающей, что воспринималась прямо душой. Женщины и мужчины, младенцы и столетние старики равно тянулись к Клодетте, хотели быть рядом с нею, и когда они не отрываясь глядели на нее, то в глубине их глаз читалось нечто наподобие чистой надежды и нечто вроде экстаза, но отличное и от того, и от другого и таинственное. Любовь, которую в изобилии отдавали ей, была любовью незаслуженной — и неоплаченной. Ее глаза походили на глаза Дасти, серо-голубые, но в них было меньше синевы, чем у него, и в них он никогда не видел того, что каждый сын хочет увидеть в глазах своей матери. И при этом он всегда видел тщетность надежды на то, что она нуждается или хотя бы может согласиться принять ту любовь, которую он готов был излить на нее. Когда он был ребенком, этого желания было больше, но все же оно сохранилось в нем до сих пор.
— Шервуд, — сказала она, не собираясь ни дать сыну поцеловать себя, ни протянуть ему руку, — что, теперь все молодые люди приходят в гости без предупреждения?
— Мама, ты же знаешь, что меня зовут не Шервуд…
— Шервуд Пенн Родс. Так написано в твоем свидетельстве о рождении.
— Ты отлично знаешь, что я официально сменил это имя…
— Да, когда тебе было восемнадцать лет. Ты был непослушным и еще более дурашливым, чем сейчас, — ответила она.
— Дасти — так все мои друзья называли меня, еще когда я был маленьким.
— Ты всегда дружил с худшими учениками в классе, Шервуд. И вообще связывался с самыми неподходящими людьми. Казалось, что ты делал это нарочно. Дастин Родс. О чем ты думал? Как мы могли бы глядеть в глаза культурным людям, представляя тебя как Дасти[59] Родса?
— Именно на это я и рассчитывал.
— Привет, Клодетта, — сказала Марти, которую хозяйка упорно не желала замечать.
— Дорогая, — повернулась к ней та, — пожалуйста, прояви свое хорошее влияние на мальчика и убеди его вернуться к имени, достойному взрослого человека.
Марти улыбнулась.
— Я люблю Дасти: и его имя, и самого мальчика.
— Мартина, — сказала Клодетта, — вот это настоящее человеческое имя.
— Мне нравится, когда меня называют Марти.
— Да, я знаю. Как неудачно. Ты подаешь не слишком хороший пример Шервуду.
— Дастину, — возразил Дасти.
— Только не в моем доме, — провозгласила Клодетта.
Каждый раз с тех самых пор, как он ушел отсюда, и независимо от того, сколько времени прошло с его предыдущего визита, мать приветствовала Дасти таким отчужденным образом. Не всегда речь шла о его имени, порой обсуждалась его одежда, свойственная только представителям низших слоев общества, или его неэлегантная стрижка, или же рассматривался вопрос о том, занялся ли он уже «настоящей» работой или все еще красит дома. Однажды она затеяла с ним диспут по поводу политического кризиса в Китае и продержала его в дверях не меньше пяти минут, которые Дасти показались часом. В конечном счете она всегда приглашала его внутрь, но он никогда не был до конца уверен, что она позволит ему переступить порог.
Однажды Скит пришел в чрезвычайное волнение, посмотрев кинофильм об ангелах с Николасом Кейджем в роли одного из крылатых. Суть фильма заключалась в том, что ангелам-хранителям не разрешено познать ни романтической любви, ни других сильных чувств; они должны оставаться строго рациональными существами, чтобы служить человечеству, не соединяясь с ними узами чрезмерной эмоциональной сопричастности. Для Скита это послужило объяснением всего поведения их матери: ее красоте могли позавидовать даже ангелы, но она могла быть холоднее, чем запотевший кувшин лимонада в разгар лета.
Наконец, вдоволь насладившись психологическим превосходством, полученным в результате беседы в дверях, Клодетта сделала шаг в сторону, без слова или жеста предложив гостям войти.
— Один сын появляется с э-э… гостем почти в полночь, другой с женой, и ни тот, ни другой даже и не думают предварительно позвонить. Я знаю, что оба посещали курсы хороших манер, но, очевидно, деньги были потрачены впустую.
Дасти решил, что, говоря об еще одном сыне, она имела в виду Младшего; тому было пятнадцать лет, и он жил здесь. Но когда они с Марти прошли мимо Клодетты, им навстречу по лестнице, чуть ли не кубарем, скатился Скит. Он казался более бледным, чем был при их последней встрече, еще сильнее исхудал, темные круги под глазами стали больше, но он был жив.
— Ух-ух-ух! — воскликнул Скит, обнимая Дасти, а затем повторил ту же речь, обнимая Марти.
— Но мы думали, что ты… — пробормотал ошеломленный Дасти.
— Нам сказали, что ты… — подхватила Марти.
Прежде чем кто-то из них смог закончить фразу, Скит вздернул свой пуловер и рубашку, заставив мать содрогнуться от отвращения, и продемонстрировал свой голый торс.
— Пулевые раны! — с удивлением и странной гордостью объявил он.
Его впалую грудь и тощий живот украшали четыре страшных синяка с уродливыми багрово-черными серединами и бледнеющим к краям ореолом.
Воспрянувший к жизни при виде Скита, но тем не менее донельзя озадаченный, Дасти переспросил:
— Пулевые раны?
— Ну, — поправился Скит, — это были бы пулевые раны, если бы я и Пустяк…
— Пустяк и я, — поправила мать.
— Да, если бы Пустяк и я не надели кевларовые бронежилеты.
Дасти почувствовал, что ему необходимо сесть. Марти тоже была потрясена. Но они примчались сюда потому, что чувствовали: время не терпит, и потеря его теперь могла оказаться смертельной ошибкой.
— А что вы делали в бронежилетах?
— Хорошо, что вы не захотели взять их в Нью-Мексико, — сказал Скит. — Я и Пустяк… — он виновато взглянул на мать, — Пустяк и я решили тоже сделать что-нибудь полезное, и сели на хвост доктору Ариману.
— Вы что?
— Мы следили за ним в грузовике Пустяка…
— Который я заставила их поставить в гараж, — вставила Клодетта. — Я не желаю, чтобы такой автомобиль видели на моей дорожке.
— Это прекрасный грузовик, — возразил Скит. — Так или иначе, мы надели жилеты, просто так, на всякий случай, и поехали за ним, а он каким-то образом обнаружил нас и сам принялся следить за нами. Мы думали, что потеряли его, и поехали на пляж. Когда мы там пытались вступить в контакт с одной из плавучих баз, он просто-напросто подошел к нам, выстрелил в каждого из нас по четыре раза.
— Боже мой! — с трудом выговорила Марти.
Дасти затрясло; его переполняла масса эмоций, которые он не мог ни поименовать, ни даже разделить. Однако он заметил, что глаза Скита ярче и яснее, чем за все время, прошедшее с того праздничного дня, когда, более пятнадцати лет назад, они вдвоем наполнили коробку собачьим дерьмом и послали его Холдену Колфилду-старшему, которого Клодетта отвергла в пользу Дерека.
— На нем была лыжная маска, так что мы не смогли бы верно описать его в полиции. Мы даже не ходили в полицию. Подумали, что от нее не будет никакого толку. Ну и что, все равно мы знали, что это был он. Ему не удалось нас одурачить. — Скит весь сиял, как будто они задержали психиатра на месте преступления. — Он два раза выстрелил в Пустяка, потом четыре раза в меня. Это было все равно, как если бы мне прямо по кишкам колотили молотком; из меня все дыханье вышибло, я чуть сознание не потерял; хочу глотнуть воздуху, и не могу, потому что даже за воем ветра он мог услышать меня и понять, что я на самом деле не мертв. Притворился убитым. Пустяк тоже. Так вот, прежде чем повернуться к Пустяку и выстрелить в него еще два раза, этот парень говорит мне: «Твоя мать шлюха, отец мошенник, а у отчима свиное дерьмо вместо мозгов».
— Я никогда даже не встречалась с этим штамповщиком псевдопсихологического бреда, — ледяным тоном сказала Клодетта.
— Потом я и Пустяк, Пустяк и я, мы оба поняли, что Ариман поспешно удрал, но мы еще полежали там, потому что были перепуганы. И некоторое время просто не могли двигаться. Словно нас парализовало. Чуете? А потом, когда мы смогли шевелиться, приехали сюда, чтобы выяснить, почему он считает мою мать шлюхой.
— Вы были в больнице? — взволнованно спросила Марти.
— Нет, со мной все прекрасно, — беззаботно ответил Скит, опустив наконец свитер.
— У тебя могло быть сломано ребро, внутренние повреждения.
— Я говорила ему то же самое, — сказала Клодетта, — но безуспешно. Ты же знаешь, Шервуд, что собой представляет Холден. У него всегда было больше энтузиазма, чем здравого смысла.
— Отправиться в больницу — очень хорошая идея. А сделать это не поздно и сейчас, пока травмы совершенно свежие, — обратился Дасти к брату. — Это будет прекрасная улика на тот случай, если нам удастся доставить этот кусок говна в суд.
— «Ублюдок», — наставительно заметила Клодетта, — или «сукин сын». И то и другое годится, Шервуд. Бессмысленная вульгарность не впечатляет меня. Если ты считаешь, что слово «говно» шокирует меня, то подумай, прежде чем употребить его снова. Но мы, в этом доме, никогда не считали, что Вильям Берроуз имеет отношение к литературе, и не собираемся менять свою точку зрения.
— Мне нравится твоя мать, — сообщила Марти мужу.
Глаза Клодетты почти незаметно прищурились.
— А как там, в Нью-Мексико? — спросил Скит.
— Край очарования, — ответил Дасти.
В конце вестибюля отворилась дверь, ведущая в кухню, и оттуда появился Дерек Лэмптон. Он приближался, развернув плечи, с прямой, как шомпол, спиной, выпяченной грудью, но, хотя его осанка была совершенно такой, какая подобает старому вояке, все же казалось, что он крадется мимо стоящих.
Скит и Дасти стали тайно называть его между собой Гадом с первого же дня после его появления, имея в виду, что он похож на пресмыкающееся. Но Лэмптон больше походил на норку. Он был таким же складным и гладким, с густыми и блестящими, как мех этого зверька, волосами и быстрыми, черными, осторожными глазками создания, которое успевает совершить пагубный налет на курятник, стоит фермеру лишь на минутку отвернуться. На руках у него (он не протянул руки ни Дасти, ни Марти) были более заметные, чем у большинства людей, кожистые перепонки между изящными пальцами, а ногти имели слегка заостренную форму, словно коготки на проворных звериных лапках. Норка из семейства куньих, близкая родственница ласки и хорька.
— Что, кто-то умер, и мы знакомимся с завещанием? — спросил Лэмптон. Он считал, что обладает исключительным чувством юмора, а произнесенная фраза была, вероятно, одним из самых изысканных приветствий, которые от него можно было ожидать.
Он осмотрел Марти с головы до ног, задержавшись на груди, укрытой свободным свитером, поскольку никогда не считал нужным скрывать свой интерес к привлекательным женщинам. Встретившись наконец с ней взглядом, он обнажил свои мелкие, острые, снежно-белые зубки. Он считал этот оскал улыбкой и, пожалуй, искренне верил в то, что его улыбка была соблазнительной.
— Шервуд и Мартина на самом деле побывали в Нью-Мексико, — сообщила мужу Клодетта.
— Неужели? — удивился Лэмптон, вздернув брови.
— Я же говорил вам, — вмешался Скит.
— Действительно, — подтвердил Лэмптон, обращаясь скорее к Дасти, чем к Скиту. — Он сказал нам об этом, но с такими яркими деталями, что мы предположили, что это были не столько действительные события, сколько одна из его болезненных фантазий.
— У меня нет болезненных фантазий, — возразил Скит. Он старался говорить твердо, но не решался встретиться взглядом с Лэмптоном и произнес свою протестующую речь, глядя в пол.
— Холден, не кидайся в бой, — успокоил его Лэмптон. — Говоря о твоих болезненных фантазиях, я вовсе не осуждаю тебя, точно так же, как не стал бы осуждать Дасти, если бы мне пришлось упомянуть о его патологическом отвращении к авторитетам.
— У меня нет патологического отвращения к авторитетам, — сказал Дасти, сердясь на самого себя за то, что не смог преодолеть потребности ответить. Но он старался, чтобы его голос звучал спокойно, даже дружественно. — Я питаю законное отвращение к мнению о том, что кучка представителей элиты имеет право указывать всем остальным, что они должны делать и что думать. Я испытываю неприязнь к самозваным экспертам.
— Шервуд, — заметила Клодетта, — ты ничуть не подкрепляешь свою аргументацию, используя неумышленный оксюморон, такой, как «самозваные эксперты».
— Клодетта, на самом деле это не был оксюморон, — с совершенно спокойным лицом ровным голосом сказала Марти. — Это был эвфемизм[60], и он использовал слово «самозваный» вместо более вульгарного, хотя и более точного определения «наглые говенные эксперты».
Если бы даже в нем хоть когда-либо возникало малейшее сомнение в том, что он будет всегда любить Марти, то теперь Дасти понял наверняка, что не разлюбит ее никогда, даже на бесконечных дорогах времени.