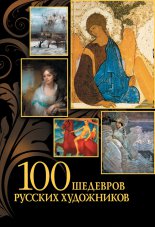Жили-были на войне Кузнецов Исай

Однако война кончилась. И если солдаты с нетерпением ожидали демобилизации, то офицеры испытывали чувства довольно противоречивые. С одной стороны – радость, что опасность погибнуть от пули, бомбы или снаряда больше не угрожает, с другой – неуверенность и беспокойство: как жить дальше? Война стала делом более привычным и понятным, чем будущая мирная жизнь. Далеко не всем предстояло остаться в армии, и не все понимали, что они будут делать на гражданке. К тому же сверху поступали приказы и распоряжения с требованием укрепить дисциплину и вернуться к жесткому армейскому распорядку. В частности, возобновить регулярные занятия строевой подготовкой, каковая есть главное средство укрепления воинской дисциплины. А после вольной фронтовой жизни это сильно не нравилось не только солдатам, но и офицерам.
Именно за изучением одного из таких приказов и застал полковника вернувшийся из каптерки его ординарец Каблуков.
И тут появляется еще одно лицо, безусловно, имеющее непосредственное отношение к нашей истории, – Тонька Шурыгина, телефонистка, девица с круглым, миловидным личиком и стройной, чуть полноватой фигурой, хорошо и детально знакомой едва ли не половине офицеров бригады. В данный момент, вот уже третий месяц, Тонька была как бы официальной любовницей командира батальона.
Хотя полковник Сухарев был женат и имел двоих детей, Тонька не теряла надежды стать со временем полковницей, а впоследствии и генеральшей.
Появилась она в роскошном черном пеньюаре с обилием рюшей и оборок, очевидно, не вполне понимая предназначение подобного одеяния.
– Что принес? – спросила она Каблукова, усаживаясь на подлокотник кресла, в котором располагался полковник, и обнимая его за плечи пухленькой обнаженной ручкой.
Каблуков протянул ей коробку шоколадных конфет.
– Хочу! – промурлыкала Тонька и, раскрыв коробку, сунула в рот шоколадку.
Каблуков рассказал о виденной им спортивной винтовке оберштурмбаннфюрера – причем совсем не тем тоном, каким высказывался в каптерке, – добавив, что винтовка принадлежит уже не Травникову, а капитану Подлеснову.
Тонька прищурила свои подведенные глазки.
– Хочу! – заявила она решительно.
– На черта тебе спортивная винтовка, – рассмеялся полковник.
– Хочу! – настойчиво и даже требовательно повторила Тонька и положила в рот еще одну конфету.
Полковник пожал плечами:
– Не могу же я приказать капитану отдать ее.
– Можешь! – твердо сказала Тонька. – Ты полковник! А он всего-навсего капитан. Она должна быть у тебя! Хочу!
Александр Кондратьевич признавал, что в словах Тоньки есть определенный резон: такая уникальная вещь, конечно, должна принадлежать ему, а не мальчишке капитану. Однако просто приказать отдать ему винтовку он, разумеется, не мог. Заполучить ее надлежало каким-то способом, более пристойным. Полковник задумался.
– Сержант приобрел ее незаконно, – вставил свое слово Каблуков, – не имел он права брать ее там, в ратуше. Да еще и дарить капитану.
– Да? Может быть… Может быть… – пробормотал полковник. – Не знаю, не знаю…
И тогда Тонька, топнув ножкой, произнесла еще раз свое “хочу!” и, прижавшись щекой к щеке полковника, ласково-капризным тоном промурлыкала:
– Ну прошу тебя, котенок, будь мужчиной! Сделай это для меня!
– Ладно, – согласился растаявший Александр Кондратьевич и поцеловал ее в шейку. – Будь по-твоему.
Он взглянул на часы и, хотя было не так чтобы поздно, решил, что займется этим щекотливым делом завтра.
А на другой день на мосту, где в тот день работала рота капитана Подлеснова, произошло ЧП.
Стояла такая жара, что многие солдаты поскидали гимнастерки и работали голыми по пояс. Старшина Беляков, входя в положение солдат, распорядился привезти на мост десяток ящиков с небольшими квадратными бутылочками желтоватого цвета. Он сам попробовал пахнущую апельсинами жидкость и даже причмокнул от удовольствия.
Стоявший рядом пожилой немец из тех “работоспособных”, которых привел на мост сержант Травников, что-то сказал Белякову. Но когда старшина, не поняв ни слова, протянул ему бутылочку, тот засмеялся и замахал руками:
– Nein, nein!
Солдаты быстро расхватали бутылочки и, опорожнив их содержимое, тут же выбрасывали пустую тару в Эльбу, под сдержанно неодобрительными взглядами немцев. А через минуту все они, один за другим, срывались с места и исчезали под удивленным взглядом старшины.
Немцы, посмеиваясь, пытались что-то объяснить Белякову, но вовсе не их тарабарщина, а собственное самочувствие подсказало старшине разгадку непонятного поведения солдат. Он вдруг почувствовал настоятельную необходимость срочно, не медля ни секунды, опорожнить свой желудок и тоже бросился искать место, где это можно сделать, не роняя старшинского достоинства.
Вернувшись из-под моста, он застал сержанта Травникова, разглядывающего злополучные бутылочки.
– Что за чертово зелье?! – крикнул ему старшина. – Что это такое?
– Где ты их взял? – спросил Травников.
– Да Новоселов откопал на каком-то складе. Что там написано?
– Детское концентрированное слабительное – десять капель на стакан воды. Сколько ты выпил?
Беляков сочно, по-русски выругался. И только выражение лица Белякова удержало сержанта от смеха.
Солдаты постепенно возвращались на мост, однако, постояв минуту в раздумье, тут же снова бежали кто куда.
– Что случилось, старшина? – спросил подошедший к нему капитан Подлеснов, ненадолго отлучавшийся в штаб. – Куда все подевались? Где солдаты?
– Срут, – мрачно выдавил из себя Беляков.
– Что-что? – опешил капитан.
Выслушав объяснения старшины, Сережа рассмеялся, но, заметив усмехающихся немцев, тут же оборвал смех.
– Отпусти всех на полчаса, – приказал он и, улыбнувшись, добавил: – Пусть отосрутся.
Когда известие о конфузном происшествии на мосту дошло до полковника Сухарева, он решил, что это неплохой повод вызвать капитана на ковер. Но по зрелом размышлении предпочел лично посетить его, дабы собственными глазами взглянуть на эту эсэсовскую штуковину и, если она того стоит, заполучить ее. Ему казалось, что он знает, как этого добиться.
Сережа Подлеснов проживал невдалеке от моста, на самом берегу Эльбы, в небольшом домике, отделанном по белой штукатурке длинными деревянными брусьями в стиле фахверк. Домик принадлежал актрисе Дрезденского драматического театра Ингеборг Ульман, или просто Инге, молодой миловидной женщине, напомнившей Сереже знаменитую Марику Рёкк, которую он видел недавно в каком-то немецком фильме. Сидя за круглым изящным столиком, Сережа рисовал свою хозяйку, которая в небрежной позе сидела в кресле, поглаживая большого рыжего кота по кличке Зигфрид, или сокращенно Зиги, и смотрела на Сережу с легкой, непринужденной улыбкой. Ей нравился этот молодой русский офицер, импонировала его деликатность, шедшая вразрез с тем представлением о русских, которое сложилось у нее по первым с ними встречам, не внушившим ей лестного о них мнения. К тому же пребывание в доме русского офицера гарантировало от нежелательного вторжения солдат, вовсе далеких от всякой деликатности.
Автор не исключает, что отношения их выходили за рамки отношений между хозяйкой и постояльцем, то есть были более интимными. Правда, Сережа знал всего несколько немецких слов, что затрудняло их общение, но известно, что в подобных случаях улыбки и жесты вполне заменяют слова. К тому же химинструктор Травников частенько посещал капитана и со своим знанием языка давал им возможность узнать друг о друге побольше.
Впрочем, это так, к слову. Какими бы их отношения ни были, никакого влияния на последующие события они не имеют.
Появление полковника Сухарева прервало эту идиллическую сцену. Сережа вскочил, уронив альбом на пол, и вытянулся, отдавая честь.
– Сиди, сиди! – махнул рукой Александр Кондратьевич.
Инга улыбнулась полковнику и, держа на руках рыжего Зигфрида, удалилась. Александр Кондратьевич проводил ее оценивающим взглядом и, садясь в оставленное ею кресло, подмигнул Сереже:
– Миленькая немочка! Весьма!
Сережа покраснел.
– Ну, ну, не смущайся, дело житейское, – заметив его смущение, успокоил его полковник. – Да ты садись!
Сережа подобрал с полу альбом и, слегка поколебавшись, сел.
– Значит, наложила твоя рота в штаны, – посмеиваясь, проговорил Александр Кондратьевич. – Удружил тебе старшина!
Сережа вымученно улыбнулся.
– Ладно, чего не бывает. Не в боевой обстановке.
Сухарев закурил, раздумывая, как поаккуратней подойти к сути того дела, ради которого пришел.
Вошла Инга с подносом, на котором стояла бутылка “либфраумильх” и два хрустальных бокала. Поставив вино и бокалы на стол, она произнесла хорошо известное русским слово bitte. Уходя, она неосторожно прошла так близко от полковника, что тот не удержался и шлепнул по ее кругленькой, весьма соблазнительной попке. Инга передернула плечами и, сделав попытку улыбнуться, удалилась.
– М-да… Неплохо устроился, – сказал Александр Кондратьевич, проводив ее глазами. – Совсем недурно! – добавил он, беря в руки бокал, в который Сережа успел налить вино.
Отпив глоток, он поморщился и поставил бокал на стол:
– Дрянь… Не для русского человека.
– Я принесу что-нибудь покрепче. – Сережа хотел встать, но полковник удержал его успокаивающим жестом.
– Не надо. – Он пристально поглядел на капитана. – Ну, показывай!
– Показывать что? – не понял Сережа.
– Ну, это… То, что тебе химинструктор подарил. Наслышан, наслышан… Показывай!
Сережа вышел из комнаты и тут же вернулся, неся ящик с подарком оружейников Зуля. Поставив ящик на стол, он приоткрыл крышку.
Полковник встал, подошел поближе, провел рукой по инкрустированной поверхности приклада.
– Да, вещь… – Он нагнулся, разглядывая гравировку ствола. – Умеют работать, сволочи! – Подняв голову, он, лукаво прищурившись, взглянул на Сережу. – Значит, сержант подарил эту штуковину капитану? А не хотел бы капитан подарить ее полковнику? А?
– Подарить… – растерялся Сережа.
Полковник не ответил. Он взял со стола альбом с Сережиными рисунками, полистал его.
– М-да… Рисуешь похоже… Может, и впрямь художник, а не военный? Взаправду – талант?
Сережа смотрел на полковника с недоумением – первый раз тот говорил о его пристрастии без насмешки.
– А что если все-таки не посылать тебя в академию? – как бы раздумывая про себя, проговорил Александр Кондратьевич. – М-м… Что ж, это можно. Это – запросто. Все в нашей власти. Напишем бумагу в художественный институт или как он там называется, дескать, талант и все такое… Так сказать, рекомендацию. А? Ты не против?
– Не против, – чуть слышно пролепетал Сережа.
– Вот и отлично! Так и сделаем. – Полковник похлопал его по плечу. – Ну, так как насчет подарка? А?
– Возьмите, товарищ полковник, – проглотив слюну, произнес Сережа. – Он ваш.
Так подарок оружейников Зуля оберштурмбаннфюреру Кноху обрел нового хозяина, пробыв у капитана Подлеснова не более суток.
4
Однако шедевр оружейного искусства не задержался и у полковника Сухарева. Достоверно известно, что инкрустированный ящик со спортивной винтовкой стал собственностью командира бригады генерала Бородая.
Генерал, прежде за глаза именуемый Бородой, с некоторых пор получил новое прозвище – генерал Дай, тоже связанное с его фамилией. Поговаривали, что не было такого ценного трофея, который так или иначе не перекочевал бы из рук его подчиненных в его собственные, и что он отправил в Москву пару грузовиков, груженных его приобретениями.
Насчет грузовиков можно и усомниться, но что спортивная винтовка оберштурмбаннфюрера оказалась у генерала, сомневаться не приходится. Об этом знала вся бригада.
Вообще полковнику Сухареву не повезло. От него ушла не только винтовка, но и любвеобильная Тонька. Ушла к генералу из соседней части. Однако – к генералу.
Что касается подарка оружейников Зуля, след его обнаружился неожиданно в середине шестидесятых годов.
Журналисту Вадиму Травникову было дано задание не то от “Красной звезды”, не то от “Комсомольской правды” написать статью об открывшейся в Ленинграде выставке спортивного оружия. Травников не слишком хорошо разбирался в спортивном оружии, но, как известно, журналисту вовсе и не требуется досконально знать предмет, о котором он пишет. Более того, знание предмета, как правило, перегружает текст подробностями, не всегда понятными и малоинтересными простому читателю. Читатель предпочитает незамысловатость, занимательность и легкость изложения.
Выставка располагалась в трех просторных залах Военно-исторического музея. Вадим Травников бродил вдоль витрин с экспонатами, выискивая такие, которые можно было бы эффектно преподнести в статье, вроде арбалета, принадлежавшего одному из великих князей, или пистолета первого чемпиона Советского Союза по спортивной стрельбе.
И вдруг в одной из витрин он увидел хорошо знакомый инкрустированный ящичек, на котором в том углу, где была золотая пластинка с дарственной надписью, виднелся светлый след от снятой пластинки, а рядом лежала в собранном виде спортивная винтовка господина Кноха. Над витриной висела табличка: “Работа мастера Гельмута Вальдорфа. Город Зуль. Германия”. А чуть ниже, мелким шрифтом – “Из коллекции маршала…” В общем, маршала, чье имя хорошо известно.
В первое мгновение Травникову показалось, что он набрел на интересный, в чем-то даже сенсационный материал и может сделать великолепную статью. Но тут же отказался от этой мысли. Более того, решил даже не упоминать ни о маршале, ни об истории этого экспоната.
Тем не менее он еще постоял перед витриной, вспоминая городок Копиц, Эльбу, Сережу Подлеснова, ныне известного художника-баталиста, старшину Белякова, полковника Сухарева и вообще незабываемую весну сорок пятого. Интересно, подумал он, как попала эта винтовка к маршалу? Непосредственно от Бородая или прошла еще через чьи-нибудь руки? Травников усмехнулся и отошел от витрины.
Вот такая история…
Какую же мораль можно из нее вывести? Да никакую. Какая мораль может быть у анекдота?
Говорят, впрочем, что похожий анекдот произошел в конце войны и в городе Будапеште с автомобилем некоего шведского дипломата, сгинувшего, по слухам, в недрах ГУЛАГа. Будто, украденный каким-то незадачливым солдатом, этот автомобиль в результате схожих перипетий оказался у легендарного героя гражданской войны, тоже, кстати сказать, маршала.
Хотя это, конечно, легенда, однако можно предположить, что история с подарком оружейников Зуля оберштурмбаннфюреру Кноху не так уж уникальна. Да это и естественно, иначе быть не может, поскольку всякая армия зиждется на субординации, на прямой зависимости младших чинов от старших и безусловном подчинении начальству. Без этого не было бы самой армии. Без этого она бы просто развалилась. В одночасье.
Остается неясным вопрос, как попал этот шедевр Гельмута Вальдорфа, мастера-оружейника из Зуля, в городок на Эльбе? И кто такой этот оберштурмбаннфюрер Кнох, кем он был, если ему дарили столь ценные подарки?
Ответить на эти вопросы автор не может.
Потому что не знает.
Маленький Талипов, фрау Шметерлинг и важный политический офицер
Не могу представить себе Талипова взрослым. Вернее, не взрослым, ему и тогда было за двадцать, не могу представить семидесятилетним, пожилым. Талипов помнится мне таким маленьким, а лицо его до такой степени детским, что даже наш генерал, встречая его возле штаба, где он числился прикомандированным, всякий раз спрашивал, сколько ему лет. Талипов производил впечатление подростка. Генерал, естественно, забывал о нем и, снова встретив Талипова, интересовался его возрастом. Личико Талипова, чуть желтоватое, с косыми щелочками глаз, было таким по-детски доверчивым, что никто не осмеливался его обидеть. Сейчас ему за семьдесят, и представить, как он выглядит, довольно трудно. Вряд ли он подрос, наверно, такой же маленький и щуплый, с таким же доверчиво лукавым выражением на крохотном личике. Разве что мелкие морщины и реденькая бородка удлиняют сморщенное, как печеное яблочко, лицо.
Впрочем, как он выглядит сегодня, не так уж и важно, он остался жив, мог и погибнуть. Для меня он существует только в том, далеком времени и только таким, каким его помню. Не исключено, что чуть ниже ростом, чем был на самом деле, наивней, чем был в действительности.
Его товарищи, прибывшие к нам в часть вместе с ним, не разделяли снисходительного отношения к маленькому Талипову. Мне доводилось слышать явно нелестные, судя по тону, слова, которыми обменивались по его поводу на родном языке и Муташов, и Скирков, и другие, несшие все тяготы солдатской службы.
Талипов был приписан к штабу. Определенных обязанностей он не имел, топил баню, созывал офицеров на совещания, помогал в каптерке, разносил письма, мыл в штабе полы и окна. По сравнению со своими товарищами маленький Талипов жил совсем неплохо.
Тем не менее он завидовал им. Хотя они и подвергались значительно большей опасности, чем он сам, но чувствовали себя вольготней, позволяя себе развлечения, Талипову, круглые сутки привязанному к штабу, недоступные. Конечно, он мог бы попроситься в роту, таскать под огнем щиты и прогоны, минировать, разминировать, вообще вести ту жизнь, которую вели его товарищи, прибывшие с ним на фронт в конце сорок третьего года.
Но Талипов боялся смерти.
Все, естественно, боятся смерти, но не так откровенно, как Талипов.
– Муса, – спрашивали его, – ты кого-нибудь боишься?
– Нет, – улыбаясь, качал головой Талипов. – Никого не боюсь.
– И старшину не боишься?
– И старшину не боюсь.
– И генерала не боишься?
– И генерала…
– А что, Муса, смерти тоже не боишься? – спрашивали его.
Муса втягивал голову в худенькие плечики и озабочено оглядывался. Губы его начинали шевелиться, будто он читал молитву, и шепотом, чтобы она – смерть – не услышала его, произносил:
– Боюсь…
Ответ этот, как, впрочем, и вся его заранее известная реакция на этот часто задаваемый ему вопрос, неизменно вызывала общий смех. Мне и сейчас не до конца понятно, чему мы смеялись, почему нам казалось таким уж смешным то, что Талипов откровенно признавал, что боится смерти. Может быть, искреннее, бесстыдное признание страха смерти, недостойное, некрасивое, сама форма этого признания веселила нас? Однако я заметил, что чаще всего подобный допрос происходил после бомбежки или обстрела, после пережитого всеми страха смерти.
Нет, Талипова не тянуло в роту. Его вполне устраивало придурочное существование при штабе.
И все же его мучило то, что он не мог чувствовать себя на равных с теми, с кем он вместе к нам прибыл. Когда Рахмету Муташову дали орден Красной Звезды, Муса пришел к нему в землянку и, сидя в углу на корточках, смотрел, как Рахмет с товарищами отмечает свою награду. Ребята предложили ему выпить с ними. Но, хотя он не был безупречным трезвенником, он грустно покачал головой и вышел.
Он знал, что ему никогда, ни при каких обстоятельствах не заслужить даже медали. Впрочем, если бы Талипов и попросился в роту, его, по всей вероятности, из штаба не отпустили бы. Талипова жалели, будто он и впрямь был подростком, сыном полка.
Опекал его парторг батальона, коренастый, конопатый вологжанин, капитан Синицын. Он подолгу беседовал с Мусой, заставлял его читать газеты и ходить на политинформации.
Одно время даже собирался взять к себе ординарцем, но от намерения своего отказался, надо думать, по той причине, что ординарец должен все-таки обладать известными качествами – ловкостью, проворством и не в последнюю очередь – добычливостью. Ни одним из этих качеств Талипов не обладал.
Однажды он все же попытался доказать, что ничуть не хуже других. Может быть, и не однажды, но тот случай особенно запомнился, потому как чуть не стоил ему жизни.
В тот раз Талипов решил, по примеру ординарца комбата Федьки Круглого и его корешей, двух ординарцев офицеров третьей роты, проникнуть на пасеку и раздобыть меду, разумеется для капитана Синицына.
Пасека находилась недалеко, наверно, в полукилометре от штаба. Мы стояли тогда в небольшом селе на берегу Стрипы, на Украине. Два дня, вернее, две ночи Талипов выслеживал Круглого, следя за тем, как они орудуют на пасеке, вытаскивая из ульев рамки с медом. На третью ночь, прихватив дымовую шашку и противогаз, Муса отправился на промысел. То ли он не знал, что Круглый со своей компанией только что побывал на пасеке, то ли сознательно отправился вслед за ними, но воспользоваться противогазом и шашкой бедняга не успел. Пчелы, растревоженные предшественниками, набросились на него, как только он перелез через забор… Перелезть-то он перелез, но обратно перебраться не смог, ослепленный укусами пчел. Плача и причитая, он метался по пасеке, и все новые рои пчел набрасывались на него. К счастью, именно Круглый, виновный в его бедах, и спас его от той самой смерти, которой Талипов так боялся.
Вспомнив, что оставил возле ульев свой автомат, Круглый вернулся в тот самый момент, когда Талипов беспомощно валялся на земле, теряя сознание. Круглый не случайно был ординарцем комбата – сообразительности и решительности ему хватало. Он тут же схватил брошенную Мусой шашку и зажег ее. Бегая с дымящейся шашкой вокруг несчастного Талипова, он отогнал пчел и, взвалив на спину окончательно потерявшего сознание, распухшего от пчелиных укусов Талипова, притащил его прямо в санчасть.
Две недели приходил в себя маленький Талипов. Анна Михайловна, наш батальонный врач, посмеиваясь, говорила, что, если бы у Мусы голова была побольше, ему бы несдобровать, малая площадь талиповского личика спасла его от слишком большой дозы пчелиного яда.
Однако не это едва не окончившееся трагически происшествие вспоминается мне прежде всего, когда я думаю о Талипове. Прославился Талипов другим приключением, уже в Германии, в самом конце войны.
Мы стояли в городе Риза. Строили мост через Эльбу, по которому войска маршала Жукова были впоследствии переброшены в Судеты и вышли к восставшей Праге. У меня сохранилась фотография – недостроенный деревянный мост, на нем группа офицеров во главе с командиром батальона, а чуть в стороне – несколько солдат, в том числе и Талипов. К сожалению – спиной к аппарату, видны только его узенькие плечи и автомат, немногим меньше его самого.
Разглядывая пожелтевший снимок полувековой давности, я иногда думаю: сколько времени отделяет момент, запечатленный фотокамерой, от того, когда талиповский автомат заставил молодую немецкую фрау скинуть шелковый халат с диковинными птицами и покорно лечь на диван, в ожидании, когда маленький азиат сделает с ней то, что предсказывал Геббельс, и на что этот самый азиат, по ее мнению, имел право как победитель.
Говорят, что африканские бушмены отличаются от всех прочих мужчин других рас и национальностей тем, что от самого рождения до последнего мгновения жизни их первичный половой признак занимает исключительно вертикальное положение. Может быть, так оно и есть. Но в ту весну сорок пятого года первичный половой признак наших солдат нисколько не уступал бушменскому.
Это обстоятельство вызывалось множеством разных причин, в том числе чувством безнаказанности, долгим воздержанием, верой в извечные права победителей и конечно же – весной. Впрочем, солдаты частенько встречали такое отсутствие сопротивления, что его можно было по ошибке принять и за искреннюю готовность служить победителям по мере слабых женских сил.
Случалась и любовь. Гораздо чаще, чем это может показаться. Война – это война, первичные и вторичные признаки существовали всегда, а любовь, как известно, ни с какими обстоятельствами не считается. Но на этот раз речь пойдет не о любви, а об изнасиловании, одном из самых удивительных в истории освобождения Германии от гитлеровского гнета.
Талипов, как я подозреваю, никогда до этого случая с женщинами дела не имел. То есть наверняка не имел, так как подробности, о которых откровенно поведала фрау Шметерлинг, не оставляли никакого сомнения, что мужской опыт Талипова до попытки изнасиловать фрау Шметерлинг равнялся нулю.
Надо сказать, что все офицеры, да и сержанты, жили в Ризе по квартирам. Пустых квартир было более чем достаточно, и многие часто перебирались в более удобные и роскошные. А потому на строительстве моста нередко не хватало то одного, то другого солдата, занятого поиском подходящей квартиры для кого-нибудь из офицеров. Конечно, такие поиски предоставляли солдатам неисчерпаемые возможности отвлечься и развлечься.
Впрочем, работников на мосту всегда хватало – работали сами немцы, которых с утра отправляли на мост, условно говоря, тамошние власти. И достаточно было, чтобы на строительстве присутствовали два-три офицера, несколько сержантов и десятка два солдат, чтобы работа шла полным ходом.
Солдаты бродили по городу, однако жалоб на них не поступало. И вовсе не потому, что они не совершали ничего противозаконного, а по той простой причине, что жители Ризы не вполне понимали, какой поступок русского солдата законен, а какой подлежит наказанию.
Талипов тоже шатался по городу и в своих скитаниях забрел на третий этаж огромного дома с высокими резными дверями, с гулкой, украшенной статуями и цветными стеклами в окнах, лестницей. Он постоял на широкой, выложенной цветными плитками площадке и постучал в дверь.
Открыла молодая полная женщина в розовом шелковом халатике, с металлическими бигудями на голове. Она удивленно посмотрела на маленького азиата и сказала что-то, чего Талипов, естественно, понять не мог.
А сказала она, что солдату сюда входить не следует, поскольку у нее живет важный русский офицер.
Талипов ткнул ее автоматом в живот и скомандовал:
– Проходи, живей, ну!
Слов этих фрау Шметерлинг, естественно, не поняла, но жест был настолько красноречив, что фрау Шметерлинг попятилась, то есть сделала именно то, чего требовал ужасный азиат с автоматом.
Тут, очевидно от неопытности и нетерпения, Талипов допустил серьезную оплошность. Он не запер дверей, а, по-прежнему тыча автоматом фрау в живот, повторял: проходи, проходи, проходи!..
Фрау Шметерлинг, пятясь, все еще делала попытки объяснить господину солдату, что ему не следует поступать так, потому что в ее квартире живет важный политический офицер и она находится, в некотором смысле, под его опекой и покровительством. Господин солдат не только не понимал, но и не слушал ее объяснения, иначе слово “офицер”, звучащее одинаково и по-русски, и по-немецки, насторожило бы его. Но ему мешал его первичный половой признак, находившийся в самом бушменском состоянии. К тому же шелковый халатик фрау был недостаточно широк, и, как она ни запахивала его, понимая, что не следует привлекать к себе дополнительного внимания, он все-таки непрерывно распахивался в самом неподходящем месте, делая бушменское состояние Талипова еще более бушменским.
Когда они оказались наконец в комнате, где стоял невиданной высоты шкаф со сверкающей через стеклянные створки посудой, тяжелый черный обеденный стол, окруженный стульями с такими высокими спинками, что Талипов в сравнении с ними был просто карликом, и самое главное – колоссальный, обитый красной кожей диван, Талипов крикнул женщине внезапно охрипшим голосом: “Раздевайся!”
И опять-таки не столько само слово, сколько выпученные от напряжения глаза Талипова и судорога, пробегавшая по его крохотному личику, делали понятным фрау Шметерлинг это требование.
Когда она пересказывала нам эту часть истории, в ее глазах мелькнула едва заметная усмешка – наверно, в тот момент она сравнила тщедушную фигурку Талипова со своей, довольно крупной, фигурой. Но перед ней как-никак торчало дуло автомата, а автомат держал не какой-нибудь европеец, а дикий азиат, монгол, которому ничего не стоило выстрелить и убить ее. Смерти она, естественно, боялась не меньше Талипова, а потому покорно сбросила халатик и, не отрывая глаз от автомата, стащила с себя комбинацию и тонкие шелковые, достаточно широкие трусики.
Талипов уронил автомат и стал поспешно готовиться к дальнейшим действиям…
Когда капитан Синицын, а важный политический офицер был именно он, вошел в комнату, то с изумлением обнаружил, что на его хозяйке и, разумеется, любовнице лежит солдат в гимнастерке и в сапогах, но с абсолютно голым, белым как молоко мальчишеским задом.
Фрау Шметерлинг растерянно улыбнулась и сделала ему знак, чтобы он не мешал.
– Мне стало жаль мальчика, – застенчиво, с каким-то даже снисходительным сочувствием объясняла нам потом фрау Шметерлинг. – Он ничего не умел, совсем ничего, и я боялась его испугать. Это очень опасно – спугнуть мужчину, когда он… в первый раз…
Синицын не боялся ужасных последствий такого испуга. Скорее всего, и не подозревал о них и поддался естественному порыву возмущения, одновременно и личного и глубоко принципиального, даже, можно сказать, идеологического характера.
– Встать! Смирно! – крикнул он грозно, и первичный признак бедного Мусы в мгновение ока потерял свои бушменские свойства. Талипов вскочил и вытянулся по стойке “смирно”, что повлекло за собой неминуемое падение штанов.
– Талипов? – изумился Синицын и совсем уже глупо, по-видимому от полной растерянности, спросил: – Что ты тут делаешь?
Муса вытянулся еще более молодцевато и, не обращая внимания на спущенные штаны, стал докладывать:
– Товарищ капитан! Красноармеец Талипов находится при исполнении… – дальше следовало сказать “служебных обязанностей”, но этих слов Талипов так и не произнес, сообразив, что в служебные обязанности ни в коей мере не входит то, чем он тут занимался. И он смолк.
Фрау Шметерлинг, все еще голая, села на диван, закурила сигарету, укоризненно поглядела на капитана и с сочувствием – на незадачливого солдатика. Ей было и смешно и жаль этого маленького азиата.
Талипов смотрел на Синицына обреченно. Налицо была попытка изнасилования, а она грозила штрафным батальоном. Ему, как всегда, не повезло. То, что всем легко сходило с рук, ему обойдется дорого. Надо же было ему угодить прямо на квартиру парторга!
Когда я пришел к Синицыну, Талипова уже не было, а фрау Шметерлинг успела вновь облачиться в шелковый халатик с фантастическими птицами. Синицын прохаживался по комнате, заложив руки за спину, и пытался выяснить у фрау, как все это произошло и действительно ли имела место попытка изнасилования. Поведение женщины смущало его, и он подозревал не столько насилие, сколько самую обыкновенную измену, хотя не понимал, зачем для этого она выбрала именно Талипова.
Мое появление его слегка смутило, и он не сразу решился использовать мое знание немецкого языка для столь деликатного объяснения. Но ревность, возмущение и любопытство взяли верх, и он скрепя сердце решился.
– Спроси ее, – он кивнул в сторону фрау Шметерлинг, собиравшую рассыпанные перед зеркалом бигуди, – что тут произошло?
Подозреваю, что фрау Шметерлинг доставляло некоторое удовольствие слегка поиздеваться над русским офицером, иначе трудно объяснить ее едва ли не насмешливый тон, с которым она поведала нам о нападении на нее синицынского подопечного. Выслушав ее рассказ, Синицын мрачно поглядел на меня и длинно выругался. Фрау Шметерлинг не поняла его. Она улыбалась, будто ничего особенного не случилось. В сущности, ей были одинаково безразличны и важный политический офицер, и неопытный, неказистый мальчишка-солдат. Не исключаю, что она догадывалась о неприятной ситуации, в которую попал русский политический офицер, и не слишком ему сочувствовала.
Талипов отделался гауптвахтой. И хотя я по просьбе Синицына ни с кем не делился своими сведениями, весь батальон смеялся. Смех этот не мог не задевать Синицына, и он съехал с квартиры легкомысленной фрау Шметерлинг.
Однако слухи о сочувственном отношении к маленькому Талипову со стороны фрау Шметерлинг каким-то образом получили широкое распространение среди солдат, и кое-кто попытался повторить его авантюру. Правда, без автомата. По-видимому, в этом была ошибка: фрау Шметерлинг оказалась не такой уж уступчивой и пожаловалась кому-то из офицеров. Офицер посмеялся – подумаешь, дело. Однако посягательства на честь фрау Шметерлинг прекратил самым действенным способом – поселился в ее квартире.
Я уверен, что фрау Шметерлинг – абсолютно порядочная женщина, и ни в коем случае не склонен бросать тень на ее репутацию. Война есть война, и я даже восхищаюсь этой женщиной, не потерявшей в таких обстоятельствах чувства юмора и чисто женского понимания мужских слабостей.
Можно было бы, конечно, поразмыслить над этой историей, подивиться, зачем понадобился бедняге автомат в деле, с которым у любого солдата прекрасно слаживалось и без него, посочувствовать двусмысленному положению самого Синицына, парторга и воспитателя солдат в духе интернационализма, коммунистической нравственности и сознательной дисциплины, не посмевшего отдать Талипова под суд, то ли пожалев своего подопечного, то ли не захотев оказаться в смешном положении, не знаю, – все люди, все человеки…
Можно было бы поразмыслить и о чисто психологических, социальных и биологических аспектах этого происшествия. Но была весна, победа была совсем близко, и думать не хотелось.
Мы просто смеялись.
Победитель
Смелянский одевался, а я, дожидаясь его, разглядывал альбом со старыми немецкими карикатурами, когда пришел Мохов. Мне не хотелось присутствовать при их разговоре, и я поднялся, чтобы выйти. Но Смелянский сказал: останься. Наверно, думал, что при мне Мохов разговора не начнет и он отложится, пусть и ненадолго. Я остался. Однако Смелянский ошибся. Мохова мое присутствие ничуть не смутило. Меня он не стеснялся. Тем не менее, прежде чем заговорить, он долго хмыкал и откашливался, трогал разные предметы, стоявшие на столе, достал из черного громоздкого буфета хрустальную хозяйскую рюмку, поглядел ее на свет, поставил на место и только тогда заговорил.
– Ты, Смелянский, победитель! – сказал он. – Главный человек в Европе. Такую, можно сказать, державу, – он кивнул почему-то в сторону буфета, – такую державу в пух и прах разгрохал!
Но, решив, что начал слишком издалека, снова стал делать круги по комнате, пока не уселся верхом на стул, лицом к спинке.
– Приедешь к себе домой, все бабы – твои! Выбирай любую, ни одна не откажет. – И, хмыкнув, сказал, уже не патетически, а ворчливо: – Ну что ты держишься за эту свою Клавку?!
Смелянский застегивал воротничок гимнастерки и смотрел на Мохова. Казалось, он слушает с интересом.
– Это она тут, в Германии, кажется тебе красавицей. А домой вернешься, глаза разбегутся. Сто раз пожалеешь, что с ней связался. – Мохов лукаво поглядел на Смелянского и осторожно засмеялся.
Капитан Мохов в раннем детстве болел оспой. Изъеденные болезнью брови, коротенькие, почти треугольные, придавали его рябоватому лицу, особенно когда он смеялся, выражение почти клоунское. Впрочем, он об этом и не подозревал.
Смелянский ждал этого разговора, был готов к нему и слушал Мохова спокойно и внимательно. Капитан Мохов, парторг батальона, имел право вмешиваться в личную жизнь офицера, если она приобретала нежелательный характер, пагубный для офицерского авторитета, особенно если этот офицер – член партии. Но, будучи выпивохой и “своим парнем”, не слишком злоупотреблял этим правом, справедливо полагая, что и сам не безгрешен. Без крайней необходимости он не завел бы этого разговора. Поэтому он кряхтел и хмыкал поначалу, а сейчас посмеивался и подмигивал мне, показывая тем самым, что речь идет о пустяке… Мохов ничуть не сомневался, что дело это пустяковое, выеденного яйца не стоит. Но понимал, что для Смелянского оно совсем не пустяковое. То есть, безусловно, пустяковое, но сам Смелянский по молодости лет этого не понимает.
Смелянский и впрямь был молод. Окончив семилетку, он подделал в паспорте дату своего рождения, прибавив себе два года, с тем чтобы поступить в военное училище. В неполные восемнадцать лет он в звании лейтенанта командовал взводом понтонеров на Ленинградском фронте. А сейчас, в двадцать два, – ротой и носил на погонах четыре звездочки, как и Мохов, которому стукнуло тридцать пять. Однако постоянное стремление выглядеть взрослей делало его солидней, выглядел он старше своих лет и редко выпускал на волю свое еще не изжитое мальчишество.
– Она – моя жена, Мохов, – сказал он спокойно.
Брови Мохова взлетели кверху, и он рассмеялся:
– Которая по счету?
– Первая, – так же спокойно ответил Смелянский.
Мохов перестал смеяться и посмотрел на Смелянского растерянно и даже с некоторой обидой, ему показалось, что тот над ним издевается.
Я поднялся, чтобы уйти, но Смелянский снова сказал: останься, – и я опустился в кожаное кресло с витиеватым вензелем на спинке, которое Смелянский возил за собой еще с самой польской границы.
У него была какая-то страсть к гербам и вензелям. Я видел у него лейб-гусарский кивер, морской кортик, и все – с замысловатыми вензелями. В той же Польше, в старинном имении на Висле, он обнаружил великолепную, обтянутую кожей коляску с гербом, как он утверждал, – князей Радзивиллов. С тех пор, вверенная попечениям его немолодого ординарца Мишки Комарова, одессита и в ранней молодости – конокрада, она повсюду следовала за ним, да и сейчас, запряженная парой, стояла во дворе. Капитан Мохов пришел в тот момент, когда мы со Смелянским и с той самой Клавой, о которой шла речь, собирались на прогулку в Раатен, километрах в двадцати отсюда.
Клава сидела в коляске, дожидаясь нас. Я видел ее в окно. Она сидела, прислонившись к спинке коляски с откинутым верхом, прикрыв глаза, подставив солнечным лучам свое миловидное, почти детское личико, не догадываясь, что здесь идет речь именно о ней.
– Ну вот что, капитан, – сказал Мохов со сдержанной обидой, – первая она или десятая, а расстаться тебе с девчонкой придется. Я свою Зинку еще на той неделе отвез. Не хуже твоей была.
– У тебя в Вологде жена, – угрюмо проговорил Смелянский. – А Зинка…
– А Зинка – блядь? Клавка – жена, а Зинка – блядь?! – рассердился было Мохов, но неожиданно рассмеялся. – Ну, ладно, ладно, прав! Не спорю. Значит, Клавка – жена?
– Жена.
– Ну жена так жена. Пусть. Уверен ты в ней?
– Уверен.
– Ну и ладушки! Пройдет проверочку и приедет к тебе чистенькая. А там и свадьбу сыграете. Смотри только, чтобы бабы дома тебе яйца не оторвали, а то ждали-ждали женишка, а он – нате, с собственной невестой явился. В Тулу – со своим самоваром!
Мохов подмигнул мне и захохотал.
– Клава останется со мной, – твердо сказал Смелянский. – Проверять ее нечего. Я сам ее проверил.
– Ты, Смелянский, дурака не валяй! – Мохов так резко поднялся, что опрокинул стул. – Дело это государственное, не твое личное. Что ты о ней знаешь? Ни черта ты о ней не знаешь! Какие у нее титьки да как выдавать умеет, вот и все твое знание!
– Клаву я не отпущу, – повторил Смелянский, глядя в окно. – Можете делать что хотите.
Мне нравилось удивительное спокойствие Смелянского. Но это, пожалуй, лишнее – можете делать что хотите… И сделают. На что он рассчитывает?
Мохов вздохнул и оглянулся на меня, ища поддержки. Я промолчал. Мохов покачал головой. Покачал как человек, умудренный опытом, сокрушенно и сочувственно.
– Мне можешь что угодно говорить, – сказал он хмуро. – Я с тобой всю войну прошел, знаю как облупленного. А там… – он кивнул почему-то на дверь, но было вполне понятно, где именно там. – Война кончилась. Кто уцелел, тому жить и жить. Тебе сколько лет? У тебя вся жизнь впереди, зачем биографию марать? Клавке проверки все равно не миновать, уж это я тебе точно говорю, а тебе – отметочка. Зачем? Да и чего ты боишься? Уверен, что с немцами не путалась?
– Уверен. Как в себе.
– Ну, я бы на твоем месте так уж безоговорочно ей не верил. На что моя Зинка – своя девка, а поди ж ты, в лагере, оказалось, вела себя не очень-то… Твоя Клавка в Германии два года прожила… Угнали, понятно, да ведь другие-то не давались, в партизаны уходили, с эшелонов убегали, сопротивлялись…
Смелянский, казалось, не слушал его, смотрел в окно на сидящую в коляске девушку.
Мохов проследил за его взглядом, вздохнул и протянул мне руку.
– Пойду. – Он похлопал Смелянского по плечу. – Отправляй девку, не дури. Объясни, что не от тебя сие зависит. Поймет. Она умненькая.