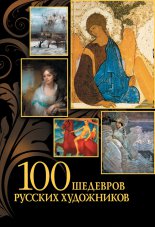Жили-были на войне Кузнецов Исай

А юношеский голос продолжал:
- …и она пока еще
- Жива, может статься…
Я тоже любил. Но ее уже нет…
Задерживаясь у нее допоздна, я возвращался с улицы Грановского к себе в Останкино светлыми июньскими ночами и, чтобы не замечать время и расстояние, читал про себя стихи Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Маяковского, Багрицкого, Пастернака. Хватало на всю двухчасовую дорогу, хватило бы и на более долгую. И эти, которые тогда еще не были для меня наполнены смыслом и которые сейчас доносились до меня из санитарной палатки:
- По-прежнему давнее кажется давешним.
- По-прежнему, схлынувши с лиц очевидцев,
- Безумствует быль, притворяясь не знающей,
- Что больше она уж у нас не жилица…
Какое-то время в палатке царило молчание. Потом женский голос произнес с выдохом: “Хорошо!” И чуть позже: “Еще!”
Я боролся с желанием откинуть полог и войти. Не вошел. Стоял и слушал.
- Мне хочется домой, в огромность
- Квартиры, наводящей грусть…
– Не надо! – оборвал чтение женский голос. – Об этом не надо.
– Да, пожалуй, – согласился тот, кто читал. Оба замолчали. Уже отчетливо, совсем близко, раздавался скрежет и урчание подходящих к мосту танков.
Я уже дотронулся до брезентового полотнища, прикрывающего вход в палатку, чтобы войти и взглянуть на того, кто читал Пастернака, и на ту, что слушала.
Не решился. Ушел.
Я лежал в одном из шалашей, оставленных теми, кто первыми форсировали Днепр и сейчас вели бой на плацдарме. Крытые ивовыми ветками шалаши сливались с невысоким кустарником и были неразличимы для самолетов. Крохотный шалашик, почти нора. Пахло прелыми, засохшими листьями, вялой травой, служившей подстилкой. Я лежал и повторял про себя только что услышанные стихи.
- Мне хочется домой, в огромность
- Квартиры, наводящей грусть…
На вечерах, по праздникам, я читал солдатам Симонова, Твардовского, читал Маяковского, иногда Пушкина, никогда Пастернака. Он остался там, в том времени, которое безумствует, притворяясь не знающим, что его нет, и которое никогда не вернется.
Совсем близко ухали зенитки, пронзительно завывали пролетающие над самой моей головой “мессершмитты”. Где-то, наверно у самого моста, грохотали взрывы.
Неожиданно все стихло, по-видимому, танки прошли на плацдарм. Нет, не стихло, просто грохот разрывов и гудение бомбардировщиков отдалились за Днепр. Я уснул.
На другой день, проходя мимо санитарной палатки, я увидел Алеху Пыжикова, свертывающего у потухшего костра толстую самокрутку. Рядом, подогнув под себя ногу, сидела девушка, ворошившая суковатой палкой догорающие угольки. В сторонке мальчонка лет двенадцати, в мешковатой, не по росту, солдатской гимнастерке, уплетал, обжигаясь, только что испеченную картошку, поблескивая пуговками раскосых глаз.
– Познакомься со своей землячкой, – сказал Пыжиков.
Девушка подняла глаза, посмотрела на меня с интересом.
– Вы москвич? – Не вставая, она протянула мне руку. – Меня зовут Зоей, – представилась она, улыбнувшись.
Ладная, высокая, с погонами медстаршины и орденом Красной Звезды на аккуратной гимнастерке, коротко, под мальчишку стриженные светлые волосы, голубые, очень ясные, внимательные глаза, сдержанная, чуть ироничная улыбка.
Медсестра… Как и та, что погибла на Западном фронте в декабре сорок второго. Только эта – светловолосая. И глаза не черные – голубые…
– Никакая она не Зоя, – усмехнулся Пыжиков. – Ее зовут Нина.
– У меня два имени. – Она улыбнулась снова, не без некоторого лукавства. – Говорят, будто двойное имя приносит счастье. – Слово “счастье” она слегка растянула. – Не знаю, правда ли это.
Мне захотелось, чтобы это было правдой.
Наверно, мой взгляд говорил больше, чем мне того хотелось, потому что она смутилась и кивнула на мальчишку:
– А это мой приблудный помощник, Абдулайка.
Абдулайка широко осклабился измазанным в золе ртом и протянул мне черную обугленную картофелину. Я присел к костру, перекидывая картошку из руки в руку – она оказалась слишком горячей.
– Где вы жили в Москве? – спросила Нина-Зоя.
– В Останкине.
– А я на Трубной. Почти рядом.
– Да, двадцать минут на трамвае. На девятке.
– Кто здесь говорит о трамваях?
Я обернулся. Передо мной стоял молоденький лейтенант – судя по голосу, тот, что вчера читал в санитарной палатке Пастернака. Невысокий, худощавый, в застиранной гимнастерке и выцветшей пилотке, из-под которой выбивалась темно-русая прядка, он смотрел на меня с легкой улыбкой, слегка застенчивой.
– Это я говорил о трамваях.
– Женя Разиков. – Он протянул мне руку. – А вы – москвич. Узнаю земляков с первого взгляда.
То, как человек пожимает твою руку, много говорит о нем самом. Женя протягивал свою доверчиво, пожимал крепко, глядя прямо в глаза.
Прошло более полувека, целая жизнь. Я знаю многих, чья жизнь уложилась в более короткие сроки… Все изменилось. Изменилась страна, изменился мир, да и мы сами уже не те, какими были когда-то. И не только потому, что постарели.
Но в моей памяти и Женя, и Нина-Зоя остались и навсегда останутся такими, какими их знал, недолго, всего семь-восемь дней – короткое фронтовое знакомство, сразу и естественно возникшая близость, открытость и доверительность трех случайно встретившихся москвичей.
Пристроившись где-нибудь на песке у костра, прячась от дождя в чьей-нибудь палатке или на берегу, в темноте, под холодным, усыпанным звездами небом – а ночи были на редкость звездными, – мы вели нескончаемые разговоры, предаваясь воспоминаниям, каждый своим и вместе с тем общим. О войне, о сегодняшнем почти не говорили.
С Женей Разиковым едва ли не с первого дня мы перешли на “ты”. Нина-Зоя говорила “ты” Жене. Со мной была на “вы”.
Нина Кудрявцева, которая называла себя Зоей… Может быть, в память о Зое Космодемьянской? Или так звали погибшую подругу? Я не спрашивал. Наверно, это имя было для нее каким-то талисманом, своего рода оберегом.
В отличие от впечатлительного, порой даже восторженного Женьки, она была сдержанна, больше слушала, чем говорила сама. Она была хирургической сестрой. Я видел, как она вместе с двумя помощницами-санитарками оказывала первую помощь раненым, спокойная, сосредоточенная, суровая и в то же время – нежная.
Раненых к ней в палатку доставляли немного, но, как правило, все четыре койки редко пустовали. Одних увозили в госпиталь, появлялись другие, мост бомбили непрерывно. Ухаживал за ранеными и Абдулайка, ее “приблудный помощник”.
Я как-то спросил, не собирается ли она после войны стать врачом.
– Нет, – сказала она твердо. – Насмотрелась достаточно, на всю жизнь.
– А кем?
– Не знаю. Зачем об этом думать? Пусть кончится война. Жива буду – подумаю. Может быть, в учителя пойду. С детьми интересно. – Она подмигнула Абдулайке, который в ответ расплылся в широкой улыбке.
Я недоумевал – откуда здесь, на Днепре, взялся этот казашонок. Оказалось, что его мать и отец, служивший на границе, погибли в первый же день войны. Как он уцелел за два года немецкой оккупации, непостижимо. Из его сбивчивых, на чудовищном русском языке рассказов следовало, что приютила и прятала его от немцев какая-то старуха. Потом, если ему верить, оказался он в услужении у немецкого офицера, “оберта”, как он выразился, которого, по-видимому, забавляла Абдулайкина экзотическая для немца физиономия. В конце концов попал он к партизанам, с которыми, по его словам, “лупил” немцев. Что в его рассказах от правды, что от детских домыслов, понять было невозможно. Впрочем, все могло быть.
К Нине-Зое сюда, в палатку, пришел он голодный, оборванный, в первый же день ее пребывания на берегу. Нина накормила его, одела в свою старую гимнастерку, и он привязался к ней едва ли не как к родной матери. Не отходил ни на шаг, выполняя все ее поручения, умудряясь при этом не быть надоедливым. Всегда при ней и всегда чуть в стороне. Глядя на них, я понимал, что Нине с детьми не просто интересно – она их любит.
– Почему?.. – спросила она как-то задумчиво. – Почему я вспоминаю, как мы с мамой и сестрой пьем чай с баранками, а кошка Чапа сидит у меня на коленях и мурлычет? Что в этом такого? Если вдуматься – даже скучно… Мне с детства хотелось, чтобы что-нибудь случилось. Пожар… Наводнение…
– Вот и случилось, – усмехнулся Женя.
– Да, война… Но это тоже скучно. Отвратительно и скучно… Вы оба такие умные, скажите, что человеку нужно?
Вопрос вопросов, подумал я.
– Каждому свое, – покусывая сухую травинку, проговорил Женя. – Мне, например, – стол, лампа, лист бумаги. Тебе – ребенок.
– Дурак ты, Женька! – вспыхнула Нина и, помолчав, вздохнула. – Впрочем, ты прав. И не одного. Двух, трех…
– Кончится война… – начал было Женя и, не договорив, замолчал. Конца войне не было видно. Да и кто знает, увидим ли мы ее конец?
Не знаю, когда и где они познакомились, Женя Разиков и Нина-Зоя. Кажется, раненый, он лежал в госпитале, где она служила. Не уверен, что именно так, да это и не важно. Во всяком случае, здесь, на Днепре, они встретились, хорошо зная друг друга. И конечно, Женька был влюблен в Нину, хотя старался ничем не выдать себя. Может быть, потому, что была она чуть не на голову выше его и года на три старше. А может, в силу своей природной застенчивости.
Нина не просто была хороша собой, но и несла в себе какую-то особую женскую значительность, если не сказать – тайну. И разумеется, многие пытались добиться от нее того, чего, по словам Остапа Бендера, добивался некий Остен-Бакен от польской красавицы Инги Зайонц. Однако безуспешно. Нина отшивала докучливых поклонников откровенным пренебрежением, иногда насмешкой, а то и пощечиной, как это случилось у меня на глазах с нашим понтонером Генкой Збруевым, щеголявшим матросской тельняшкой под расстегнутым воротом гимнастерки.
Она, конечно, понимала, что Женька влюблен в нее, я видел, что и он нравится ей, однако нисколько не поощряла его к признаниям и тем более к решительным действиям. Была еще одна причина для сдержанности Жени: он знал, что Нина переписывается с другом юности, летчиком, с которым рассталась в июне сорок первого.
Не знаю или не помню, кем и в каких частях служил Женя Разиков. Помню только, что часто встречал его на мосту, возвращающегося или направляющегося на плацдарм.
Двадцать первого года рождения, он, как и мой младший брат, был призван в армию со студенческой скамьи. Моложе меня на пять лет, однако разницы в возрасте ни он, ни я не ощущали.
Вечерами, пристроившись на песчаном холмике, иногда с Ниной, иногда вдвоем, мы делились воспоминаниями о Москве, рассказывали о себе, читали друг другу стихи. Женя вспоминал друзей, девушку, которая провожала его в армию и вот уже два года не отвечает на его письма, вышла замуж за его одноклассника, освобожденного от армии. Рассказывал о встречах с Паустовским, одобрившим его первые рассказы. Читал свои стихи.
…В моей землянке фронтовой
Живет сирень в стеклянной банке.
Снаряд рванется у дверей,
Придавит порохом дыханье…
Мне вместе с нею веселей —
Далекой, как воспоминанье.
Я все один, и ночь и день. Жизнь краски и черты теряет, И только юная сирень Меня, как прежде, согревает.
Прочтет и тут же смущенно оговорится, что он не поэт, а это так – пустячки, баловство. Хочется писать прозу. Но проза требует усидчивости, ее на ходу писать нельзя.
Как-то я прочел ему стихи Мирона Левина:
- На дороге фронтовой
- Умирает рядовой.
- Он, дурак, лежит, рыдает
- И не хочет умирать,
- Потому, что умирает,
- Не успев повоевать.
- Он, дурак, не понимает,
- Что в такие времена
- Счастлив тот, кто умирает,
- Не увидев ни хрена.
Женя долго молчал,
– Кто он, этот Мирон Левин?
– Ленинградец. Умер в Ялте от туберкулеза, в самом начале войны.
– Хорошие стихи, – сказал он задумчиво. – Только сама мысль… Счастье не в том, чтобы ни хрена не видеть… даже в такие времена. Надо видеть! Надо!.. Прочти еще!
Я прочел еще несколько коротких стихотворений Левина, присланных мне из Москвы еще год назад. В том числе и его “Балладу разумного старика”:
- … Мне б жить и жить!
- Других желаний нет!
- До сотни лет готов я жить
- На лучшей из планет!..
- Но час пробьет, и я умру.
- Поплачьте надо мной.
- И со слезами поутру
- Заройте в шар земной!
– До сотни лет готов я жить… – повторил Женя. – Хорошо! Только кто доживет до сотни? Дожить хотя бы до победы… Давай доживем, а? Назло немцам – доживем! И пройдемся после победы по Москве, все вместе, ты, я и Нинка!
Пройтись нам втроем по Москве не довелось.
Бои на Букринском плацдарме зашли в тупик, прорвать оборону немцев не удалось, и нас перебросили выше по Днепру, в район Лютежа. Прощаясь с Женей и Ниной-Зоей, мы обменялись адресами.
Они сохранились – несколько писем на случайных листках, свернутых в треугольники, написанные карандашом или тусклыми водянистыми чернилами. Вот одно из них.
Дорогой Исай! Только что получил письма от тебя и от Нины-Зои. Странно, как совпало наше настроение, воспоминание о Днепре, случайном, но прочном знакомстве трех земляков вдали от родной и милой Москвы. Частенько думаю о том периоде жизни. Еще тогда, в октябре, я чувствовал, что с грустью буду вспоминать о том времени.
- И дороже дома станут
- Позабытые в тиши
- Реки, рощицы, курганы,
- Фронтовые шалаши…
Сейчас почти все время на передовой. Друзей нет, не с кем поделиться воспоминанием о прошлом, не с кем поговорить искренне. Безразличие губит мысль, и оттого тяжело и горько…
Мои друзья окончили институты, работают в Москве. Пишут о театрах, об огородах, о новых бракосочетаниях. Живут… Живут, не дожидаясь конца войны. А я?.. Правда, подцепил третью звездочку, получил орден Отечественной войны второй степени, а к нашему наименованию Винницкой прибавилось Львовская. Идем вперед в тех местах, где нас называют панами и расплачиваются злотыми. Но становится обидно, что собственная дорога затерялась в суматохе и сумерках времени. Где она? Да и трудно говорить и думать о ней сейчас, когда каждый прожитый день является случайным.
Ну, будь здоров, друже! Пиши чаще. Твой Женя.
19 августа 1944 года
И еще одно письмо. От Нины-Зои, полученное через три месяца:
Здравствуйте, Исай! Вашу открытку от 30 октября получила и благодарю за память. Теперь письма ко мне будут идти только с двух сторон, от мамы и, быть может, от Вас, если не забудете землячку. В последние дни на меня так и катятся несчастья. Во-первых, погиб “он”. Это Эдька, которого знала до войны и, быть может, любила. О его смерти узнала из письма медсестры госпиталя, в котором он умер.
Во-вторых, никогда ни Вы, ни я не получим писем от Жени. И никогда мы не встретим его в Москве. Женечка погиб в боях за Родину. Он был тяжело ранен в правую ногу, пролежал в госпитале около недели, затем началась газовая гангрена, и он умер. Через два дня после его смерти его товарищ, Сергей Большаков, получил мое письмо к Жене и решил мне ответить, по-видимому считая меня какой-нибудь ППЖ. Я написала ему, так как он обещал в следующем письме выслать фотографию Жени, что мне очень дорого. Кто знает, может, уже погиб и он… Вот, теперь мое письмо Вам не понравится. Да?
Я первое время плакала много, потом меньше. Ведь этим не поможешь и их не вернешь. Что же делать, если получается не так, как хотелось бы…
Вы спрашиваете про Абдулайку. Он сейчас находится в одной из дивизий нашей армии, пригрел его какой-то капитан, он у него вроде адъютанта. Летом я его видела. Стал почти взрослым, даже усы пробиваются. Но все равно такой же потешный. Изредка пишет, но так коверкает слова и мое имя, что Вы и представить не можете. Кончаю, чтобы Вам не надоесть. Привет Пыжикову. Уважающая Вас Нина.
22 ноября 1944 г. Венгрия
Женя Разиков, раненный в ногу, умер в госпитале от газовой гангрены… В том же году с такой же раной в госпитале от газовой гангрены умер и мой младший брат.
Осенью сорок шестого, вскоре после демобилизации, я решил повидать Нину-Зою и отправился на Трубную.
Застал я дома только ее сестру, девушку лет шестнадцати, такую же высокую, такую же синеглазую, очень похожую на Нину.
– Вы Исай Кузнецов? – спросила она, чуть склонив голову набок и с любопытством разглядывая меня. – Нина писала о вас и о Женечке.
Она назвала Разикова Женечкой – наверно, так, как называла его Нина в своих письмах.
– А где она?
Девушка пристально поглядела на меня.
– Она… Ее нет… – И, отвернувшись, проговорила тихо: – Нина умерла.
– Умерла…
Она обернулась, в глазах у нее стояли слезы.
– У нее было больное сердце. Ее демобилизовали еще в конце сорок четвертого. До победы она не дожила.
– Больное сердце? Как же ее взяли в армию?
– Если бы вы знали ее лучше, то не спрашивали бы.
Я знал ее достаточно, чтобы понять то, что имела в виду ее сестра. Сестру звали Зоей.
Я шел по Москве. Шел один. По Трубной, по Неглинной, через Театральную площадь, к памятнику Пушкину… Шел по маршруту, по которому мы мысленно ходили тогда, на Днепре.
Они шли со мной, Женя и Нина. Шли и молчали.
Это была не та Москва, которую они оставили в сорок первом. Не та, которую видели в своих мечтах. Это была послевоенная Москва, Москва сорок шестого, совсем другая. И люди, которые шли мне навстречу, были другими.
Кто знает, быть может, и правда, что время так же материально, как и пространство, и ничто не исчезает, а лишь уходит куда-то, перемещается во времени, по еще не открытым законам.
И где-то в запредельных пространствах вселенной движется куда-то это мгновение – мы трое сидим на песке у берега Днепра. С той стороны реки доносится гулкое уханье разрывов, над нами небо, полное звезд, прорезанное красными пунктирами трассирующих очередей, и эти двое, молодые, красивые, милые, – живы… они улыбаются, смеются, вспоминают. Вспоминают другие мгновения, давно минувшие, но такие им дорогие…
А может быть, только в моей памяти живет это мгновение. Оно уйдет, исчезнет вместе со мной, и ничего, ничего не останется от него.
Даже эти записи не в силах восстановить и сохранить его таким, каим оно было, – те несколько дней под Букринским плацдармом в октябре сорок третьего года.
До и после
Зяма
Мирон Левин
- …И только в звонкой доблести острот
- Пред нами жизнь как подвиг предстает.
Зиновий Гердт читает Пастернака. Четыре дня подряд, каждый вечер, я сижу у телевизора, смотрю на него, слушаю, вспоминаю… Он именно читает. Не как артист, выступающий в концерте, просто – читает. Сидит у себя в саду, с синим томиком Пастернака из “Библиотеки поэта”, потрепанным, разбухшим от закладок, и читает. Читает, не заглядывая в него, сбивается, вспоминает, поправляется.
Я хорошо знаю стихи, те, что он читает, невольно вторю ему шепотом. Иногда он все-таки открывает книгу, на какое-то мгновение, и снова читает, рассказывает о случайной встрече с самим поэтом, о том, как читал стихи Пастернака Твардовскому, как тот слушал, и снова – стихи… Вдруг, закончив читать, смеется. Смеется от восхищения, от удивления перед силой стиха, его красотой, точностью слова, музыкой.
– Вот так, ребята… – говорит он.
Я всматриваюсь в лицо восьмидесятилетнего человека, читающего Пастернака. Да, постарел… Постарел, но не изменился. Узнаю его смех, жесты, интонацию и эти слова: “Вот так, ребята…”
Мы бродим по почти безлюдным улицам города, которого больше нет. Та Москва, довоенная, не добравшаяся до своих отдаленных окраин, еще не поглотившая их, ушла навсегда. Москва до войны – город, нынешняя – мегаполис. Репетиции в Арбузовской студии иногда кончаются так поздно, что добираться домой – а мы оба живем на окраине – можно только пешком, автобусы и трамваи не ходят, а о такси даже мечтать не приходится. И мы гуляем по городу.
Медленно светлеющее небо… рассвет, в котором теряют яркость все еще горящие фонари… редкие подгулявшие прохожие… обочины тротуара в белых разводах тополиного пуха… Тополиный пух – середина июня.
- Кругом семенящейся ватой,
- Подхваченной ветром с аллей,
- Гуляет, как призрак разврата,
- Пушистый ватин тополей…
Бросить спичку – и легкий язычок пламени быстро, как по бикфордову шнуру, заскользит вдоль тротуара…
Мы бродим по городу и читаем стихи. То он читает, я слушаю, шепча за ним знакомые строки, то читаю я, то оба вместе, в два голоса – Маяковского, Багрицкого, Блока, Пушкина и, конечно, Пастернака, открытого нами недавно и сразу ставшего любимым.
Нет, не сразу. Помню, как с трудом прорывался к нему, листая маленькую книжку с двухполосной серо-белой обложкой и как вдруг, неожиданно, он стал понятным, своим, близким и – необходимым. Не так ли было и у Зямы?
Милан Кундера пишет, что память предлагает нам не движение, не кинофильм, а фотографию, нечто застывшее, статичное – мгновение.
Отчасти и так. И все же не всегда статичное, иногда – пусть и короткое, но отнюдь не застывшее.
Вот одна из таких фотографий: мы сидим на скамейке, на бульваре у Никитских ворот, рядом с памятником Тимирязеву, и читаем стихи. К нам подходит женщина в заношенном, когда-то белом плаще, в беретике, из-под которого выбиваются спутанные седеющие волосы, с мутноватой, полупьяной улыбкой на одутловатом лице. Зяма смотрит на нее с любопытством, я – с легкой брезгливостью.
– Мальчики, – говорит она, слегка покачиваясь, – угостите папироской.
Зяма лезет в карман, достает узкую пачку “Казбека”. Женщина берет папиросу, садится рядом, улыбается ему, улыбается прищурившись, многозначительно, легко догадаться, что означает эта улыбка, но Зяма делает вид, что не понимает, дает ей прикурить и тоже улыбается.
А она перестает улыбаться, взгляд ее делается усталым и грустным.
– Ты славный мальчик, – говорит она. – Хороших людей на свете мало, очень мало. Одного я знала. О нем сейчас говорят плохо. Очень плохо. О хороших людях всегда говорят плохо… А он… Он был замечательный человек. Да… замечательный…
– Кто же он, такой замечательный? – спрашивает Зяма.
Она вскидывает голову и тихо, очень тихо, но едва ли не с вызовом произносит запрещенное имя:
– Бухарин. Николай Иванович.
– Вы знали Бухарина? – спрашивает Зяма.
– Я работала с ним… В “Известиях”.
Она встает и медленно, уже не пошатываясь, уходит. Мы молчим, глядя, как она идет в сторону Пушкинской площади, туда, где стоит многоэтажный дом “Известий”, в котором она еще недавно работала.
– Наверно, была у него секретаршей, – говорит Зяма.
– Или стенографисткой… И была влюблена в него…
- А в наши дни и воздух пахнет смертью:
- Открыть окно – что жилы отворить.
Произнес кто-то из нас эти пастернаковские строки? Или просто подумалось? Но они живут в памяти, связанные с этой встречей.
А вот слова, сказанные после долгого молчания Зямой, помню.
– Вот так, ребята… – задумчиво сказал он.
Тысяча девятьсот тридцать девятый… Год назад арестован мой отец.
Через два года, здесь же, у Никитских ворот, я слушал речь Молотова. Война… Война, оборвавшая привычную жизнь, а с ней и нашу юность.
В тот день я шел к Саше Гинзбургу, еще не ставшему Галичем, делать какие-то поправки к пьесе “Дуэль”, написанной нами втроем вместе с Севой Багрицким. Севы в Москве не было, он отдыхал в Коктебеле, поправки предстояло делать без него – завтра, в понедельник, их надо представить в репертком[5]. Уже не помню, зашел я к Саше или просто позвонил.
Какие поправки?! Война!
И вот уже новая фотография: я иду с Зямой по Страстному бульвару в сторону Пушкинской площади… Откуда взялся Зяма? Кажется, я позвонил ему, и мы встретились у одной нашей общей знакомой, жившей на Арбате. По-видимому, долго у нее не засиделись. Навстречу нам стремительно – или, вернее, целеустремленно – шагают Борис Слуцкий, Павел Коган и Миша Кульчицкий. Они направляются в военкомат – проситься на фронт.
Всего четыре месяца прошло со дня премьеры “Города на заре”. В студии готовились к репетициям “Рюи Блаза” и нашей “Дуэли”. Но мы с Зямой не сомневались – в такие дни надо не репетировать, а воевать. И тоже отправились в военкомат. Мы были освобождены от действительной службы, и у обоих в военных билетах стояло: “Годен. Не обучен”.
Ничего, обучат!
От моего дома в Останкине до сада имени Калинина пять минут ходьбы. Оттуда до наших окон еще недавно доносились звуки духового оркестра. Там смотрели кино, танцевали, просто гуляли. Сейчас из черных репродукторов над входом в сад до нас, повторенные эхом, доносятся только предупреждения: “Граждане, воздушная тревога! Граждане, воздушная тревога!” Во дворе нашего дома вырыта щель – на случай бомбежки.
Второй месяц войны…
Почему Зяма, живший у Тимирязевки, призывался здесь, у нас в Останкине, в клубе Калинина, не знаю. Но мы сидим на садовой скамейке возле продолговатого деревянного здания кинотеатра, где заседает призывная комиссия, и ждем, когда выкрикнут его фамилию.
Для того чтобы понять, что такое война, есть только один способ – пройти через нее. И хотя Москву уже бомбили, мы еще плохо себе представляем, что нас ждет. Совсем недавно, застав нас с Зямой за обычным соревнованием в остроумии, Александр Константинович Гладков спросил мрачно: “И в гестапо вы все так же будете острить?” Не слишком удачная шутка. Однако запомнилась. Мы еще многого не понимали. А потому, сидя на скамейке в саду имени Калинина, перед расставанием на долгие военные годы, не думая, не веря, что можем никогда больше не увидеться, мы, как обычно, шутили и смеялись.
Чистая случайность, что место его призыва оказалось рядом с моим домом. И все-таки мне приятно думать, что я был с ним, когда он уходил в армию, уходил воевать.
Нам было по шестнадцать лет, когда мы познакомились.
Мы оба учились в ФЗУ электрокомбината, я на слесаря-инструментальщика, он на слесаря-лекальщика, специальности более тонкой. Впрочем, ни он, ни я вовсе не мечтали отдать этим профессиям всю свою жизнь. ФЗУ – это два года рабочего стажа, необходимые в те времена для поступления в какой бы то ни было институт. Однако все сложилось иначе, ни он, ни я в институт так и не поступили.
Пятнадцатого ноября 1932 года – смешно, но я почему-то помню эту дату – мы оба пришли в просторное помещение на верхнем этаже одного из зданий электрокомбината поступать в заводской ТРАМ – Театр рабочей молодежи, руководителем которого был бывший актер Василий Юльевич Никуличев. Трамовцы звали его по-домашнему – дядей Васей. Со временем Зяма придумает к его имени рифму: “Дядя Вася, иди одевайся”. Василию Юльевичу, человеку, не лишенному амбиций, название “драмкружок” не нравилось. А потому и ТРАМ. Впрочем, электрокомбинатовский ТРАМ и не был обычным драмкружком. Кроме репетиций комедии-оперетты Катаева и Дунаевского “Ножи” там шли ежевечерние занятия: техника речи, биомеханика с Зосимой Злобиным, учеником Мейерхольда, танец с Верой Ильиничной Мосоловой, известной в свое время балериной, история театра.
Нас приняли.
В тот день, день нашего знакомства, и началась наша с ним дружба. С год назад я со своей семьей переехал из Ленинграда в Москву. За этот год у меня не появилось ни одного приятеля, не скажу – друга. Зяма был первым и долгое время – единственным.
Тогда, до войны, мы жили одной жизнью. Учась в ФЗУ, хотя и в разных группах, но в одной смене, мы возвращались с ним домой на тридцать девятом трамвае. Жил он далеко, в Астрадамском тупике, но частенько ночевал у своих родственников на Грохольском. Тридцать девятый шел в Останкино, полдороги было нам по пути.
Итак – ТРАМ. Сперва – при электрокомбинате имени Куйбышева, потом при ЦК профсоюза электростанций. Никуличев был человек весьма деятельный и добился профессионализации нашего коллектива. Мы перебрались на Раушскую набережную, в клуб Мосэнерго. Сюда впервые пришел Валентин Николаевич Плучек, которого Никуличев пригласил для совместного руководства.
С его приходом наш коллектив стал меняться. Плучек принес с собой то, чего не хватало Никуличеву, – подлинную культуру театра. И, как обычно бывает в театре, коллектив раскололся по принципу приверженности к тому или другому руководителю. Мы с Зямой предпочли Плучека.
Зяма часто вспоминал своего школьного учителя литературы, привившего ему любовь к поэзии. Отчасти и эта любовь к стихам сближала нас – Пушкин, Лермонтов, Блок, Маяковский, Багрицкий… Человеком, открывшим нам другие имена – Пастернака, Цветаевой, Ахматовой, Мандельштама, Ходасевича, – был Валентин Николаевич.
Началось еще в ТРАМе, продолжалось и в Арбузовской студии, обосновавшейся в школе на улице Герцена, против консерватории, – по странной игре случая, в том самом здании, где Евгений Вахтангов впервые встретился со своими учениками. Плучек читал стихи сам, приглашал известных чтецов, побуждал нас ходить на концерты Яхонтова. В школьном физкультурном зале мы слушали нигде не напечатанные стихи Мандельштама, Цветаевой, Ходасевича. Помню тогдашний “самиздат” – потрепанные рукописи цветаевского “Казановы”, стихов Ходасевича и Мандельштама.
Зяма и сам писал стихи. У меня сохранилось несколько его стихотворений, которые он прислал мне в конце войны на фронт.
Среди этих стихов есть строки, которые мне особенно дороги. В полушуточном стихотворении он пишет о своих друзьях:
- У меня их трое верных,
- Трое храбрых, беспримерных.
- Трое! Кто из них верней?
- Кто вернее в дружбе, в чести,
- Кто стоит на первом месте:
- Русский, грек или еврей?
- Про кого сказать: “Во-первых”?
- У того покрепче нервы,
- У другого сердце шире,
- Третий мудростью возьмет.
- Я скажу: “Во-первых – трое”, —
- Это будет верный ход!
Грек – это Максим Селескериди (будущий актер театра Вахтангова Греков), воевавший в тылу врага, русский – Женя Долгополов, любимец студии, человек действительно с широким, добрым сердцем, – увы, с войны так и не вернувшийся… Что касается третьего, то слова о его мудрости, конечно, лишь дружеское преувеличение и, прежде всего, свидетельство верности дружбе самого автора.
Но своих стихов он не читал. Он слишком хорошо знал, что такое подлинная поэзия. Читал тех, кого любил.
И я не удивляюсь, что, будучи уже известным артистом, он говорил: “Больше всего я хочу читать стихи людям”.
Но были не только стихи. Шли репетиции, игрались спектакли. Никуличев после “Ножей” поставил “Фантазию” Козьмы Пруткова, “Свои люди – сочтемся” и “Бедность не порок” Островского, где я играл Африкана Коршунова, а Зяма – того самого “агличина”, который у Островского лишь упоминается. По-настоящему первую роль он сыграл у Плучека в “Свадьбе Фигаро”. Играл он Бартоло. Играл очень весело и смешно, настолько смешно, что мы, на сцене, с трудом удерживались от смеха.
Но в конце концов наш театр, как почти все профсоюзные театры, где-то в тридцать седьмом был закрыт. Я поступил во вспомогательный состав Камерного театра, Зяма – в кукольный. Не образцовский. Был тогда еще один кукольный театр, кажется на Никольской. Так что его карьера кукольника началась задолго до того, как он стал ведущим артистом в театре Образцова.
Еще одна дата – 19 мая 1938 года. День создания так называемой Арбузовской студии.
В этот день, “в час пурпурного заката” – как записано в “Студиате”, шуточной истории студии, – на квартире у Плучека собрались человек десять. Кроме самого Плучека и Александра Константиновича Гладкова четверо из нашего бывшего театра, двое учеников Плучека из школы при театре Мейерхольда и двое профессиональных актеров. Сам Арбузов отсутствовал – он был на футбольном матче, пропустить который мог, только если бы лежал на больничной койке без сознания. Не было и Зямы – то ли не смогли его предупредить, то ли он был занят на спектакле, уже не помню.
Официально мы стали потом называться Государственная театральная московская студия. Вряд ли кто-нибудь помнит сейчас это название, хотя мы долго думали над ним, и почему-то казалось важным, что именно “Театральная московская”, а не “Московская театральная”. Никто нас так не называл. Говорили “Арбузовская студия”, хотя ее руководителями и создателями были в равной мере и Алексей Николаевич Арбузов, и Валентин Николаевич Плучек.
Мы называли себя студией, но для людей солидных и здравомыслящих были просто мальчиками и девочками, забавляющимися игрой в театр. И не потому, что были молоды. Просто наша затея была по тем временам смешной и даже безрассудной: мы собирались создать новый театр в то самое время, когда закрыли театр Мейерхольда, когда по непонятным никому мотивам слили Камерный театр с театром Охлопкова, когда всякое новшество было не только нежелательным, но и просто подозрительным – по определению.
Впрочем, то, что мы этого не понимали, можно было объяснить нашей молодостью, наивностью и самонадеянностью. Но то, что мы не взяли для своего дебюта, по примеру прежних студий, “крепкую” классическую пьесу, работая над которой молодые артисты могли бы учиться мастерству, а режиссура получила бы возможность “прочесть классику по-новому”, и, главное, решили написать пьесу сами, методом импровизации, не вызывало даже осуждения. Опытные люди, дальновидные и мудрые, просто смеялись в лицо нашим руководителям.
И все же “Город на заре”, пьеса, создававшаяся коллективно, именно методом импровизации, была написана и поставлена. Премьера состоялась 5 февраля 1941 года. Впоследствии, заново отредактированная Арбузовым, она появилась в театре Вахтангова, но это уже другая история.
По предложению, кажется, Гладкова было решено писать пьесу о строительстве Комсомольска, и мы начали сочинять заявки на роли, которые хотели бы сыграть. Мы придумывали наших героев, писали их биографии. Эти наши сочинения читались в Раздорах, на даче у Милы Нимвицкой. Наши руководители – мы называли их “авгурами” – были в состоянии неподдельного энтузиазма. Арбузов сказал, что каждая заявка не просто на роль – на пьесу.
Из всех, кто в тот летний день читал свои заявки, только трое – Мила Нимвицкая и Зяма, и еще Аня Богачева (Арбузова), пришедшая к нам несколько позже, – осуществили свои замыслы и довели их до спектакля.
“Город на заре” – пьеса о строительстве на Дальнем Востоке, на берегах Амура, нового города. Начинается она с прибытия парохода “Колумб” с будущими строителями, добровольцами со всех концов страны – из Москвы, Иркутска, Ленинграда, Тулы, Саратова, Саранска, Одессы… Из Одессы приезжает и Зямин герой Веня Файнберг.
Зямина заявка на роль Вени Файнберга сохранилась – у меня лежат две школьные тетрадки, на одной – портрет Гоголя, на другой – Калинина. На первой рукой Зямы написано: “Глупая вобла воображения” – не мог удержаться от самоиронии.
В одной из тетрадей – описание задуманного им героя, его биография, во второй – отношения с другими персонажами. Очень многое из задуманного Зямой вошло в нашу пьесу и спектакль, в том числе и его отношения с Белкой Корневой, героиней Милы Нимвицкой, даже отдельные детали и реплики. Не было в его замысле только бегства из строящегося города, это – из моей заявки на роль Миши Альтмана. Уже на этапе написания сценария пьесы литературной бригадой, в которую входили и мы с Зямой, обе эти роли слились в одну, появился некий гибрид, Веня Альтман.
В свое время открытие студии и премьера “Города на заре” было событием весьма приметным. И имя Зямы Гердта вместе с именами других исполнителей – Тони Тормазовой, Милы Нимвицкой, Ани Богачевой – с уважением произносилось на студенческих обсуждениях в ИФЛИ и МГУ. Его Веня вызывал у студентов споры, а у студенток восторг и любовь.
Любопытно – об этом, кажется, где-то говорил Валентин Николаевич, – Зямин Веня привозит в будущий город футляр со скрипкой. Но, цитирую по его заявке, “когда его просят сыграть, он молча протягивает левую руку и сгибает пальцы в кулак. Средний палец зловеще торчит, несогнутый…”. В результате несчастного случая он лишился возможности продолжать учебу в консерватории и играть на скрипке… Почти мистика.
Тяжелое ранение Зямы на войне, двухлетнее пребывание в госпиталях, несгибающаяся нога, казалось, ставили крест на его актерском будущем.
Я, как видишь, опять в госпитале, – пишет он мне на фронт в сорок четвертом году. – Претерпел, брат, десятую операцию. Одначе не дамся голым в руки. Фигурально, конечно, а буквально – постоянно. Приходится, гот дамм! В этот присест хочу окончательно долечиться. Надоело все до черта!
А я? – пишет он в другом письме. – Изволь: в лучшем случае – актер на хромые роли. Но я зол, зубаст и черств. Думаю, что эти мои новые качества пригодятся. Жду сухих тротуаров, а то на костылях невозможно. Как только повеснеет, уйду из больницы и буду драться.
“Зол и черств” – это, конечно, преувеличение, своего рода самоподбадривание. Злым и черствым он никогда не был и не стал.
Время имеет свои адреса.
Была школа, где мы репетировали свой “Город на заре” и показывали первые два акта тем, от кого зависело наше будущее, а Зяма, заведуя “осветительным цехом”, мастерил из консервных банок осветительные приборы.
Репетиции, репетиции, работа над этюдами… Морозы сорокового года… В школе холодно, кто-то из ребят, уходя на каникулы, выбил стекла в окнах.
Я часто вспоминаю о Зямином остроумии, о его легкости, постоянной готовности к шутке и розыгрышу. Но это лишь одна сторона тогдашнего Зямы. Когда начиналась репетиция, в нем появлялась и собранность, и сосредоточенность. Работал он с полной отдачей. Да и наши отношения имели более серьезные основы, чем присущая нам обоим склонность к иронии. Мы создавали театр, и это было смыслом нашей жизни. Главное – студия. И когда наше понимание того, что для нее хорошо, а что плохо, не совпадало, мы порой доходили до ссоры.
Наша студийная нетерпимость и требовательность подчас приводили к тому, что мы периодически кого-нибудь исключали из студии. Правда, ненадолго. Так было и с Сашей Галичем, и со мной, и с Зямой. Исключали его, если мне не изменяет память, после того, как мы перебрались из школы в клуб Наркомфина. Там была бильярдная, куда часто наведывались в свободное от репетиций время и Саша и Зяма. Вот за игру на бильярде в то время, когда шли репетиции, его и исключили. Это, как, впрочем, и курение, считалось нарушением студийной этики. Смешно, конечно, но получалось так, что я, будучи членом совета студии, исключал Зяму, а через какое-то время он – меня. Но проходило немного времени, и все это забывалось.
Мы были молоды, нетерпимы, но самое главное – любили друг друга.
Была комната Севы Багрицкого, удобная тем, что находилась в пяти минутах ходьбы от школы, где мы репетировали. Здесь мы – Сева, Миша Львовский, Саша Галич, Зяма и я – сочиняли песенки и сценки для капустников, слушали молодых поэтов или просто, что называется, трепались. Иногда, впрочем, и выпивали, хотя называть это выпивкой, учитывая сегодняшние масштабы этого занятия, конечно, смешно.
Была и комната Милы Нимвицкой на Покровском бульваре, где мы выпускали стенгазету. Идея выпускать стенгазету принадлежала Плучеку, периодически пытавшемуся придать студии вид нормального советского коллектива, – попытки, обреченные на полный провал. Мы все-таки не были, да и не могли быть советским коллективом. Встретили мы предложение Плучека без энтузиазма – в самом слове “стенгазета” было что-то казенное, вынужденное, скучное. И мы под Зяминым руководством, вернее, под напором его неиссякаемого остроумия, преобразили это понятие. Стенгазеты меняли названия – “Осенний лист”, “Весенние маневры”, а одна из последних вообще не могла называться стенной газетой – она был вылепленной Милой Нимвицкой из папье-маше полуметровой вазой.
Наша неистощимость в юморе привела однажды Валентина Николаевича едва ли не в ярость. В дни, когда нас выгоняли из здания школы и мы могли оказаться без помещения, вышла стенгазета под названием “Ситуация”, в которой, вопреки действительно сложной ситуации, мы упражнялись в остроумии, отнюдь не соблюдая меры. Мрачно глядя на эту “Ситуацию”, Валентин Николаевич произнес более чем странную фразу: “В армии юмор не нужен”. Эту фразу Зяма тут же взял на вооружение, применяя ее в самых неожиданных обстоятельствах.
Именно здесь, на квартире Милы Нимвицкой, произошло превращение Зямы в Зиновия Гердта. Случилось это незадолго до показа двух актов представителям тех ведомств, от которых зависела дальнейшая судьба нашей студии. И тут кому-то пришла мысль, поначалу шутливая, что Зямина фамилия звучит несерьезно и недостаточно благозвучно. Не потому, что еврейская – никому не пришло в голову считать неподходящей фамилию Саши Гинзбурга. Решили, против чего не возражал и Зяма, придумать ему псевдоним.
Посыпались предложения, самые неожиданные, подчас не лишенные насмешливого подтекста. Они отвергались одно за другим. Кто-то предложил фамилию известной балерины Елизаветы Гердт.
Предложение было встречено одобрительно, в том числе и самим Зямой.
– Только обязательно – Герд-т! С буквой “т” на конце, – категорически заявил Арбузов.
– Герды-ты – это звучит гордо-то, – сострил кто-то.
Так Зяма, Залман, как мы часто его называли, стал Зиновием Гердтом.