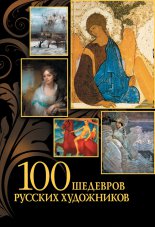Жили-были на войне Кузнецов Исай

Он еще раз подмигнул мне и вышел.
Смелянский поднял опрокинутый Моховым стул, подошел к столу, машинально закрыл альбом с карикатурами и задумался.
– А если к Коневу обратиться, лично? Может, разрешит, в порядке исключения? Комаров говорит, ему такое право дано Сталиным.
Я знал, как и сам Смелянский, что Комаров – трепач, типичный одессит, верить ему нельзя, да еще в таком деле, но мысль о Коневе не показалась мне вовсе нелепой. Я только подумал, что пока обращение командира роты Смелянского дойдет до самого командующего фронтом, судьба Клавы решится и без того. Упорство Смелянского казалось мне безнадежным, но говорить об этом я не стал. Мне и самому хотелось, чтобы Клава стала его женой и мы здесь, в Германии, сыграли их свадьбу. Я промолчал.
– Ты как, едешь с нами? – не дождавшись моего ответа, спросил Смелянский.
Я решил не ехать, пусть побудут вдвоем.
Смелянский охотно принял мой отказ и, натянув фуражку, вышел во двор.
Я смотрел в окно и видел, как он шел по двору, мимо единственного чахлого деревца, а Клава обернулась к нему, улыбаясь всем лицом, счастливая, беззаботная.
За окном процокали копыта, и коляска выехала из ворот.
Смелянский встретил Клаву в городке Радебойль, близ Дрездена, девятого мая. Случилось так, что именно в день окончания войны, в день Победы, судьба свела его с той, ради которой – он сразу в это поверил – прошел весь путь от Невы до Эльбы и пришел в Германию, чтобы освободить ее. Конечно, не только ее, но ведь Иван-царевич тоже вместе с той, ради которой он совершил столько подвигов, освободил не только Василису Прекрасную, но и других Кощеевых пленниц… Не думаю, что Смелянский воображал себя Иваном-царевичем, да и вряд ли догадывался о возможности такого сравнения, но подозреваю, что подобные размышления играли немалую роль в его отношении к Клаве.
Она работала на табачной фабрике в Дрездене, в здании, похожем на мечеть. Когда самолеты союзников бомбили город, немецкие работницы спускались в бомбоубежище. Наших девушек в бомбоубежище не пускали. Их выгоняли на широкую, как поле, площадь перед фабрикой, и они ложились прямо на асфальт. В небе загорались огни от разрыва зенитных снарядов, выли моторы бомбардировщиков, где-то совсем рядом рвались бомбы, медленно, как во сне, падали стены домов, все выше и выше поднималось зарево пожаров.
Клава почти привыкла к этому, если можно к такому кошмару привыкнуть. Это повторялось чуть не каждую ночь. Но в тот день – а был именно день, а не ночь – и грохот разрывов, и вой самолетов, и зарево пожаров были совсем иными. Дрожала земля, холодный асфальт, на котором они лежали, гудел, стонал, вздрагивал, как живой. Самый воздух, казалось, исчез, превратился в грохот и пламя. Клава умирала много раз, умирала и воскресала, чтобы снова умереть и воскреснуть, все в том же огне и грохоте. Она не знала, что наступила ночь, а за ней утро – солнце не могло пробиться сквозь черный густой дым. А самолеты шли все новыми волнами, и снова пришла ночь…
Наступила тишина. Чем еще, как не тишиной, можно назвать рыдания и вопли людей, треск пламени, глухой шум обрушивающихся стен после того грохота, который владел городом в течение многих часов неслыханной в истории бомбежки? Наступила минута, когда Клава с удивлением узнала, что она все-таки жива. И не только она. Почти все, кто провел эти бесконечные часы на площади, остались живы. А сотни тысяч людей, прятавшихся в бомбоубежищах, оказались заживо погребенными под развалинами. Под развалинами города.
Когда мы спустя два месяца увидели Дрезден, над бесконечными – от горизонта до горизонта – руинами стоял сладковатый запах тления, а люди откапывали и откапывали из-под развалин своих близких.
Я спрашивал Клаву, как все это было.
– Страшно, – отвечала она, и только.
Лишь однажды услышал от нее рассказ о девушке по имени Валя, с которой она ехала в одном эшелоне, жила в одном бараке, работала рядом в набивочном цехе.
Очнувшись в очередной раз от беспамятства, она увидела, как Валя, высокая, непомерно худая, с выбившимися из-под платка растрепанными волосами, стояла, задрав голову и размахивая руками, и кричала в небо срывающимся голосом:
– Миленькие! Родненькие! Крушите их! – И вдруг запела:
- Расцветали яблони и груши,
- Поплыли туманы над рекой…
Клава тянула ее вниз, укладывала рядом, пыталась успокоить, но та, ненадолго затихнув, вскакивала и снова кричала и пела. И только когда все кончилось, она села и оглянулась вокруг.
– Вот я и умерла, – сказала она, улыбнувшись. – Хорошо-то как!
Клава не любила говорить об этом. И только ночью, лежа с закрытыми глазами, она пыталась рассказать своему Саше, что она тогда пережила. Она говорила тихо, то и дело замолкала, не окончив фразу, начинала снова, опять смолкала, ей не хватало слов. Она долго молчала и вдруг, дрожа, прижималась к нему, как бы ища защиты от давно отгремевшей бомбежки. Смелянский хотел в такие минуты только одного – чтобы она уснула. Но она не засыпала и снова начинала говорить. Ее кошмар становился и его кошмаром. И даже до меня, третьего в этой цепочке, доходили отголоски пережитого ею ужаса.
До встречи с Клавой у Смелянского были увлечения и кратковременные связи, как и у других офицеров. Так что вопрос Мохова “которая по счету?” имел свои основания. Правда, то, что было у других поводом для бравады, двусмысленных шуток, у Смелянского проходило как-то незаметно и, я бы сказал, стыдливо. Он не любил говорить об этом. Но когда он на вопрос Мохова ответил – первая, он ничуть не кривил душой.
Клава на первый взгляд не была исключением – у того же Мохова, у Ковалева, командира взвода связи, у Беспалова, начхима, да и у многих других жили русские девушки. Но сразу же после распоряжения комендатуры о явке всех перемещенных лиц в специальные пункты для проверки и возвращения на родину все они расстались с ними. И только Смелянский не хотел отпускать Клаву. Над ним посмеивались, на него сердились, но он упорно не отпускал ее. Почему-то никому не приходило в голову, что он просто ее любит.
Командование к кратковременным связям относилось снисходительно: четыре года без женщин, пусть развлекутся. Но заявление Смелянского, что Клава – его жена, раздражало не только Мохова. Естественно, что все только и говорили о его дурацком, бессмысленном упорстве. Ни у кого в тот момент не вызывала сомнений необходимость, вернее, неизбежность проверки людей, пусть даже не по своей воле оказавшихся в Германии. Формальность, возможно, в такое время и не лишняя. Мы тогда и представить себе не могли, какая судьба уготована этим женщинам. А кто бы и сказал – не поверили бы.
Война окончилась, а с ней не только постоянная угроза гибели, но и вольное солдатское житье. Вступила в свои права и армейская дисциплина. Мы жили на берегу Эльбы в деревянных бараках, где до нас жили иностранные рабочие. Колючую проволоку и вышки убрали, бараки покрасили в бледно-зеленый цвет, дорожки посыпали песком, устроили площадку для волейбола, и два пленных немца под веселым наблюдением начальника клуба написали плакат: “Каждый воин Красной армии должен стать физкультурником!” Предполагалось, что спорт отвлечет воинов Красной армии от нежелательного общения с гражданским населением, принимавшего порой совсем не безобидные формы.
Смелянский появился в расположении роты поздно вечером, незадолго до отбоя. Я сидел в комнатке старшины и играл с ним в шахматы.
Смелянский потрогал винтовки и автоматы, стоявшие в пирамиде, прошелся вдоль коек, проверяя заправку, сделал несколько замечаний старшине.
– Проводи меня, – сказал он, и мы вышли из барака.
Мы шли по пустынной улочке немецкого городка, которого война почти не коснулась. Чуть слышно пробили часы на ратуше. До дома, где жил Смелянский, было недалеко, всего два квартала, но мы прошли мимо и спустились к понтонному мосту. Всю дорогу Смелянский молчал.
На мосту он остановился и спрыгнул вниз, в понтон. Громыхнуло железо. Я спрыгнул за ним, и снова понтон отозвался металлическим гулом. Вода внизу была гладкая, блестящая, казалась густой.
– Боится она, – сказал Смелянский, глядя на воду.
– Боится? Кто? Клава? Боится чего? – Я тоже смотрел вниз, на воду, и ждал объяснения.
Он долго не отвечал.
– Почему она боится? – спросил он после долгого молчания и обернулся ко мне. – Почему?
Действительно, почему она боится? Сомнения быть не могло – боится проверки… Потому что, кроме проверки, ничего ей не угрожало. Я вспомнил, как она ответила мне, когда я расспрашивал ее о бомбежке Дрездена. Страшно, сказала она. И сейчас ей страшно? Но ведь это не одно и то же.
– Наверно, боится потерять тебя… боится, что ты встретишь другую… – предположил я.
– Нет. Она знает, что другой не будет, – сказал он с мальчишеской уверенностью.
– Да… понимаю…
– Она что-то скрывает от меня, – сказал он вдруг резко.
– Скрывает? Думаешь, кто-нибудь был у нее до тебя? Немец?
– Нет. Это исключено, – сказал он неохотно. – До меня у нее никого не было.
Я повеселел.
– Глупости, ничего она от тебя не скрывает.
– Не знаю… – угрюмо произнес Смелянский. – Ничего не знаю. Утром еще головой мог за нее ручаться, а сейчас… Ну чего ей бояться, если за ней никакой вины нет? А?
– Ты рассказал ей о разговоре с Моховым?
– Рассказал. Она заплакала, прижалась ко мне и говорит: “Мне страшно, Сашенька… ” Страшно…
Он замолчал. Его мучило это слово. На мгновение и я подумал, что ничего-то мы о ней, в сущности, не знаем, действительно – ничего. И кто может сказать с уверенностью, что ей нечего опасаться? Подумал и сразу отбросил эту мысль.
Я попытался было рассеять сомнения Смелянского, но понял, что сомнения эти слишком глубоко засели в нем. Мохов все-таки своего добился. Мне стало грустно.
Проехал грузовик, настил под ним выгибался, кряхтел, понтоны зашлепали по воде, и она оказалась не такой густой и блестящей, а обыкновенной, черной.
Смелянский курил. Папироса вспыхивала в темноте, огонек описывал полукруг – туда и обратно… туда и обратно… Смелянский молчал и думал. Потом бросил папиросу, огонек описал дугу, упал в воду, неслышно шепнул что-то и погас. Смелянский вспрыгнул на настил и зашагал к берегу. Я последовал за ним. Он шел быстро, не оглядываясь, будто забыл обо мне. Я не стал его догонять.
Через два дня провожали Клаву. Лагерь для перемещенных лиц находился в соседнем городе, километрах в семи, и мы отправились туда на знаменитой радзивилловской коляске. Правил Комаров, мы втроем сидели сзади. Предложив мне ехать с ними, Смелянский сослался на желание Клавы, но я почувствовал, что ему и самому хотелось, чтобы я поехал, боялся остаться с Клавой один на один в решающие минуты. Клава сидела между нами и держала его за руку. Комаров рассказывал какие-то невероятные истории про одесского бандита по кличке Хаим Пароход, а Клава, прижимаясь к Смелянскому, смеялась, поглядывая на него, показывая ему тем самым, что она не боится и верит, что все будет хорошо.
Мы ехали по мощеному шоссе, обсаженному яблонями, и множество почти зрелых, налившихся плодов выглядывали из-под листьев. Кое-где под деревьями валялись упавшие яблоки.
Я видел эту дорогу весной. Она была забита автомобилями и повозками, велосипедами и ручными тележками. Люди ехали, шли, тащились к переправе с флажками на рулях велосипедов, на поклаже повозок, просто в руках – французскими, польскими, бельгийскими, английскими, югославскими, советскими… Могучий парень с густой русой бородой проехал на мощном першероне, обнимая сидевшую перед ним девушку и размахивая флагом Канады. Среди этого великого переселения легко угадывались немцы. Они не улыбались, хотя и не выглядели уж слишком удрученными, как полагалось бы побежденным. Но чувствовалась в них некая отрешенность, это был не их праздник.
Лагерь располагался на окраине в мрачноватом трехэтажном здании гимназии, окруженном старинным парком. За чугунной узорчатой оградой прогуливались, лежали на траве, сидели на скамейках те, кто официально назывался перемещенными лицами, а попросту – люди, попавшие в плен, угнанные на работу в Германию. Специальные проверочные комиссии должны были выяснить, нет ли среди них предателей, шпионов, немецких прихвостней, – война есть война. А остальные – домой. Но мне что-то не верилось, что эти самые “прихвостни” и прочие предатели не найдут способа оказаться подальше от бдительного ока проверяющих. Да и, судя по смеху, доносившемуся до нас, по оживлению гулявших по дорожкам людей, немецкие прихвостни среди них вряд ли были.
Не знаю, как представляла себе Клава этот лагерь, когда говорила Смелянскому, что ей страшно, но сейчас она повеселела. Все выглядело совсем не страшно.
Мы с Комаровым отошли в сторонку и отвернулись, чтобы дать им попрощаться. Потом Клава подошла к нам, поцеловала меня в щеку, пожала руку Комарову и, еще раз улыбнувшись Смелянскому, взяла чемоданчик и прошла мимо часового в ворота. На какое-то время она исчезла в проходной, пристроенной к воротам. Потом появилась с другой стороны и, помахав нам рукой, быстро пошла по широкой дорожке мимо сплошного ряда розовых кустов.
– Езжайте! – сказал Смелянский, глядя ей вслед. – Я пешком дойду.
Комаров помялся, переступил с ноги на ногу, вздохнул.
– Езжайте! – резко повторил Смелянский и, отвернувшись, стал смотреть через узоры ограды в ту сторону, куда ушла Клава.
Комаров, кряхтя и вздыхая, забрался на сиденье пролетки.
Мы уже подъезжали к нашему городку, когда он обернулся ко мне.
– Проверка… – сказал он с усмешкой. – Какая может быть проверка? Сотни тысяч, поди проверь каждого. Нет, не хотел бы я в этом Луна-парке на колесе обозрения вертеться… Видал, какие у часового петлички?
Петличек часового я не разглядел.
– Какие петлички? – спросил я.
Комаров отвернулся, почмокал на лошадей, помахал вожжами и заговорил, не поворачиваясь ко мне:
– Я в молодости конями баловался, с милицией главным образом дело имел. А как-то черт попутал, казенную зацепил, уж больно хороша была, бабки что у балерины, вороная, аж глаз слепит… Ну и попал к этим, с голубыми петличками… Я их с тех пор пуще Страшного суда опасаюсь…
Мы ехали мимо аккуратных, будто вымытых особнячков. В садиках копошились женщины, дети, старики. Войны будто и не было. Мир, тишина… Только копыта пощелкивают.
– Нет, сержант, – после долгого молчания заговорил Комаров, – жить надо, как слепая лошадь живет: толкнули в колею, ну и ходи по кругу, по сторонам не оглядывайся.
– Война всех из колеи выбила.
– Это точно, – согласился Комаров. – В свою уж не вернешься.
Я вспомнил Валю, ту девчонку, о которой рассказывала Клава. И неожиданно ясно увидел, как она после бомбежки села, улыбнулась и сказала тихо и спокойно: “Вот я и умерла”. Подумал о Клаве. Но сказал совсем не то, что думал:
– Ничего, Комаров, все обойдется. Мы еще погуляем на их свадьбе.
– Погуляем, – не сразу ответил Комаров. – Если позовут.
Поздно вечером, уже после отбоя, Комаров прибежал ко мне:
– Нет капитана! Не пришел…
Вид у него был растерянный, виноватый и удрученный. Я оделся и вышел с ним. Стояла теплая светлая ночь, река внизу, разрезанная надвое длинной лунной полоской, была безмятежной и сонной. Мы сели в коляску и поехали искать Смелянского. Четко и нежно пробили часы на ратуше и заиграли нехитрую, прозрачную мелодию. Отчетливо цокали копыта, чуть слышно повторяло их цоканье задумчивое эхо.
– Куда мы едем? – спросил я Комарова.
– Как куда? Туда и едем, где оставили.
Он оказался прав. Мы нашли Смелянского, вцепившегося в чугунные завитки ограды, вглядывающегося в немногие еще освещенные окна. Мне показалось, что он пьян. Увидев нас, он отошел от ограды и молча сел в коляску. Когда мы подъезжали к его дому, он что-то сказал, еле слышно.
– Я никогда ее больше не увижу. Никогда, – разобрал я его слова и понял, что он плачет.
Давно и безутешно.
Десятое мая
Охотников возвращался в гостиницу. В воздухе висели мельчайшие капли влаги. Они висели не падая, и хотя мостовая и тротуар постепенно становились мокрыми и лицо Охотникова тоже стало мокрым, все же это был не дождь. Ленинградская погода, обыкновенная ленинградская погода, повторял про себя Охотников, узнавая ее, как давным-давно забытого знакомого.
Невский, освещенный рекламными огнями и синеватым светом ртутных фонарей, был почти безлюден – то ли из-за позднего времени, то ли из-за этой самой ленинградской погоды. Редкие автомашины проносились подчеркнуто безмолвно и деловито, оставляя за собой длинные темные полосы сырости, которые, пересекая друг друга, постепенно сливались в одну черную, отсвечивающую огнями реку.
Пустынность Невского казалась особенно странной и неожиданной после вчерашнего праздничного многолюдья и толчеи, когда идущие в обнимку немолодые люди в начищенных медалях и орденах, слегка – а кое-кто и изрядно – подвыпившие, распевали полузабытые песни тридцатилетней давности. И он, Охотников, тоже шел и пел, обнимая за плечи с одной стороны так обидно постаревшего и обрюзгшего Генку Котенкова, с другой – почти незнакомого ему бывшего начальника ГСМ бригады остроносого полковника Скулова…
До войны Охотников часто представлял себе, как он вернется в Ленинград. И хотя в бывшей его квартире на улице Марата давно жили чужие, неизвестные люди, он думал не о посещении Ленинграда, а именно о возвращении. О возвращении домой.
С небольшим фибровым чемоданом, с тем самым, с которым он покинул город в декабре тридцать четвертого года, сходил он на перрон, пробирался сквозь толпу встречающих, обгонял бородатых носильщиков с бляхами, шел мимо стреляющего белым паром паровоза и выходил на залитую солнцем площадь Восстания с чугунным пугалом Александра III. Он знал из газет, что памятника уже нет, но представить себе площадь без знаменитого “пугала” было невозможно. И Охотников всякий раз мысленно выходил именно на ту площадь – непременно залитую солнцем, где все еще возвышалась статуя не то царя, не то городового, вокруг которой, весело позвякивая, бегали трамваи, на площадь, существовавшую лишь в его воображении.
В Ленинград он попал в марте сорок третьего, по дороге на фронт. Сырой непроглядной ночью провезли его на грузовике через весь город по пустынным и сырым улицам, мимо невидимых, почти невидимых в кромешной тьме зданий, через мосты, едва угадываемые по чуть различимым внизу отблескам воды.
До боли, до желтых пятен в глазах вглядывался он в темноту, пытаясь разгадать, где они едут. На какое-то мгновение казалось, что он узнает знакомые места, но едва уловимый контур церкви или здания подсказывал ему, что нет, ошибается. И снова вглядывался в сырую темень мартовской ночи.
Солдаты в грузовике дремали или переговаривались о чем-то своем, неинтересном. Их везли, понял впоследствии Охотников, по незнакомым ему улицам, но, даже будь они знакомы, в зловещей тьме военной ночи узнать их было немыслимо. Но Охотников знал: это Ленинград, он чувствовал его запах – легкий привкус гари, свежесть недалекого моря – и, чтобы убедиться, что он в Ленинграде, закрывал глаза. И тогда грузовик мчался по любимому с детства Невскому, мимо клодтовских коней на Аничковом мосту, кинотеатра “Паризиана”, мимо глобуса на Доме книги и толстых колонн Гостиного Двора. Он открывал глаза – и снова темная незнакомая улица, едва различимые очертания крыш, над которыми начиналось невидимое небо.
К утру, еще в темноте, их привезли к берегу покрытой льдом Невы, в перепаханный снарядами и бомбами поселок, откуда уже пешком, по разбитой танками и машинами лесной дороге, отправили в понтонный батальон, державший переправу у Черной речки.
Сегодня он побывал там снова, в поселке, носившем имя шлиссельбуржца Морозова, напротив Шлиссельбургской крепости, на берегу Невы, где должны, кажется к будущему году, установить обелиск в память их бригады, державшей здесь свои переправы.
И хотя всего час назад он сошел с поезда на Финляндском вокзале, ему казалось, что и это было вчера. Наверно, оттого, что весенняя солнечная, хотя и прохладная погода сменилась вдруг почти осенней, промозглой. Или оттого, что поездка в Морозовку была как бы частью вчерашнего дня, связана с ним, с воспоминаниями и разговорами о войне, а мокрый безлюдный Невский был из другой, обычной, повседневной жизни, и если вчера Охотников чувствовал себя здесь своим, его узнавали, окликали, улыбались даже незнакомые, то сейчас он существовал отдельно, сам по себе, а город жил своей жизнью. Он был как плакат с изображением воина-победителя, предназначенный для дня вчерашнего, праздничного, а сегодня, мокрый, хлопающий на ветру оборванным краем, – вроде бы и неуместный.
Охотников шел пешком от Финляндского вокзала, и Невский был почти совсем таким же, каким он представлялся тогда, мартовской ночью сорок третьего года – и кони на мосту, и часы на здании бывшей Государственной думы. Вот только реклама. И “Паризиана” называется “Авророй”… И все же – другим.
“Может быть, теперь город не узнаёт меня, как я когда-то его?” – подумал Охотников и вспомнил, как вчера утром во дворе Артиллерийского музея вглядывался в лица стоявших в условленном месте, по-весеннему, а оттого особенно празднично одетых людей, вглядывался с желанием узнать – всех, каждого, хоть кого-нибудь. И с разочарованием, тоскливым разочарованием понял, что не узнаёт. Никого.
А те разглядывали его. Разглядывали с острым желанием узнать в нем – все равно кого, но одного из тех, с кем можно, глядя в глаза, обнимая за плечи, держа за пуговицу, сказать: а помнишь? И он вспомнит, а если не вспомнит, все равно – говорить, напоминать, подсказывать, будоражить его память, пока он не начнет кивать согласно и вдруг сам не расскажет что-то забытое, ускользнувшее из памяти, грустное, быть может, забавное или что-то важное, чего нельзя было забывать. И ты уже сам киваешь в подтверждение его слов – да-да, точно, так и было, невероятно, трудно себе представить, но нет, не выдумано, ты тоже помнишь тот день, тот случай, те слова – все это было, было с вами, не выдумано, не приснилось…
Стоявшие в условленном месте люди смотрели на Охотникова и улыбались. Но когда он подошел ближе, то понял, что улыбки, казавшиеся ему приветствием, оказались лишь вежливым сочувствием, пониманием. Его не узнавали и улыбкой ободряли незнакомого человека – ничего, что он ошибся, его товарищи в другом месте, быть может, вон там, возле старинных пушек, стоящих у фасада, он найдет их, обязательно найдет.
А эти были чужие, незнакомые: даже того смутного чувства, когда, глядя на прохожего, силишься понять, на кого он похож, кого напоминает, – даже этого чувства Охотников не ощущал, глядя на них. Решив, что здесь собирается другая часть, Охотников хотел было уйти к тем, стоявшим у пушек, но вдруг все снова заулыбались, но уже не ему, а кому-то, появившемуся позади Охотникова.
– Сюда, сюда! – крикнула пожилая женщина в бобриковом голубом пальто, и Охотников обернулся.
От ажурных, распахнутых настежь ворот шел генерал, шел, широко распахнув руки, как бы готовясь обнять всех собравшихся. Охотников узнал его – своего генерала, командира бригады, узнал побитое оспой лицо, простецкую улыбку и длинные, за двадцать лет не изменившие ни формы, ни цвета хохлацкие усы.
Генерал целовал всех по очереди. Прежде чем поцеловать, он слегка отстранял от себя, громко называл звание, имя и фамилию и, тем подчеркнув свою генеральскую верность соратнику, прижимал к груди и трижды, по-русски, целовал.
Объятия и поцелуи сопровождались возгласами одобрения отличной сохранности фигуры, молодости, а также шутками по поводу каких-то обстоятельств, неизвестных Охотникову.
Его, Охотникова, генерал тоже схватил своими длинными цепкими руками и, отстранив, чтобы лучше разглядеть, сказал:
– Не припоминаю. Какой батальон?
– Двенадцатый, – сказал Охотников.
– Офицер?
– Сержант.
– Да ведь это Охотников! – раздался чей-то голос, и генерал, издав некий возглас, означавший, что он вроде бы и припоминает, трижды крест-накрест поцеловал Охотникова.
И тут же он оказался в объятиях стоявшего за генералом высокого человека в новеньком, едва ли не специально к этому дню сшитом, коротком по тогдашней моде, пальто. Охотников узнал Астахова и удивился, что не узнал его сразу. Астахов почти не изменился – такой же прямой, вернее сказать, вытянутый, тот же по-детски вздернутый носик, предательски нарушавший его командирский облик. Конечно, Астахов постарел, но несоответствие между его возрастом и удивительной моложавостью сохранилось и создавало ощущение, что Астахов на редкость молод и ничуть не изменился.
Хотя у Охотникова с Астаховым во время войны не было ни близких отношений, ни военных приключений, их связывающих, Охотников обрадовался, что видит Астахова. Правда, шевельнулась мысль, что вряд ли майор Астахов так уж хорошо помнит сержанта Охотникова, или, вернее, помнит – узнал все-таки, но радость, объятия и поцелуи Астахова, как, впрочем, и его, отнюдь не соответствуют тем отношениям, которые во время войны существовали между юношески заносчивым начальником штаба и не слишком приметным сержантом. Но тут же Охотников подумал, что, хотя тогда они и не были близки, именно сегодняшняя их радость при встрече и открывает ту душевную связь, память сердца, которая сильней памяти рассудка… рассудка памяти печальной.
Охотников легко отогнал от себя мысль о неискренности их объятий и поцелуев. Да и не могли они быть неискренними, даже если отчасти в них и содержался некий самообман (уверенность, что там, тогда они были ближе и дороже друг другу) – самообман, однако, простительный. Память сердца…
Потом вразвалочку, по которой его можно было бы узнать и через тысячу лет, подошел Генка Котенков, трепач и бабник, то ли бывший артист, то ли снабженец, вечный конферансье на вечерах самодеятельности, симпатичный филон и бездельник, до того симпатичный, что ему прощались такие проделки, которые не прощались другим.
И, глядя на Генку, Охотников вспомнил, что с тех пор прошла целая жизнь. Обрюзгшее, расплывшееся лицо Генки, когда-то просто смуглое, стало почти черным, а лукавые, смешливые, всегда прищуренные глаза заплыли, превратились в едва различимые щелочки. Увидев Охотникова, Генка засмеялся хриплым прокуренным смехом, протянул к нему руки, чтобы обнять, и вдруг, закашлявшись, отвернулся. Охотников сам его обнял, и Генка уткнулся лицом в рукав его кожаной куртки. Генка плакал…
Охотников не заметил, как прошел мимо гостиницы. Он остановился против Казанского собора и долго глядел на блестящую от влаги, черную фигуру Барклая-де-Толли. После войны, вернее последние десять лет, ему часто приходилось бывать в Ленинграде; первое время он подолгу бродил по городу, повторяя давние детские маршруты, пытался отыскать своих школьных товарищей, но так никого и не нашел. Теперь он приезжал сюда без прежней неотвязчивой ностальгии, от которой так долго не мог отделаться. Поездки в Ленинград носили чисто деловой, служебный характер. Случалось, что прямо из аэропорта, не заезжая в гостиницу, он направлялся в Ленмостпроект и, проторчав в прокуренных кабинетах до темноты, отправлялся прямо на самолет, чтобы к утру на пыльном служебном “газике” трястись к своему дому, далеко за Уральским хребтом.
Сейчас он впервые за много лет увидел Казанский собор и фигуры Барклая и Кутузова такими, какими помнил с детства, когда они были для него не просто памятниками, слепыми монументами полководцев, а живыми героями из “Отечественной войны 1812 года”, стоявшей когда-то у них дома в застекленном шкафу. И на какое-то мгновение мостовая Невского перестала течь асфальтовой рекой, застыв в темном покое сырого дерева шестиугольных шашек. И, как часто случалось с ним в последнее время, он увидел себя со стороны – стоящим на мокром тротуаре, против Казанского собора, в блестящей и мокрой кожаной куртке. В такие минуты Охотникову мучительно хотелось понять – почему он тут, как случилось, что он именно здесь, в это самое мгновение, есть ли хоть какой-нибудь смысл в том, что он стоит против Казанского собора и вспоминает стоящее в стеклянном шкафу многотомное издание, выпущенное к столетию другой Отечественной войны, и мостовую, торцовую мостовую своего детства. Ответа не было, и Охотников медленно пошел дальше в сторону Адмиралтейства, к Неве, подставляя лицо влажному ветру, сырому невскому ветру.
Тогда, в Германии, было тепло и солнечно. День Победы застал его в местечке Радебойль, под Дрезденом. Ночью его разбудил Генка Котенков. Спросонья Охотников не мог понять, что происходит: вечером ходили слухи, что немцы согласились на безоговорочную капитуляцию, и вдруг почему-то стреляют.
– Победа! Победа! – закричал Генка, тряся обалдевшего от короткого, неожиданно прерванного сна Охотникова.
На улице стояла оглушительная стрельба. Солдаты палили из винтовок, автоматов, пистолетов весело и беспорядочно, кое-кто трассирующими пулями, разведчики – из ракетниц. В небе висели, медленно снижаясь, разноцветные фонари ракет, роняющие маленькие, быстро гаснущие огоньки, пунктирные линии трассирующих пуль уходили вверх и исчезали высоко в небе…
На тротуаре, прижимаясь к стенам, стояли немцы. Они, тихо переговариваясь, смотрели на цветные огни ракет, на пьяных русских солдат. Женщин было не видно. Женщины прятались от нашей радости. И вдруг к Охотникову бросилась немка, работавшая на батальонной кухне, – молодая женщина по имени Линда, эстрадная артистка из Гамбурга, оказавшаяся в Радебойле с семилетним сыном в результате сложных зигзагов эвакуации. Она взглянула на него заплаканными глазами и неожиданно поцеловала. Поцелуй Линды запомнился Охотникову – это был первый “поцелуй победы”, потом он целовался весь день – с солдатами, офицерами, русскими, угнанными в Германию, французами, чехами, пленными американцами и даже австралийцами; весь день до глубокой ночи люди пили, целовались, плакали и на всех языках повторяли: мир, мир, победа.
Но поцелуй Линды запомнился Охотникову не только потому, что был первым. Он не сказал до этого с ней и нескольких слов, и целовала она его не как знакомого, а от невозможности не разделить с кем-нибудь радость, что кончилась война, целовала его потому, что была до ужаса одинока, далеко от родного дома, среди чужих людей – одна.
Сейчас, вспомнив тот поцелуй, он подумал: он что-то означал важное, о чем еще не удалось подумать, важное не только для Линды, а и для него, связанное с ним, с его судьбой…
Он смутно помнил, что в тот беспорядочный день им владела тоска, непонятная грусть, будто конец войны был концом чего-то хорошего. Он сел на велосипед и поехал один по аккуратным, чисто выметенным улицам, мимо двухэтажных особнячков, мимо бесконечных заборов, складов и фабрик, мимо зазеленевших фруктовых садов. Он знал, откуда его тоска, – кончилась война, и снова одиночество. За всю войну он получил единственное письмо от некоей Раи Полещук из Перми, предлагавшей ему переписываться. На конверте стоял адрес: действующая армия, воину-освободителю, сержанту. Почему Рая Полещук хотела переписываться именно с сержантом, осталось для него тайной. Он не ответил.
Его остановили французы. Их было человек десять. Они перегородили дорогу баррикадой из бочек и не пропускали никого, не заставив прежде выпить вина из огромного серебряного кубка с рельефным изображением охоты на кабана. Кубок, очень тяжелый и вместительный, приходилось держать двумя руками.
Он выпил белого, кисловато-терпкого вина, после чего неожиданно для себя крикнул Vive la France![3], чем привел французов в такой ажиотаж, что они тут же наполнили кубок и заставили его пить под крики: “Сталин, Сталин!” Хорошенькая полноватая блондинка в белом фартуке выбежала из дома, на котором висела вывеска Zum blauen Augen[4], объяснявшая, откуда бочки с вином. Размахивая двумя медными ковшами, женщина радостно приветствовала Охотникова по-немецки, и ему пришлось в третий раз осушить кубок с кабаном, и он пожалел, что у него нет третьей руки – кубок сделался тяжелым и неподъемным. Что ни говори, это был радостный день, и, что бы ни случилось в жизни, он будет помнить сияющие от счастья глаза французов, и поцелуй Линды, и веселую открытую радость хозяйки Zum blauen Augen, готовой выкатить из погреба последнюю бочку.
Кончилась война. Мир, мир, победа…
Девятого мая 1945 года – День Победы.
Девятое мая, в сущности, могло быть и восьмым. Капитуляция была подписана восьмого, и именно восьмого праздновали победу во Франции, в Англии, в Америке. Мы – девятого, будто восьмого Москва еще не верила, что война кончилась. Девятого было разрешено радоваться. Хотя и девятого война не кончилась – в каких-нибудь ста километрах от нас войска Шернера продолжали вести бои… И все же именно 9 мая стал Днем Победы, серединой жизни, днем, расколовшим ее надвое. После Победы – вторая жизнь. Для Охотникова – новая, действительно другая, непохожая на ту, первую, одинокую, бесправную, полную разочарований и неуверенности.
Его легко, без экзаменов приняли в институт как фронтовика и орденоносца (два ордена Красной Звезды и медаль “За боевые заслуги”), дали койку в общежитии на Трифоновке и вручили студенческий билет, о котором он до войны не смел и мечтать.
Еще в армии, на фронте, он впервые почувствовал себя равным – равным как солдат, разумеется понимая, что это особое – перед пулей, перед смертью, но все же – равенство. Его не спрашивали, кто его отец и что с ним, Охотниковым, произошло зимой тридцать четвертого года.
После войны он почувствовал себя полноправным человеком и на гражданке – ощущение для него неожиданное и новое. Он был как все, таким же, как его однокурсники, – счастливые тем, что остались живы, гордые своей героической судьбой, позвякивающие медалями и орденами, уверенные, что жизнь принадлежит им, победителям, освободителям Европы.
Все переменилось.
И то, что он пережил – декабрьская ночь тридцать четвертого, когда за ними пришли и посадили в нетопленый пульмановский вагон, ссылка и пыль раскаленного под азиатским солнцем поселка, отчаяние и одиночество, разрывающее сознание чувство несправедливости, выброшенности из жизни, – все потускнело, ушло в темные дебри памяти, приобрело новый смысл.
Сейчас он командовал тысячью строителей, возводил мосты, у него была семья – жена, дочь, к двум орденам Красной Звезды присоединился орден Трудового Красного Знамени, поговаривали, что создатели Хангарского моста, и он в том числе, представлены к Государственной премии.
Открытка с изображением Рейхстага, вопреки задушевно-официальной интонации, вызвавшей у него привычную оскомину, неожиданно взволновала Охотникова. Он не представлял себе, кто и откуда узнал его адрес. Тот факт, что кто-то разыскивал его и нашел, искал именно его, сержанта Охотникова, помнил его все эти годы, хотел увидеть, вызвало давно не испытываемое воодушевление.
За годы, прошедшие после демобилизации, Охотников не видел никого, с кем свела его война, если не считать Прасолова, встреченного им в Чите лет десять назад. Иногда он думал, что есть нечто противоестественное в том, чтобы не видеть тех, с кем бок о бок лежал под бомбами, прошел долгий, нелегкий путь от Шлиссельбурга до Будапешта, ел, как принято говорить, кашу из одного котелка, кого успел понять, полюбить, к кому успел привязаться за эти по-особому яркие годы его жизни.
Все они исчезли куда-то. Все до одного. Исчезли сразу, в одно мгновение, когда вышли из длинного, украшенного увядшей зеленью и лозунгами пыльного эшелона, в котором он, демобилизованный в Будапеште, шестеро суток ехал в Москву.
Он растворился в шумной московской толпе, в залитом солнцем городе, увешанном траурными флагами, – в тот день хоронили Калинина.
А они, все те, с кем он воевал вместе, исчезли навсегда. И не стало разницы между Борей Маркичевым, погибшим под Залещиками, и старшиной Поляковым – последним, кого он обнял перед расставанием. Они остались лишь в памяти да на пожелтевших любительских фотографиях – одинаково: и живые, и мертвые.
Встреча с Прасоловым ничего не меняла. Пьяница и трус, заместитель командира батальона по политической части, он был далек и чужд Охотникову. Прасолов затащил его в ресторан, где вспоминал свой батальон, какую-то невероятную попойку в замке на Эльбе и еще другую, с голыми немками, под Бауценом. Он нещадно перевирал имена и фамилии, называл Охотникова Ельниковым и наконец заплакал.
Охотников решил, что Прасолов оплакивает погибших, и почувствовал легкое сочувствие к этому бессмысленному, беспомощному человеку. Но выяснилось, что тот вспомнил “великую потерю”, понесенную советским народом в марте пятьдесят третьего года.
Сокрушенно тряся набрякшими брылами, Прасолов размазывал по отекшему белесому лицу пьяные слезы
– Что будет, – свистящим шепотом повторял он, наклонившись к Охотникову. – Нет, ты скажи. Ельников, как жить будем? Без отца? Сиротами остались, сиротами…
Голова его упала на скатерть, он всхлипнул еще раз и затих. Охотников положил на стол деньги и встал. Уже в дверях он видел, как Прасолов что-то бормотал официанту, утирая глаза кончиком салфетки. Официант сочувственно кивал.
Почему-то, получив приглашение на встречу ветеранов 3-й понтонной бригады, Охотников решил, что там, в Ленинграде, он увидит всех, кто остался жив, ему даже представилось, что и выглядеть они будут совсем так, как тогда, в Радебойле, и он увидит весь батальон, выстроенный поротно, повзводно, и не в штатском, а в военной форме, совсем так, как двадцать лет назад, когда им объявили приказ об окончании войны. Приказ и благодарность Сталина…
И как это ни казалось нелепым ему самому, он не мог представить их всех другими, они остались для него теми же, что в сорок пятом, на все прошедшие годы моложе.
Конечно, он понимал: все будет по-другому, – но и в самолете, задремав, увидел все тот же строй батальона, только почему-то стояла осень, поздняя осень, и генерал шел вдоль строя, ломая сапогом тонкий лед замерзших за ночь луж. Проснувшись, Охотников вспомнил: это было осенью сорок четвертого года, в день, когда ему вручили орден Красной Звезды.
Но, даже отбрасывая навязчивый, неправдоподобный образ предстоящей встречи, Охотников не мог отделаться от убеждения, что встретит в Ленинграде едва ли не всех, кого помнит, с кем встретил этот день двадцать лет назад.
Но, кроме Астахова и Генки, он не увидел ни одного знакомого лица, а все, что происходило, оказалось таким же чуждым и ничтожным, как пьяная болтовня Прасолова.
Сейчас, когда “встреча” осталась позади и сырой ветер с Невы сыпал на уже мокрые праздничные плакаты новые порции мелких холодных капель, Охотников снова перебирал вчерашние впечатления.
Они сидели в крохотном ресторанчике на Невском за длинным столом, беспорядочно уставленным остывшими шашлыками, бутылками с водкой, какими-то нехитрыми закусками, – каждый вносил по десятке. Справа сидела Рита Скачко, рыхлая, неопрятная женщина, похожая на буфетчицу, бывшая телефонистка из штаба бригады, которую он почти совсем не знал. Слева – Генка Котенков, который знал всех. Он называл имена сидевших за столом. Все, кроме Астахова, были из штаба бригады или из других батальонов, и Охотников если и знал кого-то, то понаслышке или, в лучшем случае, встречал два-три раза за всю войну.
О каждом из них Генка говорил восторженно, с неподдельным восхищением, даже некоторой влюбленностью. Все, что он говорил, просилось в легенду, в песню, в торжественный праздничный очерк. И люди, сидевшие за столом, пожилые, обрюзгшие, разгоряченные вином и воспоминаниями, представали вдруг молодыми, стройными, бесстрашными, с открытыми благородными лицами, лишенными морщин, бородавок, набрякших под глазами мешков. Охотников слушал Генку и удивлялся. Почти все, что рассказывал Генка, было на самом деле, но как-то иначе, обыденней и в своей обыденности удивительней и непостижимей. Охотников помнил другую войну, не ту, что Генка. Та война поражала устойчивым, сложившимся, будто навсегда, бытом, устойчивым и даже однообразным. Смерть, кровь, ранения, потеря друзей и непрерывная смена географических названий, новые места, новые люди, прибывающие в часть, чтобы в какой-то момент уйти, упасть на землю – ранеными или убитыми, все это было так же естественно, как завтрак, обед, сон, холод или жара…
Рита Скачко тоже время от времени бросала несколько слов в адрес тех, кого так восторженно воспевал Генка. И в ее злых, не отболевших с тех пор воспоминаниях Генкины герои представали мелкими, грязноватыми, подленькими людишками, бабниками и трусами. Только мертвым прощала она их прегрешения – погибшие и для нее оставались героями, будто главная вина присутствующих здесь мужчин заключалась в том, что они выжили.
Охотников слушал то Генку, то Риту. Все было не так, хотя и Рита, наверно, говорила правду. А как? Как совместить героизм Скулова на Сандомирском плацдарме с отвратительной историей, когда Скулов, чтобы избавиться от беременной медсестры, отдал ее под суд военного трибунала за невыполнение какого-то приказа? Тот самый Скулов, который один, рискуя жизнью, прикрывал переправу первых понтонов через Вислу? Что же происходило на самом деле и кто же такой этот Скулов? И знает ли он сам, что собой представляет?
Скулов сидел напротив Охотникова, откинувшись на спинку стула, вертел в руках высокий пустой фужер и чему-то улыбался. Может быть, вспоминал узкую полоску песка на берегу Вислы и пытался ощутить заново, восстановить то ликующее, безумное, бездумное, восторженное состояние, которое никогда больше не возвращалось к нему, когда он переступил какой-то порог, когда смерть, страх собственной смерти не слепил, не уничтожал его существо, не пригибал к земле, а сознание неожиданно открывшейся силы, может быть, даже чувство собственного бессмертия делало его действительно легендарным героем.
Или он ничего не помнил, и только когда соскочившие с понтонов солдаты, стреляя с ходу из автоматов, бросились вперед, скуловский пулемет неожиданно смолк, он почувствовал, что жив, а все, что происходило до этого, вылетело из его памяти, оставшись навсегда мгновенной судорогой страха и отчаяния, кошмаром, возвращающимся вновь и вновь во сне…
Кто знает? Скулов вертел в руках поблескивающий огоньками фужер и улыбался. И Охотников догадался, что не знает, не помнит Скулов, что с ним произошло тогда, на западном берегу Вислы, а запомнил, выучил наизусть то, что говорилось в рапорте о его подвиге, в представлении его к званию Героя Советского Союза. Звезды Золотой ему, впрочем, не дали, а дали всего-навсего орден Отечественной войны первой степени, отчего подвиг Скулова стал еще значительней, поскольку вплелась в него некая несправедливость.
А медсестру из батальона он под трибунал отдал действительно. Но ведь мог и не знать, что девчонка беременна. Молва приписывала вину за ее беременность самому Скулову. Но молва часто лжет и злопыхает. Уж очень эффектно выглядела история, в которой штабной офицер, чтобы отделаться от беременной любовницы, отдал ее под трибунал, – история ужасная, злодейская, мелодраматическая, и кто знает, не сама ли Рита Скачко пустила этот слух да и сама же в него поверила.
Все оказывалось недостоверным в том прошлом, ради которого он приехал на эту встречу. Охотников испытывал разочарование, ему хотелось чего-то другого. Он пытался понять, чего именно, но не мог. Или, вернее, не мог признаться, что мечталось ему о некоей идиллической обстановке фронтового, до последнего вздоха солдатского братства. Разве они не были тогда равны перед смертью там, на фронте? Охотников слышал, как хрустит, трескается по швам, лопается его неосознанная, но, в сущности, такая понятная нежность к своему солдатскому прошлому, к котелку, из которого вместе ели солдатскую кашу…
Но вот рядом с ним сидит Генка Котенков, о котором он часто, чаще, чем о многих других, вспоминал эти годы, с которым прошел рядом от Днестра до Эльбы, и если не ел из одного котелка – котелки у них были свои, – то спал, не раз укрывшись одной шинелью… Но то, что помнит он, Охотников, не помнит Генка, не видел этого, не знает, будто не рядом шли они по одной дороге, не одно и то же видели…
А что привело сюда остальных?
Неудовлетворенность жизнью? Нет – вот они сидят, сытые, благополучные, заслуженные, уверенные в собственной нужности. Что же? Желание вернуться в прошлое, подтвердить свое существование, свое значение, убедиться, что заслуги твои помнят, чтут, воздают тебе должное?.. А другие – Рита Скачко? Убедиться, что не вовсе твоя жизнь так уж нелепа и бессмысленна, что все-таки была война и эта ленточка от ордена неспроста, что ты живешь в чьей-то памяти, что ушедшее живет не только в тебе, но и в других, убедиться, что ты не забыт и кто-то поможет восстановить какую-то, быть может лучшую, частичку самого себя.
А сам Охотников? Он не мог разобраться в своих ощущениях и снова вспоминал песчаный бугор за поселком, откуда смотрел на далекий силуэт моста, тоску своего юношеского одиночества. Но ведь не было теперь того одиночества, не было. Так что же?
И его захлестнула, подхватила волна, все эти праздничные статьи, где воздается слава кому-то, всем, значит, и ему тоже, захлестнула гордость, что и он тоже прошел через войну, и он – воин-освободитель?
Да… воин-освободитель… Набившие оскомину, уже ничего не говорящие слова с плаката. И все-таки он помнит семизначный номер на руке девушки из Тыргу-Муреша, семизначный номер – 27964U2. Ее звали Лиля или Лия, она остановилась с подругой у моста через Эльбу и спросила, как пройти до Бухареста. Они были одеты в тонкие пальтишки, под которыми виднелась полосатая лагерная одежда. Он провел их к себе, в квартиру сбежавшего нациста, накормил и предложил им переодеться. У Лили загорелись глаза, но Эстер, старшая, покачала головой: “Мы придем домой в одежде, которую носили в лагере. Когда будет готов мост?”
Он пообещал, что мост будет готов завтра, и они ушли. Они жили в странном двухэтажном здании посреди города и неизвестно почему задержались в Ризе, хотя мост был уже восстановлен, еще на несколько дней. Лиля несколько раз приходила к мосту, и он приглашал ее к себе. Она открывала необъятный зеркальный шкаф с одеждой, и глаза ее загорались. В квартире, по-видимому, жила молодая женщина, любившая наряды, – шкаф был набит разноцветными платьями. Он предлагал ей взять любое. Она качала головой:
– Только померить… Можно?
Он выходил в кухню – сварить кофе, и Лиля появлялась ослепительно прекрасная, сияющая. Охотников снова предлагал взять с собой понравившееся платье, но Лиля снова качала головой. Она боялась Эстер, которая поклялась прийти домой в лагерной одежде.
Однажды они перешли через мост – в своих пальтишках, под которыми была только лагерная одежда. Больше он их не видел. И не увидит. Никогда. Он не увидит не только Лилю, даже если она и живет по-прежнему в своем Тыргу-Муреше, хотя, наверно, не так уж сложно побывать в Румынии и посмотреть на ее Тыргу-Муреш.
Он не увидит никогда ни Борю Маркичева, ни Изю Миневича, ни Зою Лапшину… Никогда…
Генка толкнул его в бок. Говорил сам генерал. Генерал говорил о том, что сделано для увековечения памяти о бригаде, о ее боевом пути, о том, что в поясе славы, создающемся на линии обороны Ленинграда, будет монумент в честь понтонеров – его установят на месте переправы у Шлиссельбурга. Потом, отдав должное активности своих помощников, в том числе и Скулова, он заговорил о происках неких лиц, историков и генералов, отрицающих роль бригады в освобождении Киева, и в связи с этим о необходимости создать книгу о боевом пути бригады, о подвигах понтонеров.
Все согласно кивали, согласно возмущались, согласно аплодировали и дружно выпили в честь генерала и его неугасаемой энергии.
Зачем все это, думал Охотников, пустое, сегодняшнее суетное… Да и книга получится скучная, выдуманная, потому что надо кого-то возвеличивать и себя отчасти, описывать подвиги, которые им чудились, придумывались порой, – одни тогда же на месте, другие потом, за рюмкой водки, после войны, затвержены и остались в памяти рядом с тем, что было на самом деле, а порой подменяли собой то, что было в действительности.
И даже если поднять архивы, и там все окажется полуправдой: донесения, цифры потерь, подвиги, за которые давали ордена и медали, – все преувеличено, искажено уже тогда, в донесениях и рапортах, и вот сейчас Астахов рассказывает историю, которой на самом деле не было, – Охотников сам ее выдумал, когда писал наградные, потому что, не выдумай он немыслимых подвигов, ни Самодай, ни Матузко, ни Муташев не получили бы не то что ордена, даже медали. А они их заслужили не каким-то сверхневероятным подвигом, а повседневным честным солдатским трудом. И Охотников выдумывал сверхневероятные подвиги и не жалеет о том и сейчас. А его писания подшивались в архивы, и не только его, другие тоже – донесения, в которых командиры представляли свои действия более разумными, чем они были на самом деле, более смелыми, более эффективными.
И орден Красной Звезды на груди у Генки – заслужен, но даже сам Котенков не знает, за какой такой подвиг, выдуманный Охотниковым, он получил эту Звезду. И Охотников не помнит. И его ордена – две Красные Звезды, – кто знает, что сочинил о нем штабной писарь Спивак, когда перед ним на столе положили список, кому на какой орден писать наградные…
Охотников дошел до Невы, постоял у мокрых чугунных перил, глядя, как волнуется внизу черная, как небо, вода, такая же, как сто, двести лет назад в такую же сырую, промозглую погоду. Свернув направо, он шел некоторое время, ни о чем не думая, – просто шел, подставив лицо летящей на него водяной пыли. У рекламной тумбы он остановился. Снова этот герой вчерашнего праздника, лейтенант с поднятым пистолетом. Вся тумба была оклеена одним и тем же плакатом – сверху донизу. Лейтенант в пилотке с вскинутым вверх пистолетом поднимал в атаку своих солдат. Их было много – одинаковых лейтенантов, одинаково оглядывающихся на солдат, с выброшенной вперед рукой и поднятым пистолетом. Охотников знал лейтенанта с пистолетом по широко известной фотографии, напечатанной в “Огоньке” и перепечатанной в десятках и сотнях журналов, альманахов и альбомов. Известно, что лейтенант погиб в той самой атаке, начало которой захватил чей-то удачливый объектив. Фотография – живая, достоверная – производила впечатление сильное, поражала своей неподдельностью. На плакате лейтенант поднимал свой пистолет не на фоне затянутого дымом неба, как на фотографии, за ним развевались знамена, лейтенант на плакате не мог погибнуть через мгновение – он был тот самый, что перематывал портянки по дороге на Берлин, водружал знамя над Рейхстагом и бросал знамена со свастикой к подножию Мавзолея. Это был Солдат с большой буквы и своего лица не имел. И Охотников вспомнил единственного солдата на встрече.
Он приехал откуда-то из-под Кириллова, высокий, чуть согнутый (темное продолговатое лицо старца с северной иконы), чисто выбритый, в новеньком жестком плаще, пахнувшем резиной, в чистеньком пиджачке, в черной сатиновой рубашке. Тихий, молчаливый, он за весь день, кажется, не произнес ни слова – лишь благодарно смотрел голубыми, чуть водянистыми глазами на генерала, на штабных офицеров, на Охотникова, которого не знал, на Риту Скачко, на бывшего своего командира роты, маленького плешивого человечка, посадившего его, как рассказывала Рита, на гауптвахту в самый День Победы за то, что не отдал ему своевременно честь. Казалось, он сам не помнил этого.
Охотников так и не узнал его фамилии – все называли его просто Егор, дружески похлопывали по плечу, поглядывали на него с умилением, а он все улыбался счастливой, идущей от самого сердца благодарной улыбкой. Охотников наблюдал, как почтительно, на некотором рассчитанном расстоянии стоял он, как внимательно, стараясь не пропустить ни одного слова, слушал генерала, и представил себе, как Егор собирался на эту встречу, как ждал ее и как сейчас, по-своему, воспринимает все происходящее – солдат, тот самый русский солдат, смелый, безропотный, безвестный. Как он всем тут необходим. И как, в сущности, до крайней, последней степени всем безразличен.
Солдат, идеальный солдат – Охотников знал всяких, – Егор едва ли был редкостью, но даже о самых отчаянных, самых ленивых думал с сочувствием и симпатией. Сколько их погибало, уходило на костылях из-за глупости и нераспорядительности офицеров, нелепых приказов, отсутствия, как, например, у переправы под Нижнювом, хотя бы пары зенитных пушек. Они воевали – шли в атаку, наводили переправы, делали проходы в минных полях, – не идеальные, они тяжело матюгались, дрались друг с другом, грабили походя мирных жителей, мечтали, как после войны ликвидируют колхозы, читали при свете коптилки из гильзы треугольные письма от жен и искренне сочувствовали сержанту, за всю войну не получившему ни одного письма. Впрочем, и среди них было достаточно таких, для которых и он не пожалел бы эпитетов Риты Скачко. И наверно, среди сидевших вчера за столом, показавшихся ему на одно лицо, были такие, с кем он мог сойтись близко, по-человечески.
Наверно, и он бы оказался в положении Егора – чуть в стороне – “наш сержант”, один из тех, которые… Какими подвигами, какими особенными доблестями мог он похвастать – даже Генка не мог бы припомнить для него ни одного легендарного подвига: ничем не примечательный сержант-понтонер, – если бы среди офицеров бригады не оказался Липовецкий, начальник одного из отделов Ленмостпроекта, знаменитый конструктор, хорошо знавший не сержанта – инженера Охотникова.
Узнав Охотникова, он сперва удивился, потом шумно обрадовался и, обняв его за плечи, представил генералу как крупнейшего инженера-мостовика, строителя Хангарского моста в Сибири, фотографию которого на первой странице поместила недавно “Правда”. О фотографии тоже было упомянуто и о представлении к премии, конечно.
Генерал был счастлив. Он еще раз, как бы заново, обнял Охотникова, одобрительно осмотрев его с головы до ног, и снова трижды расцеловал. Теперь Охотников становился гордостью его бригады – “его сержант” стал знаменитым; ни в одном из будущих своих выступлений он не упустит случая сказать, как из простого сержанта-понтонера, его сержанта, вырос знаменитый инженер – строитель уникальных мостов через могучие реки Сибири.
Астахов тоже глядел на него по-иному, он как бы уравнялся с ним, уже не как бывший однополчанин, сержант с подполковником в отставке, а как крупнейший инженер-строитель с секретарем обкома по пропаганде. Он сразу стал своим среди бывших майоров, полковников и подполковников, ныне начальников плановых отделов, директоров каких-то предприятий, депутатов горсовета и прочих вершителей судеб и дел сегодняшнего дня. Охотников чувствовал это особое, окрашенное его положение, новое к себе отношение даже в Генке, и ему становилось грустно.
А сегодня утром, на берегу Невы, когда все пытались вспомнить, где же когда-то находилась их первая переправа, они наперебой, с подчеркнутым уважением к мнению специалиста, спрашивали его, что он думает по этому поводу.
Узнать местность было невозможно. Не изменилась лишь громада крепости на другом берегу. Здесь тогда ничего не оставалось, ни дома, ни деревца, – перерытая снарядами пустыня, ничем не похожая на нынешний поселок: свежевыкрашенные к весне наличники окон и заборы, только что вспаханные огороды и палисадники. Установить, где могла быть переправа, не представлялось возможным. Все бестолково спорили, бегали с места на место, поднимались на откос, тыча рукой то в одну, то в другую сторону.
Охотников спросил у Егора. Он не надеялся, что Егор помнит, где была переправа. Просто стало неловко видеть, как старик, улыбаясь своей счастливой улыбкой, стоит в стороне, никому не нужный, случайный, забытый всеми. Егор перестал улыбаться. Он подошел к огромному валуну, едва выглядывавшему из песчаного откоса, поглядел на бастионы крепости, потом куда-то вверх и, сделав от валуна шагов десять, сказал: здесь!..
Все снова заспорили, не соглашаясь, но Охотников не слушал их. Он кивнул Егору, пожал ему руку – он поверил ему не потому, что вспомнил сам, а просто поверил Егору, понял, что Егор помнит, знает, уверен. Он отошел к воде и закурил. Захотелось уйти отсюда, уехать, все равно куда – в Ленинград, домой, просто уйти от этих людей, не участвовать в этой хорошо организованной игре для стариков и детей, торжественной и неискренней…
Мокрые, потемневшие от влаги лейтенанты на плакатах взмахивали пистолетами, поднимая в атаку тех, кого нельзя увидеть, не попавших в объектив. Охотников все смотрел и смотрел на плакатного лейтенанта и вспомнил погибшего, совсем не похожего на плакатного, и все впечатления вчерашнего дня и сегодняшней поездки – счастливую улыбку Егора, широко расставленные объятия и поцелуи генерала, слезы и восторги Котенкова, тоску и злость Риты Скачко, погруженную в прошлое улыбку Скулова, – и вдруг почувствовал, что был, в сущности, нет, не лишним, наоборот, нужным на вчерашнем празднике, даже необходимым, но не столько тем, с кем пил водку, пел песни, а кому-то другому, другим, для важного, очень важного дела, участвовал в некоем спектакле, в огромном, охватывающем всю страну зрелище, гигантской, с умом и размахом поставленной массовке, где всё – его желание увидеть дорогих ему людей, тоска Егора, восторги Котенкова, тщеславие генерала и надутая важность Скулова, даже злая скука Риты Скачко, явившейся на встречу с неиссякшим запасом обиды и неприязни ко всем, с кем когда-то спала, – всё, всё годилось, всё шло в дело, сливалось в гигантское представление для тех, кому еще придется воевать. Когда? С кем? Все равно – пусть их вдохновит мысль, что никто не забыт, ничто не забыто.
Что вспомнилось
Коло
Утром в Тарнобжеге стоял такой туман, что другой стороны улицы как бы и вовсе не было. Пан Вежанский, мой переводчик, посмотрел на меня с некоторым сомнением, мол, стоит ли ехать, но тут же попытался успокоить:
– На Висле так бывает, с утра туман, а к полудню вовсю светит солнце.
– Будем надеяться, – согласился я, хотя провел на Висле всю осень сорок четвертого и знал, что туман может продержаться весь день.
Мы позавтракали в кафе рядом с гостиницей, на той стороне улицы, которая все-таки существовала. Когда мы вышли, туман поредел, но еле заметно. У входа в гостиницу стояла наша машина.
– Туман, – сказал шофер.
– Да, туман, – согласился я.
Уже то, что увижу Коло под снегом и льдом, а не в жухлой зелени начинающейся осени, как тогда, в сорок четвертом, заранее огорчало меня. А тут еще и туман… Даже если он и рассеется, как предполагает пан Вежанский, все же не настолько, чтобы сделать приличные снимки. Стоит ли ехать? Однако не возвращаться же!
– Поехали! – сказал я.
Шофер сел за руль, мы с паном Вежанским уселись сзади, и машина покатила по улицам Тарнобжега в сторону Коло.
Коло…