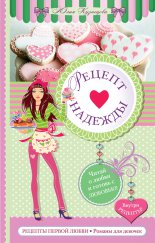Предательство по любви Перри Энн

Обвинитель скорчил гримасу:
– Мне она кажется вполне нормальной. Но, учитывая ваши безупречные доказательства, что никто, в том числе и сама миссис Карлайон, не верил в связь ее мужа с миссис Фэрнивел… Видно ведь, к чему вы ведете: ее подозрения были беспочвенны и нелепы – значит, она сумасшедшая.
Улыбка адвоката сделалась шире:
– Продолжайте, Уилберфорс! Вы все знаете лучше меня! Но свою линию я вам открою только на суде.
Ловат-Смит покачал головой. Меж бровей у него залегла морщина.
Оливер насмешливо попрощался, стараясь выглядеть бодрее, чем на самом деле, и его оппонент остался стоять в глубоком раздумье прямо посреди лестницы, равнодушный к гаму и сутолоке Олд-Бейли.
Вместо того чтобы отправиться домой, что было бы вполне естественно, адвокат взял кеб и поехал на Примроуз-Хилл, поужинать вместе с отцом. Генри Рэтбоуна он нашел в саду, где тот любовался бледной луной, повисшей над фруктовыми деревьями, и рассеянно прислушивался к щебетанию скворцов.
Некоторое время оба стояли в молчании, наслаждаясь тихим вечером, разглаживающим морщины суетного дня.
– Ну? – спросил наконец Генри, искоса взглянув на сына.
– Как и следовало ожидать, – ответил Оливер. – Ловат-Смит полагает, что я начисто утратил хватку. Возможно, он и прав. Во время заседания дело казалось мне безнадежным. Я уже не верю в свои силы. Слишком уж впечатляет публику незапятнанная репутация Карлайона. – Ему вспомнились гнев и отвращение на лице отца, когда тот впервые услышал об истинных причинах убийства генерала. Теперь им было неловко смотреть друг на друга.
– Кого сегодня вызывали? – тихо спросил Рэтбоун-старший.
– Фэрнивелов. Боже, как мне отвратительна Луиза Фэрнивел! – воскликнул Оливер с неожиданной горячностью. – В ней все противоположно тому, что я всегда ценил в женщинах. Лживая, самовлюбленная, совершенно без чувства юмора, материалистка и вдобавок бесчувственная… Но я не мог придраться к ней как к свидетелю. – Лицо его напряглось. – Какая жалость! Будь моя воля, я бы в клочки ее разорвал.
– А как Эстер Лэттерли?
– Что?
– Как насчет Эстер? – повторил Генри.
– А почему ты об этом спрашиваешь?
– Все ли в ней соответствует тому, что ты ценишь в женщинах? – слегка улыбнувшись, поинтересовался старший Рэтбоун.
Оливер покраснел, что случалось с ним не часто.
– Я ее не видел, – ответил он, чувствуя себя обманщиком, хотя сказанное было чистой правдой.
Генри промолчал, и его сын окончательно смутился.
Из-за стены взвилась щебечущая стая скворцов и закружилась в бледном вечернем небе. Жимолость была в полном цвету, и аромат ее разносился легким ветерком по всему саду. Рэтбоун-младший внезапно ощутил всю хрупкость этой красоты, ощутил одиночество, смущение и пронзительную надежду. И он не проронил ни слова, так как только тишина могла вместить в себя все то, что ему так хотелось сохранить невредимым.
Следующим утром Оливер Рэтбоун до начала заседания увиделся с Александрой. Он не знал, что сказать этой несчастной женщине, но и оставлять ее в одиночестве тоже не следовало. Услышав его шаги, она обернулась. Глаза ее широко раскрылись, а кровь отлила от лица. Адвокат почти физически ощущал разлившийся в комнате страх.
– Все меня ненавидят, – просто сказала миссис Карлайон, но ее голос выдавал, что она готова расплакаться. – Мысленно они уже вынесли приговор. Никто даже не слушает. Вчера какая-то женщина крикнула: «Вздернуть ее!» – Александра была на грани обморока. – Если так кричат женщины, то чего же ждать от суда присяжных, где одни мужчины?
– Не стоит отчаиваться, – мягко сказал Рэтбоун, постаравшись вложить в эти слова как можно больше уверенности. Он взял подсудимую за руки, и та позволила ему это сделать, словно была тяжело больна и слишком слаба, чтобы чему-либо противиться. – Не стоит отчаиваться, – повторил он. – Та крикунья была просто напугана. Она боится, что вас оправдают, потому что ей нечем утешить себя, кроме сознания собственной непорочности. У нее нет ни таланта, ни красоты, ни положения в обществе, но у нее есть добродетель! Вернее, то, что она называет добродетелью. В ее понимании это – незапятнанная репутация. А то, что действительно наполнено смыслом – щедрость, терпение, отвага, милосердие, – ей попросту неизвестно.
Александра вяло улыбнулась:
– Вы говорите убедительно, но я не о том. Я чувствую только их ненависть. – Голос ее дрогнул.
– Конечно, они ненавидят. Потому что боятся. А страх – это одно из самых омерзительных чувств. Однако позже, когда они узнают правду, их ненависть немедленно обратится в другую сторону.
– Вы так думаете? – Надежды в голосе миссис Карлайон не прибавилось.
– Да, – сказал ее защитник с уверенностью, которой сам он не ощущал. – Вы еще увидите их ярость и сострадание, когда они представят, что такое может произойти и с их детьми. Мы должны сказать им правду и дать им возможность все это прочувствовать.
Александра задрожала и сделала попытку отвернуться:
– Это глас вопиющего в пустыне, мистер Рэтбоун. Они не захотят поверить. В их глазах Таддеуш был героем; поднять руку на него – все равно что поднять руку на империю. – Она сгорбилась. – Герои защищают нас и от врагов, и от наших собственных сомнений. Если вы посягнете на образ британского солдата в красном мундире, выстоявшего против всей Европы, победившего Наполеона, завоевавшего Африку, Индию, Канаду, с чем же вы тогда останетесь? Никто не отважится делать это ради одной-единственной женщины, которая, так или иначе, преступница.
– Вы странным образом сами себе противоречите, – промолвил Оливер, тщательно пряча собственные эмоции. – Те же самые красные мундиры не бросали поле боя, не будучи уверены в победе. Вы, видимо, плохо знаете историю. Самые блистательные победы были одержаны именно тогда, когда положение казалось безнадежным.
– Например, атака Легкой бригады? – с внезапным сарказмом спросила женщина. – Знаете, сколько их там полегло? И, главное, ни за что!
– Да, каждый шестой… И одному богу известно, сколько было ранено… Но я, признаться, думал о «тонкой красной линии» – о той шеренге, что сдерживала врага и не отступила ни на шаг, пока атака не захлебнулась.
Миссис Карлайон недоверчиво улыбнулась со слезами на глазах:
– Так вот чего вы хотите?
– Именно!
Не в силах больше с ним спорить, Александра отвернулась. Ей нужно было побыть одной и набраться мужества, чтобы снести страх и позор очередного дня.
Первым на возвышение поднялся Чарльз Харгрейв, вызванный Ловат-Смитом, чтобы подтвердить все уже известные суду детали званого обеда, а главное – рассказать, как было найдено бездыханное тело генерала с ужасной раной в груди.
– Мистер Фэрнивел вернулся в гостиную и сказал, что с генералом несчастье. Это верно? – спросил Уилберфорс.
Харгрейв был очень серьезен. Присяжные слушали его внимательно и с уважением, как слушают только людей определенных профессий: врачей, юристов и священников.
– Совершенно верно, – отвечал медик со скупой улыбкой. – Думаю, он выразился таким образом, чтобы не поднялось ненужной суматохи.
– Почему вы так полагаете, доктор?
– Потому что когда я вышел в холл и увидел тело, мне сразу стало ясно, что генерал мертв. Даже человек, не имеющий медицинского образования, понял бы это с первого взгляда.
– Вы можете описать все повреждения, обнаруженные вами на теле, доктор Харгрейв?
Присяжные шевельнулись и замерли со скорбным вниманием.
Тень пробежала по лицу Чарльза, но необходимость заданного вопроса была очевидна.
– Конечно, – согласился он. – Я нашел генерала лежащим на спине. Его левая рука была откинута в сторону приблизительно на уровне плеча и согнута в локте, а правая располагалась вдоль тела, дюймах в тринадцати-четырнадцати от бедра. Ноги были согнуты, причем правая лежала в неестественном положении, что позволило мне допустить возможность перелома в районе голени, а левая выглядела сильно вывихнутой. Впоследствии оба моих предположения подтвердились. – В тот миг на лице доктора Харгрейва можно было прочитать все, что угодно, – но не самодовольство. Он смотрел в основном на обвинителя и ни разу не обернулся к Александре.
– Были ли у него еще ссадины, ушибы? – настаивал на более подробном ответе Ловат-Смит.
– Мне бросилось в глаза повреждение в районе виска, которым он, очевидно, ударился об пол. Рана еще кровоточила.
Зрители на галерее тянули шеи, чтобы увидеть Александру. Слышались шепот, бормотанье.
– Верно ли я вас понял, доктор? – Уилберфорс поднял крепкую короткопалую руку. – На голове вами было замечено лишь одно повреждение?
– Совершенно верно.
– О чем вам, как врачу, это говорит?
Чарльз слегка пожал широкими плечами:
– О том, что, упав через перила, он ударился головой лишь один раз.
Ловат-Смит коснулся пальцем своего левого виска:
– Здесь?
– Да, приблизительно.
– Но вы сказали, он лежал на спине?
– Да, – тихо ответил медик.
– Мистер Фэрнивел сообщил нам, что алебарда торчала у генерала из груди. – Обвинитель в раздумье прошелся по залу, а потом обернулся и сосредоточенно посмотрел на свидетеля. – Как мог человек, упав с балкона лестницы на алебарду, удерживаемую перчаткой пустого рыцарского доспеха, проткнуть себе грудь, а потом повредить череп в том месте, где вы показали?
Судья посмотрел на Рэтбоуна. Тот поджал губы. У него не было возражений. Он и не спорил с тем, что Александра убила генерала.
Ловат-Смит, казалось, был удивлен, что его не перебили.
– Доктор Харгрейв! – окликнул он Чарльза, переминаясь с ноги на ногу.
Присяжные беспокойно задвигались. Один из них хмурился и почесывал нос.
– Не имею представления, – ответил врач. – Остается предположить, что генерал падал спиной, но перевернулся в воздухе после… – Он замолчал, не закончив фразу.
Черные брови Уилберфорса удивленно приподнялись.
– Неужели, доктор? – Обвинитель развел руками. – Он падал спиной вниз, перевернулся в воздухе, чтобы угодить грудью на алебарду, а затем снова перевернулся и ударился об пол виском? Причем алебарда так и осталась в теле… А потом он еще и перекатился на спину, подогнув ноги? Вы меня удивляете.
– Конечно, все не так, – ответил Харгрейв, выказывая едва заметное беспокойство.
Оливер оглядел присяжных. Чувствовалось, что доктору они симпатизируют, а Ловат-Смит их раздражает. Причем и то, и другое явно входило в планы ловкого обвинителя. В конце концов, Чарльз – его свидетель, так пусть присяжные проникнутся к нему полным доверием.
– А как, доктор? – продолжал расспрашивать медика Уилберфорс.
Харгрейв со всей серьезностью смотрел на Ловат-Смита и обращался только к нему, словно беседа шла с глазу на глаз:
– Он должен был упасть, удариться головой, а алебарда пронзила ему грудь, когда он уже лежал на полу. Возможно, его перевернули, но совсем не обязательно. Скорее он сам перекатился на спину после падения. Шея его, помнится, была неестественно вывернута, хотя и не сломана. За это я ручаюсь.
– Значит, вы утверждаете, что это не могло быть несчастным случаем, доктор Харгрейв?
Лицо медика помрачнело:
– Да.
– Сколько времени вам потребовалось, чтобы прийти к этому трагическому выводу?
– Начиная с того момента, как я увидел тело… минуты две. – Тень улыбки скользнула по его губам. – В подобных обстоятельствах время ведет себя очень странно. Иногда оно тянется бесконечно, как прямая дорога, а иногда обрушивается ливнем. Две минуты – это всего лишь догадка, основанная на последующих умозаключениях. Поверьте, это были самые ужасные мгновения в моей жизни!
– Почему? Вы поняли, что один из ваших друзей, находящихся в тот момент в доме, убил генерала Карлайона?
Судья, нахмурившись, снова взглянул на адвоката, но тот не двинулся с места, невозмутимо пропуская опасный вопрос.
– Да, – еле слышно признался Чарльз. – Увы, но этот вывод был неизбежен. Мне очень жаль. – И он в первый раз за все время посмотрел на Александру.
– Именно так, – торжественно подтвердил Ловат-Смит. – И вы вызвали полицию?
– Вызвал.
– Благодарю вас.
Рэтбоун снова оглядел присяжных. Никто из них не смотрел теперь на скамью подсудимых. Обвиняемая сидела неподвижно. Ее голубые глаза были устремлены на Оливера, но в них не было ни гнева, ни удивления, ни надежды.
Он улыбнулся ей, чувствуя себя весьма нелепо.
Глава 10
Со все возрастающим беспокойством Монк слушал вопросы, которые Ловат-Смит задавал Чарльзу Харгрейву. Доктор произвел на присяжных превосходное впечатление. Уильям видел их серьезные, внимательные лица. Харгрейва не только уважали – ему верили. Что бы он ни сказал о миссис Карлайон, сомнения это не вызовет.
Рэтбоун ничего не мог с этим поделать, и сыщик отлично это понимал. Ему оставалось лишь стискивать от злости кулаки.
Ловат-Смит держался не то чтобы элегантно (этого за ним не водилось), но весьма уверенно, и голос его был приятен, звучен и неповторим, как у хорошего актера.
– Доктор Харгрейв, вы общались с семьей Карлайонов много лет и были их домашним врачом, не так ли?
– Так.
– Вы должны были за это время хорошо узнать их характеры и взаимоотношения…
Рэтбоун замер, но прерывать противника не стал.
Уилберфорс с улыбкой взглянул на адвоката и снова повернулся к свидетелю.
– Пожалуйста, опирайтесь в ответах исключительно на ваши личные наблюдения, – предупредил он. – Не надо ссылаться на чье-либо мнение, если только вас об этом не попросят. И не стоит строить собственных догадок, лишь факты.
– Я понимаю. – Медик позволил себе скупую улыбку. – Мне приходилось давать показания и раньше, мистер Ловат-Смит. Что бы вы хотели узнать?
Так, заботливо соблюдая все правила, обвинитель в течение всего утра и части дня вытягивал из Чарльза показания о том, каким замечательным человеком был генерал Карлайон. Герой, прирожденный лидер, пример подрастающему поколению, образец доблести, дисциплины и чести. Идеальный муж, никогда не поднимавший руки на свою жену, никогда не вынуждавший ее к сожительству против воли, но, с другой стороны, подарившей ей трех прелестных детей. Любящий отец, связывавший надежды с единственным сыном, который его, в свою очередь, обожал. Нет никаких свидетельств, что он не был верен жене, что пил, играл или ограничивал ее в средствах.
Проявлял ли он когда-нибудь признаки умственного расстройства или эмоциональной неуравновешенности?
Нет, никогда. Эта мысль смехотворна, чтобы не сказать – оскорбительна.
А как насчет обвиняемой? Она ведь тоже была пациенткой мистера Харгрейва.
Тут, по словам врача, дело, к сожалению, обстояло иначе. В последние годы обвиняемая часто и беспричинно впадала в возбужденное состояние. Наблюдались приступы меланхолии, внезапные слезы, неожиданные отлучки из дому и яростные ссоры с мужем.
Присяжные снова смотрели на Александру. На этот раз – в смущении, как если бы они застали ее нагой или в момент интимной близости с мужем.
– А откуда вы все это знаете, доктор Харгрейв? – допытывался Ловат-Смит.
Рэтбоун сидел молча.
– Конечно, сам я при этих ссорах не присутствовал, – сказал Чарльз, покусывая губу. – Но плаксивость, меланхолия и внезапные отлучки Александры бросались в глаза каждому. Несколько раз, являясь к Карлайонам по приглашению, я не заставал ее дома. Часто она была близка к истерике – я сознательно употребляю это слово. Но причин такого своего состояния она не объяснила мне ни разу, ограничиваясь совершенно дикими намеками.
– На что?
Уилберфорс нахмурился и изумленно повысил голос, как если бы не знал ответа заранее. Однако Монк, сидящий там же, где и накануне, мог побиться об заклад, что ответ обвинителю известен. Даже полное отсутствие сопротивления со стороны Оливера вряд ли могло усыпить бдительность опытного юриста.
Присяжные слегка подались вперед. Эстер, сидящая рядом с Уильямом, застыла.
– Это были намеки на супружескую неверность генерала? – допытывался Ловат-Смит.
Судья взглянул на Рэтбоуна. Обвинитель явно провоцировал свидетеля. Но адвокат молчал, и его честь не стал вмешиваться.
– Нет, – нехотя ответил Харгрейв и глубоко вздохнул. – Намеки совершенно беспредметные. Она была склонна к истерике, как я уже упоминал.
– Понимаю. Благодарю вас. – Уилберфорс поклонился. – У меня всё, доктор. Будьте добры, задержитесь, если у моего ученого друга возникли вопросы.
– Да, возникли. – Оливер поднялся, и движения его чем-то напоминали движения тигра. – Вы говорили с такой прямотой о семействе Карлайонов, что, полагаю, сказали нам по этому поводу все, что могли. – Он в упор взглянул на Чарльза. – Верно ли я понял, доктор Харгрейв, что вы состоите с ними в дружеских отношениях вот уже лет пятнадцать-шестнадцать?
– Да, верно. – Медик был несколько сбит с толку – ведь он уже говорил об этом Ловат-Смиту!
– Однако четырнадцать лет назад вы несколько охладели к этой семье в целом и с тех пор предпочитали общаться в основном с генералом, не правда ли?
– Допустим. – Врач отвечал неохотно, но не проявлял признаков беспокойства. Тема разговора не особенно его трогала.
– Значит, вы не имеете авторитетного мнения о характере, скажем, миссис Фелиции Карлайон или полковника Карлайона?
Харгрейв пожал плечами:
– Если вам угодно – да. Но это едва ли существенно. Судят ведь не их.
Рэтбоун обнажил зубы в улыбке:
– Но вы упомянули о вашей дружбе с генералом Карлайоном?
– Да. Я был его врачом, а также врачом его жены и детей.
– Я к тому и веду. Вы сказали, что у миссис Карлайон, обвиняемой, обнаружились признаки того, что вы назвали истерией?
– Да… К сожалению, – согласился Чарльз.
– А в чем это конкретно выражалось?
Свидетель почувствовал неловкость и взглянул на судью. Тот молчал.
– Вас смущает вопрос? – осведомился Оливер.
– Есть ли в нем необходимость?.. Раскрывать врачебные тайны, да еще в присутствии пациента… – Говоря это, Харгрейв смотрел на защитника, словно не замечая Александры.
– Позвольте мне самому позаботиться об интересах миссис Карлайон, – сказал Рэтбоун. – Я их здесь как раз и представляю. Будьте добры, ответьте на мой вопрос. Опишите ее поведение. Она визжала? – Адвокат отступил на шаг, смерил свидетеля взглядом и удивленно округлил глаза. – Падала в обморок, билась в припадках? – Он развел руками. – У нее были галлюцинации? В чем выражалась ее истеричность?
Чарльз начал выказывать нетерпение.
– У вас дилетантское представление об истерии, простите за резкость. Это состояние умственного расстройства, и оно вовсе не обязательно выражается в бесконтрольном поведении.
– Как же вы заметили ее умственное расстройство, доктор Харгрейв?
Рэтбоун был безукоризненно вежлив. Наблюдая за ним, Монк вынужден был признаться себе, что сам он давно бы уже разорвал доктора на куски на виду у присяжных, хотя в глубине души и понимал, что расплата за это последовала бы незамедлительно и платить пришлось бы жизнью Александры.
Прежде чем ответить, медик задумался.
– Она не могла оставаться в покое, – сказал он наконец. – Ходила с места на место, садилась, вскакивала. Ее часто била дрожь, и за что бы она ни взялась, у нее все валилось из рук. Голос постоянно дрожал – бывало, она не могла связать двух слов.
– Но никаких галлюцинаций, обмороков, визга? – нажимал адвокат.
– Нет. Я ведь уже сказал вам. – Чарльз не скрывал своего нетерпения и поглядывал на присяжных, взывая к их сочувствию.
– Скажите нам, доктор Харгрейв, чем отличаются эти симптомы от поведения, вызванного сильным и продолжительным потрясением?
Прежде чем ответить, врач помедлил несколько секунд.
– Не думаю, что их вообще можно отличить, – произнес он наконец. – Но она не говорила ни о каком потрясении.
Оливер демонстративно уставился на свидетеля, словно не веря своим ушам:
– Она даже ни разу не намекнула вам, что ее муж изменяет ей с другой женщиной?!
Харгрейв наклонился вперед, опершись на перила:
– Нет… Не намекала. Я уже говорил, мистер Рэтбоун, что никакого драматического открытия она сделать не могла, потому что открывать было нечего. Эта измена, если вам так угодно, является плодом ее воображения.
– Или вашего, доктор, – процедил сквозь зубы Оливер.
Чарльз вспыхнул, но скорее от смущения и злости, чем от чувства вины, после чего бестрепетно взглянул адвокату в глаза.
– Я лишь ответил на ваш вопрос, мистер Рэтбоун, – резко сказал он. – Вы же извращаете мои слова. Я не говорил о том, что измена была. Напротив, я говорил, что ее не было.
– Совершенно верно, – согласился защитник, поворачиваясь к залу. – Измены не было, и миссис Карлайон ни разу не упоминала о ней как о причине своего потрясения.
– Это… – Харгрейв колебался, точно не находя нужных слов.
– Но чем-то она была сильно потрясена, эту возможность вы допускаете?
– Конечно.
– Благодарю. Когда это случилось? Я имею в виду, когда вы впервые заметили ее смятенное состояние?
– Точной даты назвать не могу, но где-то в июле прошлого года.
– Приблизительно за девять месяцев до смерти генерала?
– Совершенно верно. – Чарльз улыбнулся, позабавленный этим быстрым арифметическим подсчетом.
– И вы не имеете представления, что могло послужить причиной этого?
– Ни малейшего.
– Вы были врачом генерала Карлайона?
– Я уже говорил вам, что да.
– В самом деле. И вы утверждали, что можете сосчитать по пальцам все случаи, когда оказывали ему медицинскую помощь. Похоже, у генерала было великолепное здоровье, а раны, полученные в бою, ему обрабатывали военные хирурги.
– Вы утверждаете очевидное, – надменно произнес медик.
– Тогда вам, вероятно, очевидно и то, что вы не упомянули об одной ране, которую пришлось обрабатывать лично вам, – тонко улыбнувшись, сказал Рэтбоун.
Впервые на лице Харгрейва отразилось настоящее замешательство. Он открыл рот, но, так ничего и не сказав, снова закрыл его. Костяшки его вцепившихся в перила пальцев побелели.
В зале стало тихо. Адвокат сделал пару шагов в сторону и обернулся. Все с интересом ждали продолжения.
Лицо Чарльза застыло, но уклониться от ответа было невозможно, и он это знал.
– Это был несчастный случай, причем довольно глупый, – произнес он в конце концов, пожимая плечами. – Генерал чистил декоративный кинжал и порезал себе бедро.
– Вы при этом присутствовали? – как бы невзначай поинтересовался Оливер.
– Э… нет. Меня вызвали, потому что рана сильно кровоточила, и, естественно, я спросил генерала, как это произошло.
– То есть вы все узнали с чужих слов? – Рэтбоун приподнял брови. – Неудовлетворительно, доктор. Может быть, это правда, а может, и нет.
Ловат-Смит встал со своего места.
– Имеет ли все это отношение к делу, милорд? Я догадываюсь, что мой ученый друг пытается подорвать доверие присяжных к доктору Харгрейву, задавая ему совершенно посторонние вопросы, но он лишь попусту тратит наше время.
Судья взглянул на адвоката.
– Мистер Рэтбоун, объясните нам, что вы, собственно, хотите выяснить? В противном случае я буду вынужден прервать вас.
– О да, милорд, – уверенно ответил Оливер. – Я убежден, что ранение, о котором мы говорим, имеет непосредственное отношение к данному делу.
Уилберфорс оглянулся, выразительно разведя при этом руки – ладонями вверх. В зале послышались смешки, но тут же стихли.
Чарльз вздохнул.
– Будьте добры, опишите ту рану, доктор, – вернулся к расспросам адвокат.
– Это был глубокий порез бедра спереди и немного смещенный внутрь, как и должен был вонзиться выскользнувший из руки нож.
– Насколько он был глубоким? Дюйм? Два дюйма? И какой длины, доктор?
– Около полутора дюймов глубиной и пять дюймов длиной, – устало произнес медик.
– Серьезное ранение. А в каком направлении был нанесен удар?
Побледневший свидетель молчал.
Александра подалась чуть вперед со скамьи подсудимых, как будто впервые услышала что-то неожиданное.
– Пожалуйста, отвечайте на вопрос, доктор Харгрейв, – вмешался судья.
– Э… снизу вверх, – с трудом выдавил Чарльз.
– Снизу вверх? – Рэтбоун моргнул, точно усомнившись, что расслышал правильно. – Вы имеете в виду… от колена к паху, доктор Харгрейв?
– Да, – еле слышно ответил тот.
– Прошу прощения! Не могли бы вы повторить это теперь и для присяжных?
– Да, – угрюмо сказал врач.
Присяжные были явно озадачены. Двое из них наклонились вперед. Кто-то заерзал, а прочие сосредоточенно нахмурились. Они не понимали, куда клонит защитник, но видели, что свидетель неожиданно замкнулся в себе.
Даже толпа в зале хранила молчание.
Менее опытный юрист, чем Ловат-Смит, наверняка бы попробовал вмешаться, но Уилберфорс знал, что тем самым лишь выдаст собственную растерянность.
– Скажите нам, доктор Харгрейв, – негромко продолжал Оливер, – каким образом человек, чистящий клинок, может выронить его так, чтобы рассечь себе бедро от колена к паху? – Адвокат медленно кружил на одном месте. – Мы будем весьма вам обязаны, если вы покажете, какое именно движение себе вообразили, когда… хм, поверили в объяснение генерала. Кроме того – почему, по-вашему, опытный солдат чистил клинок столь неуклюже? И, наконец, насколько это занятие соответствовало его положению? – Рэтбоун нахмурился. – У меня, например, нет дома декоративного кинжала, но я же не чищу сам свое столовое серебро или, скажем, ботинки!
– Я понятия не имею, зачем ему это понадобилось, – ответил медик, качнувшись вперед и еще крепче хватаясь за перила. – Но поскольку он сам пострадал от несчастного случая, почему я должен был ему не верить? Возможно, генерал проявил такую неловкость как раз потому, что не привык чистить ножи собственноручно.
Это была ошибка, и доктор сам ее немедленно осознал. Ему вовсе не следовало искать оправдания!
– Вы не можете знать, кто именно пострадал от несчастного случая и был ли это вообще несчастный случай, – вежливо напомнил ему Оливер. – Наверное, вы хотели сказать, что генерал пострадал от удара кинжалом?
– Если вам угодно, – сухо отозвался Чарльз. – Мне все это представляется всего лишь игрой слов.
– Тогда объясните нам, каким образом нужно было держать нож, чтобы нанести себе описанную вами рану? – Рэтбоун сжал руку, словно сомкнув пальцы на рукояти кинжала и, нелепо изгибаясь, попробовал изобразить предполагаемый удар. Это оказалось невозможно, и в зале послышались нервные смешки. Адвокат вопросительно посмотрел на свидетеля.