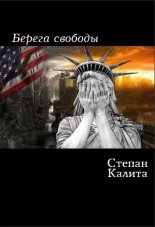Образование Маленького Дерева Картер Форрест
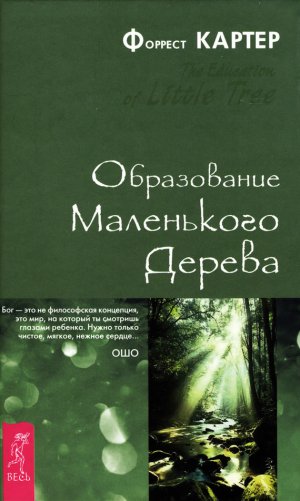
Но Билли Сосна ни капли не задавался. Он сказал, может случиться и так, что награда и не составит такой уж большой суммы. Он, Билли Сосна, никогда не кладет все яйца в одну корзину и не считает цыплят раньше осени, — что вполне разумно.
Он сказал, что на всякий случай проделал еще другую работу. Он сказал, что недавно компания по производству жевательного табака Ред Игл проводила конкурс, и победителю было обещано пятьсот долларов, — а этого человеку, можно сказать, достаточно, чтобы на всю жизнь поправить свои обстоятельства. Он сказал, что взял заполнить бумагу, а всех дел-то было, что написать, почему ты любишь редигловский табак. Он сказал, что изрядно потрудился, пока ее заполнял, но в конце концов сочинил самый победительный ответ, какой вообще бывает на белом свете.
Он сказал, большинство народу на конкурсе только и писало, что Ред Игл, мол, хороший табак, как и он сам написал, только он-то, — он пошел дальше. Он сказал, что написал про редигловский табак, что он лучший, какой он жевал в своей жизни, и еще написал, что никогда не станет жевать другого табаку, помимо редигловского, до конца своих дней. Он сказал, что задал своей голове славную работу, но когда редигловские воротилы увидят его, Билли Сосны, ответ, они поймут, что постепенно вернут все свои денежки, потому что он, Билли Сосна, будет покупать редигловский табак всю оставшуюся жизнь, а если, к примеру, дать деньги кому придется, кто говорит только, что Ред Игл — хороший табак, и на том отпустить, не исключены случайности.
А настоящие воротилы, сказал Билли Сосна, не полагаются на случайности, особенно если дело идет о деньгах; потому-то они и богаты. Так что можно считать, что редигловские денежки все равно что уже у него в кармане.
Дедушка согласился, что деньги, похоже, верные. Билли Сосна подошел к двери и сплюнул табак. Он вернулся к столу и взял последний кусок пирога из сладкого картофеля. Я уже почти не возражал, хотя мне по-прежнему хотелось пирога. Я решил, что, пожалуй, Билли Сосна заслужил этот кусок — учитывая, как он разбогател.
Дедушка достал свою каменную флягу, и Билли Сосна отхлебнул два или три глотка, и дедушка отхлебнул один. Бабушка покашляла и принесла свой сироп от кашля. Дедушка попросил Билли Сосну достать скрипку и смычок и сыграть «Алое Крыло». Дедушка и бабушка притопывали в такт. Он действительно чудесно играл; и он пел:
Хорошо луна светлая сияет,
Но луны прелестней Алое Крыло.
Где ее храбрец? Далеко-далеко
Он спит на земле, под высокой звездой.
Ветер ли вздыхает, или плачет птица —
Или твое сердце, Алое Крыло?..
Я заснул на полу, и бабушка отнесла меня в постель. Последним, что я помнил, были звуки скрипки. Мне снилось, что к нам пришел Билли Сосна, и он был богат, и на плече у него был полный мешок сладкого картофеля.
Тайное место
Представьте себе миллион крохотных существ, живущих у берегов ручья.
Если бы вы были великаном и смотрели с высоты на все его излучины и извивы, то узнали бы в этом ручье реку жизни,
Я был великаном. Роста во мне было больше двух футов, и, как подобает великану, я садился на корточки, рассматривая небольшие болотистые заводи, которыми растекались витые струи потока, там, где дно ручья опускалось. Лягушки откладывали яйца: большие, клейкие, будто хрустальные шары, сплошь усеянные точками головастиков… выжидающих своего часа, чтобы съесть свой дом и выбраться на свет.
Каменные гольяны — рыбешки, вспыхивая, как молнии, носились за мускусными жуками, вившимися над водой. Если взять мускусного жука в руку, он пахнет густо и сладко.
Однажды я потратил целое утро на ловлю мускусных жуков, но в кармане у меня набралось всего несколько штук, потому что поймать такого жука трудно. Я принес их бабушке, потому что знал, что она любит сладкие запахи. Она всегда добавляла жимолость, когда варила мыло из щелока.
Бабушка обрадовалась жукам чуть ли не больше меня самого. Она сказала, что в жизни не знала такого сладкого запаха и представить себе не может, как это она ничего не знает о мускусных жуках.
За ужином она рассказала дедушке о жуках прежде, чем успел я, и прибавила, что для нее этот запах — самый что ни на есть новехонький. Дедушка онемел от удивления. Я дал ему понюхать жука, и он сказал, что живет на свете семьдесят с лишним лет, а знать не знает, что бывает такой запах.
Бабушка сказала, что я правильно сделал, потому что, когда находишь что-то хорошее, первым делом нужно поделиться с любым, кого встретишь, и тогда хорошее будет расходиться все дальше и дальше, так что и представить себе нельзя, куда оно в конце концов доберется. И это правильно.
Я порядочно вымок, пока возился в ручье, но бабушка ничего не сказала. Когда дети чероки исследуют жизнь леса, их ни за что не ругают.
Я поднимался высоко по течению, входил в прозрачную воду, низко сгибался, пробираясь сквозь пушистые зеленые занавеси плакучих ив, ниспадавшие до самой воды, так что концы ветвей плескались в ручье. Водные папоротники изгибались над ручьем веерами зеленого кружева — и давали опору крохотным паучкам-зонтикам.
Эти малыши прикрепляли конец тонкой паутинки к листу папоротника, подскакивали в воздух, выбрасывая над собой паутинистый зонтик, и пытались перебраться на ту сторону и ухватиться за лист папоротника на другом берегу. Если паучку это удавалось, он прикреплял паутинку и прыгал обратно, и так туда-сюда — пока не натягивал над ручьем целую сеть, жемчужно переливающуюся на солнце.
Малыши не отступали перед трудностями. Когда они падали в воду, их подхватывало течением и уносило к порогам, и им приходилось отчаянно бороться, чтобы остаться на плаву и добраться до берега, не доставшись на обед ручейному гольяну.
Как-то я сел на корточки посреди ручья и стал наблюдать, как один паучок пытается переправить паутинку на другой берег. Он твердо решил сплести самую большую жемчужную сеть, которую только видел ручей на всем своем течении, и он выбрал широкое место. Он прикреплял паутинку, подпрыгивал в воздух — и падал в воду. Его уносило, и он боролся не на жизнь, а на смерть, пока не выползал на берег, — но снова возвращался к тому же самому папоротнику. И снова прыгал.
Вернувшись к папоротнику в третий раз, он пробрался на самый край листа. Там он улегся, подпер передними лапками голову и крепко задумался, глядя в воду. Я решил, что он довольно близок к тому, чтобы сдаться, — я, по крайней мере, был к этому близок, и зад у меня онемел от сидения на корточках в холодном ручье. Но он все лежал, наблюдая и собираясь с мыслями. Через минуту его осенило, и он принялся подпрыгивать: вверх-вниз, вверх-вниз… Лист папоротника стал покачиваться, сгибаясь и распрямляясь. Он продолжал это дело, падая на лист всем весом, чтобы тот склонился, а потом подбросил его вверх. И вдруг, когда лист поднялся достаточно высоко, он подскочил в воздух, выбросил зонтик — и допрыгнул!
Он весь раздулся от гордости, когда у него, наконец, получилось, и от радости так запрыгал, что чуть не свалился с листа. Его жемчужная сеть стала самой широкой, которую мне доводилось видеть.
Я узнавал жизнь ручья, исследуя его русло вдоль всего ущелья. Ныряющие ласточки, которые развешивали мешочки-гнезда в ивовой листве, шипели на меня, пока не узнали поближе, — теперь они высовывали головки и заговаривали со мной. Лягушки пели всюду по берегам, но всегда замолкали при моем приближении, пока дедушка мне не объяснил, что лягушки чувствуют сотрясение земли, когда к ним подходишь, и не показал, как ходит чероки: ставить ногу нужно не на пятку, а на носок, скользя мокасинами по земле. Теперь я мог подойти к лягушке совсем близко, садился рядом, и она продолжала петь.
Как раз за исследованием русла ручья я нашел свое тайное место. Чуть вверх по склону горы, окаймленное зарослями лавра, оно было не очень большое: поросший травой холмик со старым деревом сладкой камеди, склонившимся к земле. Как только я его увидел, я понял, что это мое тайное место, и потом приходил часто и оставался подолгу.
Старая Мод взяла обыкновение ходить со мной. Ей тоже там нравилось, и она садилась под камедным деревом и слушала… и наблюдала. Старая Мод не издавала в тайном месте ни звука. Она знала, что оно тайное.
Однажды, когда день клонился к вечеру, мы со старой Мод сидели и наблюдали, опершись спинами о камедное дерево. Вдруг я заметил невдалеке едва уловимое движение. Оказалось, мимо шла бабушка. Она прошла совсем недалеко от нас, но я решил, что она совсем не заметила мое тайное место, — иначе она бы что-нибудь сказала.
Бабушка могла скользить по лесным листьям тише шепота. Я пошел за ней. Она собирала коренья. Я догнал ее и стал помогать, потом мы сели на бревно, чтобы рассортировать добычу. Пожалуй, я был слишком маленький, чтобы сохранить тайну, потому что я не утерпел и рассказал бабушке о своем тайном месте. Она не удивилась — чем удивила меня.
Бабушка сказала, у каждого чероки есть свое тайное место. Она сказала, оно есть и у нее, и у дедушки. Она сказала, что никогда не спрашивала, но, как ей кажется, дедушкино тайное место — на вершине горы, на высокой тропе. Она сказала, как ей кажется, почти у каждого есть свое тайное место, но она не уверена, потому что никогда не наводила справок. Бабушка сказала, что тайное место необходимо. Отчего я очень обрадовался: у меня-то оно есть.
Бабушка сказала, у каждого человека есть два ума. Один ум предназначен для всяких надобностей жизни тела. Им надо придумывать, как добыть себе кров, пищу и все такое в этом роде — для тела. Она сказала, он нужен для спаривания, чтобы были малыши и все такое прочее. Она сказала, этот ум нужен нашему роду, чтобы мы могли продолжаться. Но, сказала она, у нас есть и другой ум, у которого нет ни капли общего с первым. Она сказала, это ум духа.
Бабушка сказала, если умом телесной жизни все время думать жадные или подлые мысли, или всегда обижать других, или всегда хитрить, чтобы выгадать материальную наживу… тогда ум духа сжимается и становится не больше ореха гикори.
Бабушка сказала, когда тело умирает, ум телесной жизни умирает вместе с ним, и если человек всю жизнь думает всякое в этом роде, то выходит, что ему всего только и остается духа, что орех гикори, потому что один только ум духа продолжает жить, когда все остальное умирает. И потом, сказала бабушка, когда ты снова рождаешься — а это обязательно, — тогда выходит, что ума духа у тебя всего с орех гикори, и он, можно сказать, практически ничего не понимает.
Еще он может совсем сжаться и стать размером с горошину, а то и вовсе исчезнуть, если ум жизни тела захватывает человека целиком. Тогда остаешься вообще без духа.
Так получаются мертвые люди. Бабушка сказала, мертвых людей легко заметить. Она сказала, мертвые люди, когда смотрят на женщину, видят только грязное; когда смотрят на других, видят только плохое; когда смотрят на дерево, видят только доски и прибыль; никогда не красоту. Бабушка сказала, хоть они и ходят, и говорят, это мертвые люди.
Бабушка сказала, ум духа похож на любую другую мышцу: если он работает, то растет и становится сильнее. Она сказала, сделать его сильнее можно только одним способом: использовать для понимания, только дверь к нему не откроется, пока не перестанешь быть жадным — и прочим в этом роде — в уме тела. Тогда понимание постепенно становится ближе; и чем больше стараешься понимать, тем больше растет понимание.
Само собой разумеется, сказала она, понимание и любовь — это одно и то же; и еще сказала, что люди слишком часто выворачивают жизнь наизнанку, когда пытаются притворяться, что любят, тогда как не понимают. Что никак невозможно.
Я тут же решил, что буду пытаться понять практически каждого, потому что, само собой разумеется, не хочу остаться с орехом гикори вместо духа.
Бабушка сказала, ум духа может стать таким большим и сильным, что постепенно человек узнает обо всех прошлых жизнях тела, а может дойти даже до того, чтобы смерти тела не выходило вовсе.
Бабушка сказала, я могу отчасти заметить, как все это устроено, из своего тайного места. Весной, когда все рождается (как и всегда, когда что-то рождается — даже мысль), стоит шум и гам, и приходят весенние бури, похожие на рождение ребенка в крови и боли. Бабушка сказала, это возмущаются и шумят духи, оттого что им нужно возвращаться в материальные формы.
Потом приходит лето — наша взрослая жизнь, и осень, когда мы старимся, и в душе появляется странное чувство, будто мы возвращаемся во времени. Некоторые называют его ностальгией или грустью. Зима, когда все мертво — или кажется мертвым, — как наши тела, когда они умирают. Но они рождаются снова, — совсем так же, как когда приходит весна. Бабушка сказала, чероки знают, и они узнали давно.
Бабушка сказала, я узнаю, что у старого камедного дерева в моем тайном месте тоже есть дух. Не человеческий дух, но дух дерева. Она сказала, ее научил обо всем этом ее папа.
Папу бабушки звали Карий Ястреб. Она сказала, его понимание было глубоким. Он чувствовал мысли деревьев. Она сказала, однажды, когда она была совсем маленькая, ее папа встревожился; он сказал, белые дубы на горе неподалеку взволнованы и испуганы. Он долго пробыл на горе, бродя среди дубов. Дубы были необыкновенной красоты, высокие и стройные. Они не были себялюбивы, оставляли место сумаху и хурме, гикори и каштану, чтобы другим обитателям леса было чем кормиться. Отсутствие себялюбия дало им много духа, и их дух был сильный.
Бабушка сказала, ее папа так тревожился о дубах, что ходил среди них ночами, потому что он знал: что-то неладно.
И вот, однажды утром, когда рассвет забрезжил над кромкой гряды, Карий Ястреб заметил, что среди белых дубов ходят лесоторговцы, делают отметки и высчитывают, как срубить все белые дубы. Карий Ястреб сказал, когда они ушли, белые дубы заплакали. И он не мог спать. И он наблюдал за пришельцами. Они проложили к горе дорогу, чтобы подвести по ней свои фургоны.
Бабушка сказала, ее папа поговорил с чероки, и они решили спасти белые дубы. Она сказала, ночью, когда работники ушли ночевать в поселок, чероки перекрыли дорогу, выкопав поперек нее глубокие канавы, Женщины и дети помогали.
На следующее утро работники вернулись и потратили целый день на починку дороги. Но ночью чероки снова ее перерыли. Так продолжалось следующие два дня и две ночи; тогда лесоторговцы поставили вдоль дороги часовых с ружьями. Но часовые не могли охранять сплошь всю дорогу, и чероки рыли канавы, где могли.
Бабушка сказала, борьба была тяжелой, и чероки очень устали. И вот однажды, когда дорогу в очередной раз чинили, огромный белый дуб упал на один из фургонов. Он убил двух мулов и раздавил фургон. Она сказала, это был красивый, здоровый дуб, и падать ему не было никакой причины — но он упал.
Лесоторговцы отказались от попыток построить дорогу. Начались весенние дожди… а они так и не вернулись.
Бабушка сказала, луна доросла до полной, и чероки устроили празднование в большой роще белых дубов. Они танцевали в желтом свете полной луны, и белые дубы пели и соприкасались ветвями, и они склоняли ветви и касались чероки. Бабушка сказала, они пели песню смерти белому дубу, который отдал жизнь, чтобы спасти других. Она сказала, чувство было таким сильным, что почти поднимало ее над землей.
— Маленькое Дерево, — сказала она, — эти вещи ты никому не должен рассказывать, потому что бесполезно их рассказывать в мире, которым правит белый человек. Но ты должен знать. Поэтому я тебе рассказала.
Теперь я знал, почему мы топим только теми поленьями, которые дух оставил для нашего очага. Я знал жизнь леса… и гор.
Бабушка сказала, у ее папы было глубокое понимание, и, она знает, он будет сильным… таким сильным, что будет знать и помнить — в следующей жизни тела. Она сказала, она надеется, что скоро тоже будет сильной, и тогда она узнает его, и их духи будут знать и помнить.
Бабушка сказала, что дедушка приближается к этому пониманию, сам того не зная, и они будут вместе, всегда вместе, и их духи будут знать и помнить.
Я спросил бабушку, как она думает, не получится ли и у меня стать сильным — чтобы не остаться позади?
Бабушка взяла меня за руку. Мы долго шли по тропе, прежде чем она ответила. Она сказала, чтобы я всегда старался понимать. Она сказала, я тоже стану сильным, а может быть, и обгоню ее.
Я сказал, что меня ни капли не заботит, обгоню ли я их с дедушкой. Меня устроит как нельзя лучше на белом свете, если я смогу хотя бы быть с ними наравне. Это как-то одиноко — всегда оставаться позади.
Дедушкино ремесло
За все свои семьдесят с лишним лет дедушка никогда не нанимался на государственные работы. «Государственной» у нас в горах называлась любая работа с почасовой оплатой. Дедушка не выносил работы по расписанию. Он говорил, из этого только и выходит, что сплошная трата времени без всякого удовлетворения. И это справедливо.
В 1930 году, когда мне было пять лет, бушель [7] кукурузы приносил двадцать пять центов. То есть, это если найдется кто-нибудь, чтобы купить бушель кукурузы, — на что надежды было мало. Но даже если бы кукуруза продавалась по десять долларов за бушель, мы с дедушкой все равно не могли бы заработать на жизнь. Наш кукурузный участок был слишком мал.
Однако у дедушки было ремесло. Он говорил, каждый мужчина должен иметь свое ремесло — и гордиться своим ремеслом. Дедушка имел ремесло — и им гордился. В шотландской ветви его семьи ремесло несколько веков передавалось из поколения в поколение. Дедушка варил виски.
Если заговорить о варении виски с людьми, далекими от жизни гор, большинство об этом ремесле отзовется плохо. Но такие суждения пошли от преступников в больших городах. Преступники в больших городах нанимают в винокурню кого придется и ни капли не заботятся, хороший ли выходит виски, только бы его выходило побольше — и побыстрее. Такие люди кладут для закваски поташ или щелок, чтобы быстрее «обернуть солод», и вместо чистого металла берут для перегонки листовое железо или жесть, или радиатор от грузовика, — а в них есть всяческие яды, от которых можно умереть.
Дедушка говорил, что таких типов следовало бы вешать. Дедушка говорил, о любом ремесле можно составить плохое суждение и пустить дурную славу, если судить по худшему, что в этом ремесле есть.
Дедушка сказал, его выходной костюм и сейчас такой же отличный, как в тот день, когда он в нем женился, — пятьдесят с лишним лет назад. Он сказал, что портной, который его сшил, гордился своей работой. Бывают, однако, и такие, которые не гордятся, и все суждение о портняжном ремесле зависит от того, с каким из портных столкнешься. Так же и с виски. И это правильно.
Дедушка ничего не добавлял в виски, даже сахара. Сахар кладут, чтобы «растянуть» виски, и его выходит больше; но дедушка говорил, что если «растягивать», чистого виски не получится. А он варил чистый виски — без ничего, кроме кукурузы, в приготовлении.
Еще у дедушки совсем не было терпения, чтобы выдерживать виски. Дедушка говорил, он всю жизнь слушает, как разные умники болтают, что выдержанный виски намного лучше обычного. Он сказал, что как-то сам попробовал выдержать виски. Он сказал, один раз он взял немного свежего виски и оставил настаиваться неделю, и на вкус этот выдержанный виски оказался ни дьявола не лучше остального — нормального.
Дедушка говорил, что все пошло с того, что однажды виски передержали в бочках, так что он вобрал из бочек запах и окрасился бочечным цветом. Дедушка говорил, если какому-то проклятому дуралею нравится нюхать чертову бочку, пусть засунет в бочку голову и нанюхается вдоволь, а потом возьмет нормального виски и выпьет по-человечески.
Дедушка называл таких людей «любителями пахучих бочек». Он говорил, что если взять воды из трухлявого пня, налить в бочку и дать хорошенько настояться, можно потом таким продавать, и они будут пить и радоваться — потому что пахнет бочкой!
Все эти бочечные затеи возмущали дедушку до крайности. Он говорил, что, скорее всего, — если бы можно было проверить, — все это козни толстосумов и воротил, которые выдерживают виски годами и в ус не дуют, только знай себе выжимают последнее из маленького человека, который не может держать виски, пока он не пропахнет бочкой. Он говорил, они разбрасывают деньги направо и налево, только бы всучить свой пахучий виски под тем, значит, предлогом, что он лучше других пахнет бочкой, а всякие, у кого вместо головы кочан капусты, тут же развешивают уши и начинают думать, что только такой виски и надо пить человеку. Но, говорил дедушка, есть и здравомыслящие люди, которые не нюхают бочек, и потому маленькому человеку пока еще можно жить.
Дедушка сказал, поскольку он знает только одно ремесло, то есть вискоделие, а мне вот-вот исполнится шесть лет, пожалуй, хорошо будет и мне взяться за учение. К этому он присовокупил такой совет, что когда я стану старше, возможно, мне захочется сменить ремесло, но вискоделие я уже буду знать, и мне всегда будет на что опереться в трудную минуту.
Я сразу понял, что нам с дедушкой не миновать жестокой борьбы с воротилами и толстосумами, правдами и неправдами сбывающими виски любителям пахучих бочек; но я был горд, что дедушка берет меня в ученики — в свое ремесло.
Дедушкина винокурня была в самой глубине Теснин, там, где наш приток ответвлялся от большого ручья, среди зарослей лавра и жимолости, таких густых, что ее не нашла бы и птица. Дедушка ею очень гордился, потому все в ней было из чистой меди: и котел, и крышка с трубкой, и спиралевидный змеевик, который у дедушки назывался «червяком».
По общим меркам наша винокурня была маленькая, но нам и не нужна была большая. Дедушка делал только один заход в месяц, что всегда давало на выходе одиннадцать галлонов [8]. Девять галлонов мы продавали мистеру Дженкинсу, управляющему магазина на перекрестке, по два доллара за галлон, что, как вы сами видите, приносило за нашу кукурузу неплохие деньги.
На эти деньги покупалось все необходимое, сверх того немного откладывалось, и бабушка держала запас в мешочке от табака, заткнутом в кувшин для фруктов. Бабушка говорила, что там есть и моя доля, потому что я тоже усердно работаю и учусь ремеслу.
Остальные два галлона мы оставляли себе. Дедушка любил, чтобы у него во фляге всегда что-то оставалось для периодического принятия внутрь или угощения гостей, и бабушка расходовала немалую часть для своего лекарства от кашля. Дедушка говорил, что виски также необходим при укусе змеи или паука, помогает от трещин на пятках и многих других вещей.
Я сразу же понял, что варить виски — если все делать как следует, — работа очень тяжелая.
Большинство людей для приготовления виски берут белую кукурузу. У нас такой не было. Мы брали индейскую кукурузу — единственную, какая у нас росла. Она была темно-красная и придавала нашему виски легкий красноватый оттенок… подобного которому ни у кого больше не было. Мы гордились своим цветом. Все его узнавали, когда видели.
Мы лущили кукурузу, и бабушка помогала. Потом часть лущеной кукурузы складывали в мешок. Мешок поливали теплой водой и оставляли лежать на солнце, или, если была зима, у очага. Мешок нужно было переворачивать дважды или трижды в день, чтобы кукуруза не слеживалась. Через четыре или пять дней она пускала длинные ростки.
Остаток лущеной кукурузы смалывали в муку. Мы не могли себе позволить возить ее на мельницу, потому что мельник брал дополнительную плату, и дедушка соорудил собственную солодовую мельницу, состоявшую из двух камней, которые мы крутили за ручку.
Мы с дедушкой переносили муку в винокурню по ущелью и Теснинам. Там у нас был деревянный желоб, по которому мы подводили воду из ручья, чтобы она лилась в котел, пока он не наполнялся на три четверти. Тогда мы всыпали муку и разводили под котлом огонь. Огонь топили ясенем, потому что ясень не дает дыма. Дедушка говорил, вполне может быть, подошло бы любое другое дерево, но рисковать лишний раз незачем. И это правильно.
Дедушка смастерил для меня ящик, который мы ставили на пень у котла. Я взбирался на ящик и помешивал воду с мукой, пока они варились. Я не мог заглянуть через край котла и никогда толком не видел, что мешаю, но дедушка говорил, что я мешаю хорошо, и не было такого случая, чтобы у меня в котле подгорело. Даже когда у меня уставали руки.
Когда варево было готово, мы сливали его в бочку через краник в наклонном днище котла и туда же добавляли размолотую проросшую кукурузу. Потом мы закрывали бочку и оставляли все это настаиваться, что продолжалось дня четыре или пять, но каждый день нужно было приходить и помешивать. Дедушка говорил, «оно бродит».
Через четыре или пять дней поверхность покрывалась твердой коркой. Корку надо было разбивать до тех пор, пока от нее почти ничего не останется, и тогда мы были готовы начать прогон.
Дедушка брал большое ведро, я брал маленькое. Мы вычерпывали из бочки «пиво» — как называл его дедушка — и переливали в котел. Дедушка закрывал котел крышкой, и мы разжигали под ним огонь. Когда пиво закипало, оно пускало пар через трубку в крышке, к которой присоединялся «червяк» — медный спиралевидный змеевик. «Червяка» мы клали в бочку, куда по желобу текла из ручья холодная вода. Она обливала «червяка», и пар, бегущий по спирали кругами, снова превращался в жидкость. Конец «червяка» выходил через дно бочки наружу, а там у нас был приделан фильтр из угля орешника гикори, чтобы отцеживать вредные масла, — иначе, если их выпить, станет плохо.
Можно подумать, что, проделав все это, мы должны были получить много виски… но выходило всего около двух галлонов. Эти два галлона мы откладывали в сторонку и сливали из котла «остатки» — не превратившуюся в пар часть варева.
Потом нужно было тщательно все вычистить. Два галлона, которые мы получали, дедушка называл «высокопробными». Он говорил, что они «более чем двухсотой пробы». Потом мы сливали «остатки» с «высокопробными» галлонами обратно в котел, разводили огонь и проделывали то же самое по новой, добавив воды. Тут и получались наши одиннадцать галлонов.
Как я уже говорил, работа была тяжелая, и я никогда не понимал, почему некоторые люди говорят, что виски варят только отъявленные лентяи. Кто бы ни был тот, кто это говорит, точно можно сказать, что сам он этого никогда не делал.
В своем ремесле дедушка был лучшим. Испортить виски гораздо проще, чем сварить хорошо.
Огонь нужно поддерживать так, чтобы котел никогда не перегревался. Если дать суслу слишком долго бродить, появится уксус. Если начать заход раньше времени, виски будет слишком слабым. Обязательно умение «прочитать пузыри» и оценить «пробу». Я понял, почему дедушка так гордился своим ремеслом, и учился прилежно.
Но кое-что у меня получалось неплохо, и о некоторых вещах, которые я делал, дедушка говорил, что никак не понимает, как он с ними управлялся до моего появления. После прогона он брал меня на руки и спускал в котел, и я его вычищал, — что всегда старался проделать как можно быстрее, потому что обычно там бывало довольно жарко. Я носил ясень для топки, а все время, пока нужно было помешивать варево, помешивал. Мы никогда не оставались без дела.
На все время, пока мы с дедушкой работали в винокурне, бабушка запирала собак. Дедушка говорил, что если кто-нибудь появится в ущелье, бабушка выпустит Малыша Блю и отправит по тропе. Малыш Блю, у которого самый лучший нюх, найдет нас по запаху и явится в винокурню, и мы узнаем, что на тропе появился чужой. Дедушка сказал, что поначалу он поручал это дело старому Рипиту, но старый Рипит взялся поедать остатки от прогона и от этого пьянел. Дедушка сказал, Рипит стал делать это регулярно и был довольно близок к пучине беспробудного пьянства, когда дедушка положил этому конец. Один раз он привел в винокурню старую Мод, но она тоже выказала горячительную наклонность. Тогда дело было поручено Малышу Блю.
Есть множество других вещей, которые должен знать хороший висковар в горах. После каждого прогона нужна самая тщательная чистка, иначе появится характерный запах перебродившего сусла. Дедушка говорил, что закон — точно как охотничьи собаки, и ему служат носы, способные учуять этот запах за много миль. Дедушка сказал, он так понимает, что как раз отсюда пошло выражение «псы закона». Он сказал, что — если бы можно было проверить, — они произошли от породы, специально выведенной королями и прочими типами в этом роде, чтобы, как собаки, выслеживать людей. Но, сказал дедушка, если мне когда-нибудь приведется встретиться с одним из таких «псов», я замечу, что у них тоже есть собственный запах… что отчасти помогает людям узнавать об их приближении.
Кроме того, нужно следить, чтобы ведро не ударялось о котел. В горах звон ведра, ударившегося о котел, можно услышать с расстояния миль, может быть, двух. Пока я не приспособился, мне стоило немалого труда проделывать всю процедуру бесшумно: наполнять свое ведерко из бочки, доносить до котла, взбираться на пень и ящик и выливать «пиво» в котел, до края которого я едва мог дотянуться. Но вскоре я добился того, что ведро у меня в руках никогда не ударялось о котел.
При этом нельзя было ни петь, ни насвистывать. Но мы с дедушкой разговаривали. Обычная речь далеко разносится по горам. Большинство людей не знает, — как знают чероки, — что есть такой тон человеческого голоса, который издалека похож на обычные звуки гор: шум ветра в кустарнике или в кронах деревьев, или, может быть, звуки бегущей воды. Так разговаривали мы с дедушкой.
За работой мы слушали птиц. Если птицы улетают и древесные сверчки прекращают петь — держи ухо востро!
Дедушка говорил, чтобы я не падал духом, если не могу запомнить всего с ходу, потому что в голове нужно держать разом слишком много вещей, но постепенно все придет само и станет для меня второй натурой. Как в конце концов и вышло.
У дедушки был особый товарный знак, который наносился на крышку каждого запечатанного кувшина. Дедушкин знак имел форму томагавка, и никто другой в горах не ставил на свой виски такого знака. У каждого вискодела был свой знак. Дедушка говорил, что когда его не станет, — а так, по всякой видимости, рано или поздно и выйдет, — этот знак перейдет ко мне. Он получил его от своего отца. Были люди, из приходивших в магазин мистера Дженкинса, которые не покупали никакого виски, кроме дедушкиного. С его знаком.
Дедушка сказал, если разобраться, теперь мы с ним, можно сказать, все равно что партнеры, и в настоящее время половина знака принадлежит мне. Это было первое, что мне принадлежало в жизни и что я мог назвать своим собственным. Я страшно гордился знаком и заботился не меньше дедушкиного, чтобы под этим знаком не выходило плохого виски. Чего не бывало никогда.
Наверное, один из самых страшных моментов в моей жизни случился во время работы в винокурне. Дело было в конце зимы, перед самой весной. Мы с дедушкой как раз заканчивали последний заход. Мы уже запечатали кувшины в полгаллона и теперь паковали их в мешки. Мы всегда подкладывали в мешки листьев, потому что так было легче сохранить кувшины и не разбить по дороге.
Дедушка всегда брал два больших мешка с большей частью виски. Я брал небольшой мешок с тремя кувшинами в полгаллона. Впоследствии я дошел до четырех кувшинов за раз, но в то время я мог нести только три. Груз для меня был порядочный, и на обратном пути мне приходилось довольно часто останавливаться, садиться и отдыхать. Дедушка тоже отдыхал.
Мы уже заканчивали паковку, как вдруг дедушка сказал:
— Будь я проклят! Малыш Блю!
Действительно, у самой винокурни лежал, свесив язык, Малыш Блю. Больше всего нас с дедушкой испугало, что мы его не заметили и поэтому не знали, давно ли он появился. Он пришел и лег — молча. Я тоже сказал:
— Будь я проклят!
(Как я уже говорил, мы с дедушкой время от времени бранились, когда рядом не было бабушки…)
Дедушка уже прислушивался. Все звуки остались прежними. Птицы не улетели. Дедушка сказал:
— Бери свой мешок и спускайся по тропе. Если увидишь людей, сойди с тропы и дождись, пока они не пройдут. Я ненадолго останусь, чтобы вычистить и спрятать винокурню, потом вернусь по другой стороне горы. Встретимся дома.
Я схватил свой мешок и забросил его за плечи так быстро, что чуть не повалился на спину, и мне пришлось собрать все силы, чтобы, покачиваясь, как можно скорее восстановить равновесие. Как только мне это удалось, я побежал по Теснинам. Я был перепуган… но я знал, что это необходимо. Винокурня — прежде всего.
Жители равнин никогда не поймут, что значит отнять винокурню у человека гор. Это так же плохо, как был бы — для жителей Чикарги — пожар в Чикарге. Винокурню дедушка получил по наследству, и теперь, в его-то возрасте, было донельзя мало надежды, чтобы он еще смог ее заменить. Отнять ее значило не только, что мы с дедушкой окажемся не у дел, но, можно сказать, ставило нас с дедушкой в практически нестерпимое положение в смысле заработка на жизнь.
Жить на двадцатипятицентовую кукурузу было никак невозможно, даже если бы у нас было достаточно кукурузы для продажи — а ее у нас не было, и даже если бы ее можно было продавать — а продать ее было нельзя.
Дедушке не нужно было мне объяснять, как отчаянно важно спасти винокурню. И я побежал по тропе. С тремя кувшинами за спиной бежать было тяжело.
Дедушка отправил со мной Малыша Блю. Я посматривал на Малыша Блю, который бежал впереди меня, потому что он мог учуять на ветру запах задолго до того, как я что-нибудь услышу.
В Теснинах по обе стороны тропы горы поднимались почти отвесно, и места было так мало, что двигаться можно было только по тропе, у самого берега ручья. Мы с Малышом Блю уже проделали, может быть, полдороги по Теснинам, как вдруг снизу, из ущелья, донесся сильный шум.
Бабушка выпустила всех собак, и они с лаем и визгом бежали по тропе. Что-то случилось. Я остановился, Малыш Блю тоже. Собаки приближались, повернули в Теснины, к нам. Малыш Блю поднял уши и хвост и стал принюхиваться. Шерсть вздыбилась у него на загривке, и он вышел вперед. Он шел особой, пружинящей походкой. Теперь-то, что говорить, я оценил старину Малыша Блю по достоинству и был рад, что он со мной.
Наконец они явились. Они возникли — внезапно — у изгиба тропы, остановились и посмотрели на меня. Они казались целой армией, хотя, если теперь подумать, скорее всего, их было от силы четверо. Все они были, как мне показалось, огромнейшего роста, и на рубашках у них сверкали жетоны. Они остановились как вкопанные, уставившись на меня так, будто в жизни не видели ничего подобного. Я тоже стоял и смотрел на них. У меня страшно пересохло во рту, колени дрожали.
— Провалиться мне на этом месте! — воскликнул один. — Это же ребенок!
— Индейский ребенок! — отозвался другой.
Учитывая, что я был в мокасинах, штанах и рубашке из оленьей кожи, с длинными черными волосами — трудно себе представить, за кого еще меня можно было принять! Один из них спросил:
— Что это у тебя в мешке, мальчик?
Другой воскликнул:
— Берегись собаки!
Малыш Блю приближался к ним. Очень медленно. Он глухо рычал и скалил зубы. Малыш Блю не собирался шутить шуток.
Они тронулись с места и стали с опаской приближаться ко мне. Я понял, что мне их никак не обойти. Если я прыгну в ручей, они меня поймают, если побегу по тропе назад, то выведу их к винокурне. Это положит конец нашему с дедушкой делу, — а ответственность лежит как на дедушке, так и на мне: мы должны спасти винокурню. И я побежал вверх по крутому откосу горы.
Есть один способ бежать вверх по горе; если вам когда-нибудь придется бежать вверх по горе… надеюсь, что не придется! Дедушка мне показал, как это делают чероки. Бежать нужно не прямо вверх, поперек откоса, а вдоль, все время чуть забирая кверху. На бегу ноги почти не касаются земли, и это потому, что наступать нужно на корни и стволы деревьев и кустарника, что дает ноге хорошую опору, и вы никогда не споткнетесь. Таким образом можно продвигаться довольно быстро. Что я и делал.
Вместо того, чтобы побежать, поднимаясь по откосу, прочь от преследователей, что привело бы меня обратно, в глубь Теснин, я побежал в сторону ущелья — прямо к ним!
То есть пробежал над самыми их головами. Они бросились меня догонять, продираясь через заросли кустарника у тропы, и один чуть было не схватил меня за ногу, когда я оказался у него над головой. Он дотянулся до ветки, на которую я наступил, и был так близко, что я был уже уверен, что сейчас он прикончит меня на месте. Но Малыш Блю укусил его за ногу. Он взвыл и скатился вниз, на головы тем, кто был позади него, а я побежал дальше.
Я слышал Малыша Блю: он рычал и сражался. Наверное, его сбили с ног или пнули под дых, потому что я услышал, как он задохнулся ж взвизгнул от боли, — но тут же вернулся в бой. Все это время я старался бежать как можно быстрее… что было не особенно быстро, потому что мне мешали кувшины.
Я слышал, как позади меня люди карабкаются по горе, но в этот момент в бой вступили остальные собаки. Я ясно различал рычанье и вой старого Рипита и старой Мод. Все вместе, сливаясь с криками и бранью людей, звучало довольно жутко. Потом дедушка говорил, что с той стороны горы ему все было слышно, словно он стоял рядом, и гвалт поднялся такой, будто в Теснинах разразилась целая война.
Я бежал, сколько хватило сил. Через какое-то время мне пришлось остановиться. Мне казалось, я вот-вот разорвусь на части, но я простоял не очень долго. Я пошел шагом и шел до тех пор, пока не оказался на самой вершине горы. Под конец мне пришлось тащить кувшины волоком — до того я изнемог от усталости.
Я все еще слышал собак и людей. Они отступали по Теснинам, потом по ущелью. В воздухе стоял непрерывный пронзительный вой вперемежку с криками и бранью, будто огромный шар звука катился вниз по тропе, дальше и дальше, пока не закатился так далеко, что я больше ничего не слышал.
Хотя я не мог стоять на ногах от усталости, я был рад, потому что они не подошли и близко к винокурне, и я знал, что дедушка будет доволен. От слабости у меня подгибались колени. Я лег на мягкие листья и уснул.
Когда я проснулся, уже стемнело. Луна, почти полная, поднялась над горами и разлила свет в ущелье — далеко подо мной. Тут я услышал собак. Я понял, что дедушка послал их меня искать, потому что они лаяли не так, как когда шли по лисьему следу; их голоса звучали немного жалобно — будто они просили меня отозваться.
Они отыскали мой след, потому что свернули с тропы и стали забирать вверх по горе. Я свистнул и услышал, как они залаяли в ответ. Через минуту они обступили меня со всех сторон, лизали мне лицо и прыгали на плечи. Пришел даже старый Рингер; а ведь он был почти слепой.
Мы с собаками спустились с горы. Старая Мод не выдержала и с лаем и визгом бросилась вперед, чтобы рассказать дедушке и бабушке, что я нашелся. Нацеливаясь, как я понимаю, приписать себе всю заслугу, хотя и ни дьявола не чует носом.
Спустившись в ущелье, я увидел бабушку. Она вышла на тропу с зажженной лампой — которая сияла в ее руках, как путеводная звезда, указывающая мне дорогу к дому. Рядом с ней был дедушка.
Они не пошли навстречу, просто стояли на тропе и смотрели, как мы с собаками приближаемся. Я был счастлив. Мои кувшины были по-прежнему при мне, ни один не разбился.
Бабушка поставила лампу на землю и стала на колени, чтобы меня встретить. Она схватила меня так крепко, что я чуть не выронил кувшины. Дедушка сказал, что понесет кувшины остаток дороги.
Дедушка сказал, что и сам лучше не справился бы, хоть ему и семьдесят с лишним лет. Он сказал, что, скорее всего, я стану лучшим мастером в горах.
Дедушка сказал, очень даже может оказаться, что я превзойду его в ремесле. Я понимал, что это как нельзя мало похоже на правду, но был горд, что он это сказал.
Бабушка ничего не сказала. Остаток дороги до дома она несла меня на руках. Но я дошел бы и сам… скорее всего, дошел бы.
Торговля с христианином
На следующее утро все собаки еще скакали от возбуждения и расхаживали особенной, пружинящей походкой — от гордости. Они знали, что сослужили службу и принесли пользу. Я был тоже горд… но не задавался, потому что понимал: таковы будни ремесла.
Старый Рингер пропал. Мы с дедушкой свистели, кричали и звали, но он не пришел. Мы обыскали всю лужайку вокруг дома, но его нигде не было. Мы взяли собак и пошли его искать. Мы искали в ущелье и в Теснинах, но не нашли даже следа. Дедушка сказал, что лучше всего будет подняться по моим следам по откосу горы, откуда я спустился вчерашней ночью. Мы так и сделали. Сначала обыскали заросли кустарника, потом стали продвигаться вверх по горе. Его нашли Малыш Блю и Крошка Ред.
Рингер наткнулся на дерево. Наверное, это было последнее дерево, на которое он наткнулся, потому что дедушка сказал, что, очень похоже, он много раз натыкался на деревья, или, может быть, его побили палкой. Он лежал на боку, и голова у него была вся в крови. Язык был прикушен между зубами. Он был жив. Дедушка взял его на руки, и мы понесли его с горы. Мы остановились на берегу ручья, смыли кровь с его лица, разжали зубы и высвободили язык. На лице у старого Рингера были седые шерстинки, и я понял, что он очень стар, и совсем не по силам ему было скакать по горам и меня разыскивать. Мы посидели с ним на берегу ручья. Через некоторое время он открыл глаза. Они были мутны от старости. Он едва видел.
Я склонился к самому лицу старого Рингера и сказал ему, что очень благодарен за то, что он искал меня в горах, и что мне очень жаль, что так вышло. Старый Рингер не возражал; он лизнул мне лицо, давая понять, что, если нужно, сделал бы это снова.
Дедушка дал мне помочь нести старого Рингера по тропе. Дедушка нес на руках большую его часть, я нес задние лапы. Когда мы пришли домой, дедушка положил его на землю и сказал: «Старый Рингер умер». Он был мертв. Он умер на тропе, но дедушка сказал, что он знал, что мы за ним пришли, отыскали и несем домой, и от этого ему было хорошо. Мне тоже стало лучше — хотя ненамного.
Дедушка сказал, что старый Рингер умер так, как мечтает умереть любая хорошая горная собака: в горах и служа хозяевам.
Дедушка взял лопату. Мы несли старого Рингера по ущелью, до самого кукурузного поля, охраной которого он так гордился. Бабушка тоже пошла с нами, и следом побежали все собаки, скуля, поджав хвосты. Я чувствовал себя точно так же.
Дедушка выкопал старому Рингеру могилу у подножья небольшого водяного дуба. Место было красивое; осенью там красным-красно от листьев сумаха, а весной растущий рядом кизил расцветает белоснежными цветами.
Бабушка постелила на дно могилы белый холщовый мешок, сверху положила старого Рингера и обернула его краями. Дедушка накрыл старого Рингера большой доской, чтобы его не выкопали еноты. Мы зарыли могилу. Собаки столпились вокруг. Они понимали, что мы похоронили старого Рингера. Старая Мод жалобно завыла. Они со старым Рингером были партнерами по кукурузному полю.
Дедушка снял шляпу и сказал:
— До свидания, старина Рингер.
Я тоже сказал старине Рингеру «до свиданья».
И мы его оставили — там, под водяным дубом.
На душе у меня было очень нехорошо и пусто. Дедушка сказал, что знает, что я чувствую, потому что сам чувствует то же самое. Но, сказал дедушка, такое чувство приходит всегда, когда ты что-то любил и потерял. Он сказал, единственным выходом было бы никого не любить, но это еще хуже, потому что тогда чувствуешь себя пустым все время.
Дедушка сказал, если представить, что старый Рингер не служил нам верой и правдой — тогда мы не могли бы им гордиться, что было бы еще хуже. И это правильно. Дедушка сказал, когда я состарюсь, то буду вспоминать старину Рингера, и мне будет приятно — вспоминать. Он сказал, странное дело: когда в старости вспоминаешь тех, кого любил, то вспоминаешь только хорошее, никогда не плохое, и почему-то оказывается, что плохое как-то не в счет.
Но мы должны были продолжать свое дело. Мы с дедушкой короткой тропой ходили в поселок и доставляли продукт мистеру Дженкинсу, в магазин на перекрестке. «Продуктом» дедушка называл виски.
Мне нравилась короткая тропа. Сначала мы шли обычной тропой, по ущелью, но, не доходя фургонных колей, сворачивали влево, на короткую тропу: ту, что бежала по пологим отрогам гор, похожим на огромные растопыренные пальцы, которые горы глубоко запустили в равнину.
Покатые гребни, которые мы пересекали на своем пути, перемежались неглубокими лощинами, из которых легко было снова подниматься на гору. Длиной в несколько миль, тропа проходила по сосновым перелескам и кедровым рощам на склонах; кое-где встречались заросли жимолости, а местами у тропы росла хурма.
Осенью, когда хурма румянилась от мороза, на обратном пути я то и дело останавливался и наполнял карманы, потом бегом догонял дедушку. То же самое и весной — только весной я собирал ежевику или черную смородину.
Однажды дедушка остановился и стал смотреть, как я собираю черную смородину. В то время его как раз особенно возмущало, что слов слишком много, и поэтому люди морочат голову себе и другим. Дедушка сказал:
— А ведь знаешь, Маленькое Дерево, когда черная смородина зеленая, она красная.
Что совсем сбило меня с толку, и дедушка засмеялся.
— Ягода названа черной смородиной — по цвету… зеленым называется то, что не созрело… а когда черная смородина незрелая, она красного цвета.
Что так и есть!
— И какое чертово слово ни возьми, — продолжал дедушка, — его можно перекрасить в любой цвет, и весь проклятый смысл перевернется вверх тормашками. Так что, если ты слышишь, как один добрый человек говорит о другом плохие слова, не слушай слова, потому что смысла в них все равно ни на ломаный грош. Слушай, каким голосом он говорит, и ты сразу узнаешь, если он подлец и обманщик.
Слова здорово сердили дедушку, — в том плане, что их, слов, слишком много. Что справедливо.
Еще были орехи: грецкие и гикори, были кинкапины и каштаны, лежавшие у самой тропы, так что, какое время года ни вспомнить, по дороге домой из магазина на перекрестке я обыкновенно был занят добычей.
Работа по доставке продукта в магазин была довольно тяжелая. Иногда, со своими тремя кувшинами в мешке, я далеко отставал от дедушки. Когда дедушка пропадал из виду, я знал, что он сядет и обождет меня где-нибудь впереди, и когда я его догоню, мы отдохнем.
Если продвигаться таким манером, от одного отдыха до другого, нести мешки вроде бы и не так тяжело. Добравшись до последнего гребня, мы с дедушкой прятались в густом кустарнике и проверяли, не стоит ли перед магазином бочонок для засолки огурцов. Если такого бочонка не было видно, это значило, что дорога свободна. Если же он был выставлен на видном месте, это значило закон, и мы не должны были доставлять продукт. Всякий в горах знал этот бочонок, и все его высматривали, потому что продукт доставляли не мы одни.
На моей памяти огуречный бочонок ни разу не появлялся перед магазином, но не было такого случая, чтобы я не проверил и не убедился в его отсутствии. Я стал понимать, что в ремесле вискодела имеются кое-какие осложнения. Но дедушка сказал, что кое-какие осложнения, — так или иначе, — есть во всяком ремесле.
Он сказал, только подумай, каково приходится зубодеру, который целыми днями, год за годом, должен разглядывать рот каждому, кто к нему ни придет, света белого не видя из-за сплошных ртов? Он сказал, уж такое-то ремесло его, дедушку, точно свело бы с ума, а с его, дедушкиным, ремеслом, при всех его осложнениях, человеку живется отчасти полегче. И это правильно.
Мне нравился мистер Дженкинс. Он был высокий и толстый и носил фартук. У него была длинная, почти до пояса, белая борода, но на голове, можно сказать, волос практически не было, и макушка ее блестела, как начищенная дверная ручка.
В магазине у него было много всякой всячины: высокие стеллажи с рубашками и разной другой одеждой, ящики с обувью; на полу стояли бочки с печеньем, на прилавке лежал большой круг сыра, а еще там же, на прилавке, был стеклянный шкафчик с конфетами на полочках. Конфеты были самых разных сортов и видов, и было их так много, что, казалось, никогда в жизни ему не удастся их все распродать. Я ни разу не видел, чтобы кто-нибудь ел эти конфеты, но, надо полагать, сколько-нибудь он все же продавал, потому что иначе он не стал бы держать их в магазине.
Каждый раз, когда мы доставляли продукт, мистер Дженкинс спрашивал меня, не смогу ли я сходить в дровяной сарай и принести дров для большой печи, которая была в магазине. Я всегда соглашался. В первый раз он предложил мне большой полосатый леденец, но я не мог с чистой совестью принять его за такие пустяки как принести дров, что мне было ни капли не трудно. Он положил леденец обратно в шкафчик и отыскал другой, старый, который как раз собирался выбросить за негодностью. Дедушка мне сказал, что раз мистер Дженкинс все равно собирается выбросить старый леденец, ясно, что от этого леденца никому не будет проку, и, стало быть, правильнее всего его взять. Я так и сделал.
Каждый месяц отыскивался очередной старый леденец, и, надо полагать, я практически избавил мистера Дженкинса от старых леденцов, загромождавших его магазин. Что, как мистер Дженкинс всегда говорил, очень его выручало.
Как раз в магазине на перекрестке у меня выудили пятьдесят центов. Эти пятьдесят центов скапливались долго: раз в месяц, когда мы доставляли продукт, бабушка откладывала для меня никель или дайм [9].
Это была моя доля прибыли в ремесле. Мне нравилось брать с собой и носить в кармане мои сбережения — горстку никелей и даймов, — когда мы ходили в магазин на перекрестке. Я никогда их не тратил, и всякий раз, как мы возвращались домой, высыпал все свои никели и даймы обратно во фруктовый кувшин.
Мне было приятно приносить их в магазин на перекрестке; меня тешило само сознание, что они у меня есть. С некоторых пор я заприметил в конфетном шкафу большую, красную с зеленым коробку. Я не знал, сколько она стоит, но рассчитывал, что, может быть, к следующему Рождеству куплю ее бабушке… и потом мы вместе ее откроем и съедим, что найдется внутри. Но, как я уже говорил, прежде чем это случилось, мои пятьдесят центов уплыли.
Время было обеденное, и мы только-только доставили продукт. Солнце стояло прямо над головой, и мы с дедушкой отдыхали, сидя на корточках под навесом магазина, прислонившись спинами к стене. Дедушка купил для бабушки немного сахара и три апельсина, которые нашлись у мистера Дженкинса. Бабушка любила апельсины, и я тоже — когда можно было их раздобыть. Я видел, что у дедушки их три, и знал, что один достанется мне.
Я сосал леденец. К магазину по двое, по трое стали сходиться люди. Говорили, что сейчас приедет политик и скажет речь. Едва ли дедушка стал бы специально дожидаться политика, потому что, как я уже говорил, ему не было до политиков ни капли дела, но, так или иначе, пока мы отдыхали, политик явился.
Он приехал в большой машине, взметавшей на дороге огромнейшие клубы пыли, которые все увидели задолго до ее появления. Он посадил кого-то вести за него машину, так что вышел он через заднюю дверь. Там же, на заднем сиденье, с ним была еще леди. Все время, пока политик говорил, она бросала на дорогу маленькие сигареты, выкуренные только наполовину. Дедушка сказал, что это уже скрученные, готовые сигареты, которые курят богатые люди, которым лень скручивать сигареты самим.
Политик обошел всех по кругу и всем пожал руки; нам с дедушкой, однако, не пожал. Дедушка пояснил, что по нашему виду ясно, что мы индейцы, а индейцы все равно не голосуют, так что от нас политику нет, можно сказать, практически никакого толку. Что вполне разумно.
На политике были черный сюртук и белая рубашка, а вокруг шеи была повязана черная лента, одним концом свисающая на рубашку. Он много Ч смеялся и вид имел довольно радостный. То есть, это до тех пор, пока не рассердился.
Он взобрался на ящик и стал сокрушаться по поводу условий в городе Вашингтоне… который, сказал он, катится ко всем чертям в преисподнюю, и других слов у него нет. Он сказал, что город Вашингтон — сущие Содом и Гоморра. Что, надо полагать, было верно. Он сердился и огорчался все сильнее, так что развязал даже ленту на шее.
Католики и никто другой, сказал он, сделали Содом и Гоморру из города Вашингтона. Католики заправляют, можно сказать, практически всем и вся и при этом нацеливаются посадить мистера Папу в Белый Дом, а еще сказал, что они — самые подлые и мерзкие змеи на белом свете. Он рассказал, что у них некоторые называются священниками и при этом спариваются с женщинами, которых он назвал монахинями, а приплод, который получается из этого спаривания, скармливают собакам. Он сказал, это неслыханное, невиданно злодеяние, страшнейшее из всех, с которыми ему привелось столкнуться в жизни, ужасает его до глубины души. Меня оно тоже ужаснуло.
Постепенно он расходился все больше и под конец кричал уже довольно громко. Что вполне понятно: при таких условиях в городе Вашингтоне, надо полагать, еще не так закричишь. Он сказал, не выйди он с ними, католиками, на бой, они заполучили бы в свои руки полную власть и добрались бы уже до того самого места, на котором он сейчас стоит… то есть мы все стоим. Что прозвучало самым зловещим образом.
Он сказал, если бы католикам дали волю, они растащили бы весь женский пол по монастырям и другим темным заведениям, а детей, можно сказать, истребили бы с лица земли; и нет на свете никакой возможности обуздать католиков, если только мы все не пошлем его в город Вашингтон об этом позаботиться. И все равно, сказал он, борьба будет жестокой, потому что находятся люди, которые, можно сказать, повсеместно продаются католикам за деньги. Он сказал, что сам ни за что не станет брать денег, потому что деньги ему не нужны; так что он целиком и полностью против.
Он сказал, что временами очень близок к тому, чтобы сдаться, бросить борьбу на произвол судьбы и не брать в голову, — как делаем мы.
Мне стало как-то нехорошо оттого, что я не беру в голову, но тут он перестал говорить, слез с ящика и вдруг принялся смеяться и всем пожимать руки. Похоже, у него была полная уверенность, что он справится с ситуацией в городе Вашингтоне.
Мне стало спокойнее, потому что было ясно, что он вернется и обуздает католиков.
Пока политик жал руки и говорил, у края толпы появился человек, который вел на веревочке бурого теленка.
Человек стоял и посматривал по сторонам, дважды обменялся рукопожатием с политиком, когда тот проходил мимо. Маленький теленок стоял позади него, широко расставив ноги и понурив голову. Я встал и пробрался к теленку. Я погладил его разок, но он не поднял головы. Хозяин теленка посмотрел «а меня из-под широкополой шляпы. У него был пронзительный взгляд, и когда он улыбался, глаза у него становились как щелочки. Он улыбнулся.
— Нравится тебе мой теленок, мальчик?
— Да, сэр, — сказал я и отодвинулся от теленка, чтобы хозяин не подумал, что я беспокою теленка.