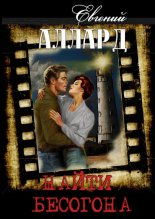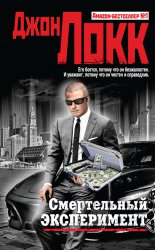Подкарпатская Русь (сборник) Санжаровский Анатолий

Всё вокруг пело, плясало – веселилось наотмашку.
– Йа-х-х-хо-о-о! – дурашливо надсаживалась энергичная молодая кучка в одном месте.
– Йа-х-х-хо-о-о-у-у! – слышалось зазвонистое в другом месте.
Гремели эти счастливые голоса там, там, там – во всём городе.
Отмякла, успокоилась Мария, нигде не найдя трембиту; уверовала, что среди этого всеобщего пламенного веселья не может быть какой-то там гибельно ревущей дурацкой трембиты; то всё ей, Марии, примерещилось, всё то и отцу намерещилось, и она уже любовно взглядывала и на отца, и на братьев, по-прежнему вслушиваясь в голоса города. Не натыкаясь зорким слухом на трембиту, всё заметней Мария оживлялась. Наконец в ней вызрела радость, какая-то удалая, бесшабашная, и она, подгадав момент, коротко подпрыгнула над рулём, пронзительно взвизгнув во весь рот: «Йа-ахо-о-о-у-у!» – эхом вторя этому радостному крику, что раздавался из толпы совсем рядом.
– Е-е-есть! Есть ещё у козы рога. Не стёрлися! – светясь улыбкой, похвалил старик Марию братьям.
– А что такое йахоу? – спросил Петро. – Сколько едем по городу, его только и чуешь.
– Ну-у, в одно слово не вберёшь, – пустился в пояснения старик. – Вот кто из нас сделай большое, ломовое дело, только в поту и вздохнёшь: фу-у… гора с плеч… А ковбой легонько вскрикнет: йахоу! Вроде, дело сделано, отдыхай!
Машина медленно текла по улице.
Марии не хотелось вбыструю вылетать из этого годового веселья. Её воля, никуда б не поехала сейчас. Но раз надо, раз хотят того гости, она и едет, однако продлевая и себе удовольствие уже тем, что едет медленно по разлитому во всём торжеству.
Благостно посматривал старик на гуляющих и молча, ободрительно показывал сыновьям особенно живописные наряды отчаянных плясунов и плясалок.
Улицы помалу пустели.
Вздохнув, Мария живей пустила своего «Мустанга».
В окошко меж туч глянуло солнце, усталое совсем, предзакатное.
Стеснительно улыбнулись ему разом и старик, и Петро, и Иван. Надо же! Уже сколько здесь Иван с Петром, а солнца толком и не видали. Всё тучи да тучи. И вот те на беги! Прямо в глаза!
Встрепенулись Головани, зашевелились, потирая словно с мороза руки, хотя всё по-прежнему было душно, пусто, непонятно-тоскливо на душе. И вот солнце…
Солнце било в глаза.
Мария ужимисто бросила взор на верх ветрового стекла, где должен был быть солнцезащитный козырёк. Мария не помнила, когда козырёк и отвалился. Сколько собиралась снова повесить, да всё откладывала на потом да на потом. За сплошными дождями совсем забыла про козырёк.
Щурясь, Мария видела плохо. Ей бы, может, усмирить немного скорость. Но делать ей этого не хотелось, тем более в последнюю, прощальную прогулку братьев по городу. Неслась она озорно, воспалённо поглядывая в зеркальце на насторожённых Голованей.
Улица торопливо убегала в крутой поворот.
Марии и самой зашло на ум чуть обломить быстроту. Но, увидав в кружке зеркальца недоуменные лица, непутёво хмыкнула и пустила на все пары. Надсадно охнув, машина со стоном взяла, загребла новой резвости. Всё в машине, выскочившей за разделительную полосу, вальнулось к одной стороне.
Последние жаркие лучи кололи прямо в глаза.
Мария инстинктивно вскинула щитком узкую, длинную, как гробик, ладошку и оцепенела.
Навстречу во всю ширь крутой улицы железной рекой державно лилась демонстрация.
Мария вжалась в спинку сиденья, вытянулась. Торможение было такой силы, что её подняло, но и так, полустоя, она не выронила руля, словчила стать поперёк улицы, подставив машинный бок переднему ряду метрах в трёх от него.
– Да погорели б вы все! – грозя сбелевшими кулачками окаменевшей толпе, выдохнула Мария. – Делать вам, что ли, не черта!? Побрали плакатики и шлёндают! Бесовы ленькари!
– Какие ж они лодыри? – приходя в себя, смято возразил старик. – Люди требуют своего.
– Своего требуй прежде всего у самого себя! – почти выкрикнула Мария. – А у них… Глубоко покурили, мелко поработали… На работе надо работать! Тогда и получишь!
– Э-э, Марийка, не с больша ума… Да не пригрейся ты к бродвейскому боку, не знаю, как бы тогда ты сама и пела?
– Работать по совести везде не запрещено! И на Бродвее ленькарям не кланяются!
– И правильно делают, мадам, – приподняв шляпу, в мягкой грусти проговорил подошедший мужчина.
Похоже, он был близко в толпе и слышал разговор.
По его знаку в машину вкогтились со всех сторон и понесли.
– За-а-че-ем? – задыхаясь, застонала Мария. – Зачем бросать с обрыва?
– Этого удовольствия, увы, мы вам не предоставим. Уж как-нибудь сами… На досуге… – Тот же мужчина, помогавший своим товарищам нести машину, холодно смотрел на Марию. – А мы сегодня добрые. Благодарите стампид.
Машину поставили у обочины.
– Больше вы нам не мешаете, – в прощанье мужчина вскинул два пальца. – Все претензии – ему!
Мария вмельк глянула, куда тот показывал, и меж прохожих на тротуаре увидела покачивающуюся из стороны в сторону полицейскую каску. Из-под каски выкруживались тугие белокурые колечки.
«Только и не хватало этого блондина неудачного цвета», – упало подумала Мария, ложась помертвелым лицом на руль. Будто холодом её одело от внезапного страха. Она испугалась бегущего именно к ней полицейского и приняла летучую мысль: разыграю из себя погибшую, а там будь что будет.
Полицейский тыкнул дубинкой в плечо.
Мария не шевельнулась.
– Нет ничего умнее и надёжнее молчания, – устало пробормотал и, облокотившись на верх «Мустанга», скучно воззрился на демонстрантов. Потом наклонился к окошку, вовсе не глядя на сидящих в машине:
– Эй!.. На заднем! – стукнул по крыше дубинкой. – Она у вас что, уже готовая?
– Наполовину! – взрывчато-блаженно прошептала Мария, узнав голос Джимми.
– Мама миа! – отшатнулся поражённый Джи. – Да благодари Бога, что именно мне поручено прогулять эти… дорогие сливки ёбчества. – Дубинка коротко качнулась в сторону текучей людской лавины.
Мария воспрянула духом. Заулыбалась.
С Джи ей всегда было просто, легко, понятно.
Послал же Господь такого сыночка!
– Джи! Сынок! Они не перекинут мою тачку?
– А на что здесь я? Для модели?
Прикрывая собой машину, Джимми широко, прочно расставил ноги, энергичными жестами требовал: ну живей, живей шевелите копытами!
За сыном-полицейским Мария чувствовала себя надёжно. Ещё минуту назад она ни за какие блага не желала видеть полицейского. Но теперь, когда этот полицейский оказался родным сыном, она заново родилась на свет, осмелела, засияла, показывая всем сидящим сзади Голованям, что она и гордится сыном, и ничего с ним не боится.
Избочившись, наползая боком на руль, Мария зудяще таращилась из-за Джи на плотно идущих людей. Сомкнуты губы, в гневе глаза, слегка наклонены вперёд головы, вроде брухаться собрались.
Она видела хорошо, в подробностях видела эти лица, впервые видела так близко бастующих, и ни одно лицо не нравилось.
«Гм… Разойдись, болячки, чиряки идут! Не в час… У нас не побрухаешься, – благодарно смотрела в спину сына в полицейском. – Скоро посбивают рожки. Идите… От бублика выбастуете шнурочек…»
Ей вспомнилось, как хотелось Петру пива.
– Кстати, – мальчишески крутнулась к Петру, – ты вот на ипподроме горел выпить пива. Да где ж ему взяться, если окаянные пивовары видишь, чем заняты? Бастуют наши толстодумы! Видите, у них плохие условия труда, низкая зарплата. А у вас, на Родине, что, все под полный корешок довольны и условиями, и заработком? В такой довольке, что аж шуба заворачивается? Совсем не бывают демонстрации?
– Почему же? На Май… На…
– Я не про праздничные. Я про эти!
Мария ударила в стекло, указывая на демонстрантов, и заполошно вскрикнула: впереди всех по самой серёдке улицы, куда только что выносило её и она едва успела осадить машину, выступал Гэс! Ещё мгновение – она на свирепой фатальной скорости врезалась бы в живой поток и первой её жертвой стал бы её Гэс.
К счастью, этого не произошло.
Однако каково видеть, когда твой бездомный заблудший сыночек вышагивает впереди бастующих да ещё с этой проклятой, словно со знаменем, с чёртовой дудкой!? Вон, оказывается, откуда шли на ипподром глухие раскаты грома…
Мария отстранила рукой немного Джи.
Из-за его спины сорванно позвала:
– Трубач! – Ей не хотелось выказывать, что этот трубач её сын. Она не называла потому его ни сыном, ни по имени. – Трубач! Ты что, заблудился?
– Нашёлся, мама!
Ответ был убеждённый, ядрёный.
Это-то вконец расстроило Марию. Немыслимый гнев так и прихватило морозцем на её лице.
– Кому ты подыгрываешь? – поджигательно допытывалась она.
– Справедливости, мама.
– Ты что, заделался пивоваром?
– Нет, мама. Но я пью пиво и хочу, чтоб в нём было меньше горечи. Хочу, чтоб делали его спокойные люди. Счастливые.
Не останавливаясь, Гэс поднёс к губам трембиту.
Тревога, беда, надежда, призыв – всё смешалось в мятежную гордую музыку, вольно вознеслось над вечереющим праздником.
Суровее, собранней стали выражения на лицах идущих.
Вытвердел шаг.
Гэс держал трембиту почти вертикально, оттого он шёл тяжело, то и дело подаваясь верхом то в сторону, то назад. Его заваливало; за те короткие мгновения, что наблюдали за ним из машины, он несколько раз оступался, в качке отшагивал вбок или назад, но тут же, натужась, твёрдо заносил ногу вперёд.
– Да разве ж так!.. – в крайней досаде бросил Петро и выскочил из машины.
На ходу взял у мученика обвитую берестой трембиту и легко, свободно держа, не задирая высоко утолщающегося конца её, проиграл начало «Верховины».
Замолчал.
Огляделся.
Поталкиваемый ободрительными возгласами, разворотистый Петро, выдабриваясь, степенно, мощно играл ещё и ещё.
Энергичными жестами Гэс показал: это то, что нам как раз и надо! Попросил:
– Поиграйте ещё. Я поучусь.
Громадина Петро, видимый всему идущему за ним миру, играл и играл, и уже когда Гэс, сияя, запросил назад трембиту, уверяя, что он уже кое-что усвоил, Петро отдал и маячно заколыхался к машине, ведя за собой восхищённые взоры. Вслед неслась пока нерешительная, но уже правильно взятая мелодия.
– Ты чему его учил? – пасмурно накатилась в машине на Петра Мария.
Петро коротко хохотнул:
– По просьбе трудящихся…
– Ты шуточками не отбивайся! – настаивала Мария. – Так чему учил?
– Да ну какая ж тут учёба? – в стороны разнёс Петро руки. – Разве… Перед отходом на полонину пастух трембитой скликал и стадо, и подпасков. Разве он этим кого учил чему-нибудь? Он просто собирал их.
– И при этом играл «Интернационал»?
– Господь тебе навстречку! Каждый играет, что знает… Лично я играл свою «Верховину»!
– На тему «Интернационала»?
– Да сдался мне твой «Интер»! Он никогда меня не грел и не греет. Совсем другие «Интеры» я люблю. Миланский и братиславский. Это футбольные команды.
Мария в конфузе опустила голову.
– О! – притопнул старик. – Дуже не переживай, Марийка. Мой Петрик чему попало не научит. Поняй, Марийка, как я говорил… Поняй…
28
И конь на свою сторону рвётся,
а собака отгрызётся да уйдет.
В чужой черевик ноги не сажай.
Домой они ехали почему-то кружным путем.
И приехали на кладбище.
Кладбище было гладкое, пустое.
Без единого цветка.
Без единого кустика.
Без единого деревца.
Без единого креста.
Без единого памятника.
Без единой оградки.
На плоской красной глине вокруг лишь плиты, плиты, плиты, Бетонные. Одинаковые.
– Раз нас сюда прибило, – старик сиротливо тронул Марию за руку, – давай-но проведаем на минутку хатку мою.
– Ка-аку-у-ую? – в один голос ошеломительно потянули братья.
– Вечную, хлопцы, вечную…
Выйдя из машины, старик потерянно побрёл меж дышащих огнём серых плит.
Петро, Иван и Мария в гнетущем молчанье плелись следом.
День был на отходе. Начинало темнеть.
Как-то враз в фиолетовых сумерках потонула земля, островками белели кругом одни нагретые дневным жаром плиты с приподнятыми чуток с одной стороны краями над могильными ямами. Привстали плиты, словно бы ждут, выглядают вечных своих жильцов.
Из-под плит уже смотрела ночь и братьям чудилось не приведи что!
То угрюмая смерть выбрасывала из-под плиты костлявые руки, норовя разом поймать обоих за ноги, то замахивалась на них косой, то пускала из-под плиты змею, и змея жалила и одного, и другого…
Петро и Иван, с детства боявшиеся кладбищ, холодея, мелко обегали плиты. От плит ещё шло какое-то страшное, адово тепло.
Полвечности Мария с отчимом возила братьев по городу.
Сегодня последний день.
Напоследок надо показать город ещё раз.
Кто ж тут против?
Да к чему было заворачивать на это кладбище?
Старик остановился перед одной из плит, выждал, покуда все не подошли вплоть.
– Вот… – судорожно потянул воздух ртом, тыча в плиту. – Вот… Вот тут будем мы лежать… Я обещался показать новую хатку свою… Во-от она…
– Ваша могила?! – вскричали братья. – При живом?!
– При живом, сынки… при живом… – на близкой слезе совсем похоронно зажаловался старик. – Это ж не Русиния… Это, ядрён марш, лешак его маму знает что! Человек ну не вышел ещё из крепких годов, самая сила жизни… А его уже стращают гробом… А с него уже выдирают на могилу… Покинул Вас в соломенке, колотился в деревянной, дожился и до хаты каменной, – кротко погладил угол горячей плиты. – За эту каменную хату сломили три тысячки. И выстроили ещё когда! Загорюешь, приползёшь сюда… Наглотаешься слёз…
Петро заприметил, что на плите что-то написано, но прочитать не мог. Сел на прицыпки, на корточки. Вгляделся.
По-латынике выбиты имена отца, бабы Любицы.
Даты рождения.
Даже терёшки уже нашлёпнуты.
Осталось подписать, когда померли.
– Мда-а, – поднимаясь, прогудел Петро. – Не любят у вас стариков.
– А ховають, а ховають, идоляки, как! – со слезами в голосе зажаловался старик. – Тольке выдохнул человек последнее… Звонок в погребальную контору… Через час уже под этой крышкой… Не остывши ещё… Усы не успеют охолонуть… Да как же это так?.. Не обрядить чтобушки дома… Не постоять дома… Не проститься… Не нести чтобушки на руках… Безо цветов, безо музыки… Не бросать под ноги еловых веток… Не спускать на рушниках… Не услышать, как тебе на лицо упало по горсти земли из сыновьих рук… Да я и из-под этой бетонки буду кричать по своей по сторонушке… У свою бы землюшку…
Петро обнял отца за плечи.
– Няне, земля ни от кого не уйдёт… А Вы у нас ещё герой хоть куда. Воробья переживёте! Что бы да Вам не пожить сперва у родных сынов?! Собирайте бумаги. Проситесь домой. Без звучика ж отпустят!
– Оно, конечно… Только… Самолёта я боюсь. А водой не выдержу. Може статься, холодные одни костоньки привезут… А костонькам не всё ль едино…
– Скажете, нянько… В родной земле и корням теплей!
– И то правда, – после тягостного молчания согласился отец.
Похоже было, готовился он сказать сынам что-то очень важное, и всё молчал, не решался, считая, что негоже вот так с тарараху лепить своё главное. Надо подходец положить к этому к главному.
– А поглядишь, – усталыми глазами повёл отец вокруг по призрачно струившемуся в уже плотневших сумерках горному кольцу, – в затишке мы обретаемся… Сколь скитался по Канадочке… Прикипел на вечное житие в Калгари. Как-то тихо, надёжно, спокойно здесь. Ни одна чужая пуля не упала у нас. А разве это мало по нонешней поре? Мы живём в больное время! Пропасть бед приняла горевая Россиюшка в войну. И ох крепенько уроненный в детстве… Уже соседушка наш, Картер[51] этот, нарывается к Вам с ядерной ограниченной войной. Дуренький! Да пыхни ограниченная эта, уцелеет сам-то он? А? Как же! От хрена одни ушки и уцелеют!
– Парадокс века, – задумчиво выдохнул Иван, – парадокс. А если напрямки – анекдот века. Такой великий народ, а в президентах забияка. Только и здоров, что задираться. А зачем и ума не даст. Что ни затевал – всё пропукал. С бойкотом Московской Олимпиады кто по-грандиозному оскандалился? Кто перестарался и свернул «американский век» в Иране? Обжёгся на Афганистане кто? Теперь вот распетушился с нейтронной… Грозит, выхваляется… Эха… Хвалилась овца, что у неё хвост, как у жеребца… Да кто этому забияке даст взорвать мир? Кто его боится? И никакой Картеришка не пихнёт Россию ни в какую войну.
– Промежду прочим, про Гитлера тоже так говорили. А как всё крутнулось? Больное, больное время наше… Боюсь, – жарко, с надсадцей зашептал старик сухими губами, – боюсь, боюсь я за Вас, сынки…
– Нечего за нас бояться, – отозвался Петро. – Это пускай и соседушка Ваш не забывает… Неужели война буржуйцам не пояснила, что за сила Россия?
– Неповалимая, грозовая… А только боюсь я за Вас, сынки мои. Боюсь… Сюда ракеты не целятся – всё в Вас! Всё в Вас! – Глаза его загорелись, налились мучительно-горькой отвагой. – К спокою надо прибиваться, – ни к кому не обращаясь, в раздумье проговорил; смято, неуверенно позвал: – Что бы да Вам да в наш затишок?.. Что бы да Вам не пристыть, прикопаться тут самим?
Петру показалось, что отец шутил, брал на пробу:
– Няне, это уже и зря такими вещами шутковать.
– А я и не думал шутить. Оставайтесь сами, шлите всем своим визы. Я любил бы видеть всех Вас… Нам с бабунюшкой Любицей – она у меня хорошая, добродушная, во всём чистоту держит – сколь ещё осталось землюшку топтать? Так, и дунуть нечего… От силы год какой… Ну два… Ну три… Крепости во мне нет. Это я мало-малешки в здоровье вошёл, как Вы написали, что едете. А так я сильно лежал, в улёжку лежал… Болячки свои нянчил, на кладбище всё вспоглядывал… С Вами за компанию я ещё подержался б… На пользу Вам… Поди, в чём Вам и пособили с бабунюшкой… Пособили б оклематься, подняться на ноги… Мы с ней, обкашляли, обшушукали всё. У дочек у твоих, Иванко, мелкая детвора – кидай нам на счёты! Подпасём… Выпасем… Будет нам последняя радость… Всё, что у меня с нею, – Ваше! Что нам с нею надо? Вот эту вотчину в косую сажень? – Старик пнул плиту. – Так готовая уже, пятнадцать лет стоит дожидается… Как и оплановано, ферму одному Петру, а всё остальное имущество, весь дом отпишем на Вас на обоих…
– А зачем? – возразил Иван. – Нам всего этого не надо. У нас с Петром по домяке. Как школы там стоят! В садах, в винограде, в цветах…
– Мой дом – это всё, что у меня есть… Как он мне достался… Сперва купил тоскливый, дешёвенький вигвамишко[52], отладил, отдрапировал – с выгодкой загнал. Взял потомушки домичек уже покрупней… Там третий, четвёртый… И так доехал до последнего… Всю жизнь, всё здоровье втолок в домищу… А оставить… некому…
– Милый няне, – ласково забасил Петро, приобняв отца, – мы двумя ложками не едим… Да я свои Белки за Канаду в придачу с Америкой не отдам!
– А на что отдавать? Тебе – дають! Бери да помни: где отцов дом, там и Родина.
– Не-е, няне, – Петро покачал рукой перед отцом. – Родина там, где пупок резан. Родина от слова род. А род там, где мамко. Белки – и Ваша, и моя Родина. Другой у нас Родины нет.
Легла тишина.
Стиснула руки Мария; опустили головы Петро с Иваном.
И виделись им дома свои.
На столах, на окнах – вазы, вазы, вазы.
В вазах не цветы, цветы буйствуют под окнами в палисадах, во дворах. Однако в комнатах от цветов стоит красная духовитая прохлада: вьющиеся розы тесно затянули окна.
Рвать дивные георгины, тюльпаны, хризантемы, лилии просто боязко, вроде как откручиваешь живому голову.
Уж лучше пускай небесно улыбаются цветам Белки, всяк проезжий.
Головани никогда не рвали цветы. Оттого у них, у хлебодаров, по привычке и в лето, и в зиму одно в вазах: пшеничные колоски, пухнатые, пушистые кукурузные метёлки.
Старик, разбито хмурясь, присел на угол плиты.
Угрюмо молчал и лишь время от времени бросал сквозь злость на сыновей льдистые косые взгляды.
– И что? Вы так, хлопцы, и не останетесь? – после долгого плотного молчания спросил сырым размолоченным голосом.
Петро доверчиво тронул отца за плечо.
Заговорил уступчиво, рассудительно:
– Ну, пускай, остались мы. Повызывали своих… И что далей? Что мы тут будем делать? У Вас же, няне, своих безработных, как травы и листу! Полтора мильона! Мало? Подавай свеженьких-горяченьких со стороны? Русинцев не хватает? За месяц, что мы тут, – три забастовки! Целых же три-и-и! – вскинул Петро руку с тремя оттопыренными пальцами. – Мусорщики, – загнул мизинец, – р-раз! Пивовары сегодня, – прижал к ладони безымянный, – два. Послезавтра начинают лётчики – три. Повырывай дочек из институтов и просись они у вас в уборщицы? Не-е, милый нянько… Вы меня, конечно, глубоко извинить, но свой мусор Вы уж убирайте как да ни будь сами.
– И нянечко мой, царство ему небесное, и я ехали… Никакого мусора не страшились.
– Так то когда было? И дидыко, и Вы ехали за куском. А мы, несмотря на картеровское эмбарго на зерно[53], слава Богу, не пухнем с голоду. Наоборот, это у вас скорей опухнешь. Я, нянько, не в упрёк, я так, просто к слову легло, – за месяц я похудел у Вас на двенадцать кило! Утром на весах топтался. Иван вот не даст сбрехать. – Иван согласно кивнул. – Это что, порядок? – Петро с упрёком раскинул просторные полы пиджака, что висел на нём как на палке. – Порядок?
– А чем непорядок? Лишний вес большие годы срубает.
– А кто знает, лишний, нелишний? Кому, может, и лишний. А нам по нашей кости самый раз.
Внутренне старик соглашался с доводами Петра.
Уж кто-кто, а старик-то знал, что такое безработица. Он-то хлебнул этого счастья. И как это он, старая варежка, не подумал про эту самую безработицу? Как мог забыть про неё?
Ладно, сам на пенсии. Но сыновья, но их жёны – им-то сколько ещё ехать до пенсии? Молодые, наверняка достанется зачерпнуть этого счастья.
Лучше уж без него.
К самому моменту бухнул Петро про безработицу.
Может, думал старик, боязнь остаться завтра без работы, без ломаного гроша и хомутит нас, приневоливает самих себя брать за жабры: копи, экономь на всём, даже на еде? И мы… Не с этой ли пагубной экономности тут, может, и повывелись молодцы на Петровы образцы? Всё отощалые плюгавики, кощеи кощеями. В чём только и дух держат?
Всё это не от экономности ли на всём? И чтобы себе не сознаваться в гибельности этой экономии, не придумали ли мы в утешение, что полноплотный человек – больной человек? И всегда ль верно, «тоньше талия – дольше жизнь»?
Мы, думал старик, подтруниваем над плотняком (зависть же прежде нас родилась!), задираем его, гнём под свои мерки. Хочешь долго жить – меньше ешь! Человек начинает мало есть, высыхает в удобную нам стандартную мелочёвку…
Сущие мужики, породистые, несокрушимые, вовсе вывелись, как мамонты. Дюжего человечину у нас и не жаждут увидеть, даже не шьют ничего на порядочное плечо.
Вспомнилось старику, как всем семейством носились по сеседним провинциям в поисках пальтища для Петра. В какие города ни толкались – в смерть утолкались! – а так ни с чем и вернулись.
Было досадно, что не купил готового подарка сыну. Было и красно на душе – ни у кого больше нет такого гренадера-гигантца!
Так чего же было попрекать его тем, что помногу ест?
Воробей вон по зёрнышку клюет и сыт живёт. Так на то он и воробей. На соломинке унесёшь. Ему больше трех зёрнышек и не надо. А медведь за раз по полной корове прибирает и бывает голоден.
Так на что же требовать, чтоб медведь ел с воробья? Чтоб превратить медведя в воробья? Кому это надо?
Копейка всегда завидовала рублю.
Мелкоростки, что с бесшабашной кроличьей безответственностью заполонили большие края, чувствуют себя прескверно, однажды увидев вдруг, что, оказывается, есть люди и поприметней. Ну как не возмутиться, когда другие тебя заслоняют? Когда ты киснешь и чахнешь в чужой тени?
29
Мёрзлые семена поздно всходят.
Колос колоса не может обнять.
С медленным восторгом старик обрадовался этим своим мыслям, что оправдывали плотную полноту Петра.
– Ай да Петрик! – звонко хлопнув в ладошки, чисто, раскованно засмеялся. – И как только могло такое-подобное приключиться, что от клопика, – тукнул себя сухоньким кулачком в стиснутую щуплую грудёнку, – да пошёл экой слонища!
Старик теребил Петров локоть, смеялся, смеялся ясно, подмывающе заразительно, так что даже Мария заулыбалась сквозь проступившие слёзы; хохотнул, будто на пробу, Петро, а там, раскатившись, загрохотал гулко, одобрительно. За компанию прыснул в кулак Иван.
И дико было слышать со стороны этот срывистый, тяжёлый смех на вечереющем кладбище.
Отсмеявшись, с суровой грустью заговорил старик:
– Твоя, Петрик, правда… Снёс нянько безработицу – Вам-то на што её знать? На кой Вам чужина? К чему это не есть досхочу? Не стану я большь канючить, штоб оставались. Не к душе, не желаете раз нашего раю – не надобно. Только об одном, хлопцы, прошу. Вы уж уважьте… Погостюйте до Петровок. Я снесу ваши бумажки куда надо. Без звучика нашлёпнут штампик ещё. Как раз до милых Петровок.
Петро и Иван перебросились взглядами.
– В Петровки я родился. Посвальбовали[54] мы с Вашой мамкой тоже в Петровки. Пшеничным зерном обсыпала нас её мамко… Милые наши Петровки… В честь всего этого мы и тебя, хлопче, – тронул Петра, – назвали Петром. Но за всю пору, что я на чужине, я и разу не отмечал этот день. Моё, оно, конечно, только мне и в цене. Свиделись раз в веку… А доведётся ль ещё свидеться? Давай-но посидим на Петровки за столом. А там уже можно и прощаться…