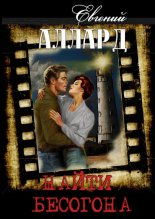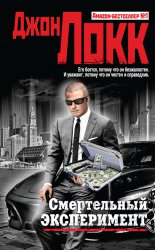Подкарпатская Русь (сборник) Санжаровский Анатолий

– Высоки те пороги на наши ноги, а таки переступи-или, – возвратясь, говорил он тебе, втайне надеясь на милость верхов.
Ан нетушки. Всё оставили по-прежнему.
Что же будет с детьми? Кем они вырастут? Что вырастет в детях русского, если даже языка своего родного в школе не изучить?
Выход один – ехать домой.
А на что? На каковские шиши?
Помирился отец с нуждой. Повёл дочек в школу.
– Господь с вами, идите… Там толкач муку покажет. Идите, только английского чтоб я не слыхал в доме!
И английского никогда не слышали в доме, говорили по-русски.
Готовили уроки шёпотом, потихоньку; отстрелявши учителевы уроки, делали короткий перерыв, после чего уже сам отец принимался школить. Малограмотный сам, учил писать, читать по-русски…
Надоставал где-то кучу русских учебников, множество разных других книжек, учил, гнул детвору к родному слову.
– Не забывайте, – говорил, – вы здесько в гостях. А гость невольник, что подадут, то и жуй. Не забывайте и то, что вы тут только чёрная кость, рабочая сила. Чужая земля не греет. Что там… Родина ваша, дом ваш – пуд Карпатами… Пудкарпатская Русь… В самом центре Европы!.. Русиния… Русиния… На карте не найдёшь такой страны. Но она живёт в каждом русине. Верю, придёт святое времечко, и на карте воспроявится такая держава… Русиния! Вы должны жить у себя Дома. Вы будете, обязательно будете жить у себя Дома! Русин – сын Руси!
И помногу рассказывал про Карпаты, про русинов.
Ты была строгая, добрая.
Твою строгую доброту досегодня держит в высокой цене Иванко, младший брат, уже втрое перегнавший тебя годами.
Ты любила велосипед. Научила ездить на нём и Иванка.
Помогала братке готовить уроки.
Водила в класс за руку.
И если уж что непотребное открывала за ним, не могла, повязанная словом, не сказать отцу. Однако прежде всегда говорила самому Иванку, за что он никогда на тебя не серчал, а вовсе напротив. Спешил поправить свои дела, насколько это было возможно, так что «воспитательный разговор» с отцом не заставал брата врасплошку.
Однажды в школе был вечер.
Ребятьё пело, танцевало, рассказывало стишки.
Ты тоже рассказала английский стишок.
А потом и попроси разрешения рассказать свой.
Учитель разрешил.
И ты рассказала стих Александра Духновича[56]. Этот стих ты слышала от отца.
Песнь народна русска
- Я Русин был, есмь и буду,
- Я родился Русином.
- Честный род мой не забуду,
- Останусь его сыном.
- Великiй мой род и главный,
- Мiру есть современный,
- Духом и силою славный,
- Всем народам прiемный…
Аплодисменты были ото всех, хотя никто из слушавших не знал русского.
Тебя попросили рассказать ещё стих. Но разве ты могла отказаться? И ты рассказала второй стих Духновича.
Жизнь русина
- Под горами, под лесами
- Зимнiй вiтер вiе,
- Там покойный, богобойный
- Русин бедно жiе.
- Подобно роду своему
- Жiе во Карпатах,
- Не завидит он никому
- В высоких палатах.
- Он маетности[59] не мае,
- Ни сребра, ни злата,
- Едное сердце благое
- Суть его богатства.
- Не в богатой он палате
- Пребывает гойно[60],
- В низкой, малой халупине
- Бывает покойно.
- Пшеничнаго и житнаго
- Хлеба он не просит.
- Овес, ячмин кормит его,
- Но и той не досить,
- Не пiет он каву[61], вино,
- Он сiя не знает,
- Но водичка из поточка[62]
- Жажду му вгасает.
- Не плавает он по морях,
- Корабля не мает,
- Лишь по скалах, леcax, горах
- Бедно ся блукает,
- Не убрано, цефровано
- Он ся приберае.
- Одежду красно, порядно
- Сам coбе прикрае.
- Два волики и коровка,
- Кляча не кована,
- Сколько овець, ягнятенька
- Богатства му данна.
- Он ремесло не кохает,
- Лишь землю делает,
- Он не купчит, не кламает,
- На то не внимает,
- Лем покойно, богобойно
- Бога почитает.
- Все невинно и острожно,
- Сам себе питает.
- Земля ему xлебa дае,
- Поточок напоит,
- Он уж больше не жадае,
- Cie 'го спокоит,
- Бо землю щиро делае
- И бедно трудится,
- По горах быстро бегae,
- Тяжко мозолится[63].
- Не потребно 'му перину,
- Когда утрудится,
- Ляже на зелену траву,
- Покойно проспится.
- Но прото[64] он все покойный
- И беды не мае,
- Он есть все coбе притомный,
- Бо гpеxa не знае,
- Он не злодей, не разбойник,
- Сумлиня[65] чистаго,
- Он благiй, добрый человек
- I сердца щираго,
- Бога любит, почитает
- Царя и верхняго,
- Все претерпит i зделает
- Для свого ближняго.
- Он на честь много внимае,
- Жiе богобойно
- И весело работае,
- Трудится покойно.
- Вдячно дасть Богу божое,
- Нич не противится,
- Не жадает нич чужое,
- Своим заходится.
- Он на розказ все готовый,
- Повинен верхности,
- Дань отдати усиловный,
- Кончит повинности.
- Здраваго разума он есть,
- Хоть не учил школу,
- Он правду добре познает,
- Похопит[66] посполу[67].
- I так жiе, так працуе
- В ласце Бога свого,
- Покой, любовь все чувствуе,
- Не рушит никого.
- О призри, Боже и Отче,
- Потешь невиннаго,
- Помилуй, ласкавый Творче,
- Русина беднаго,
- Чтобы он Тебе cлужити
- Мог, сердцем невинный,
- И побожно, честно жити,
- Здоровый и сильный.
И тебя снова не отпускали. Просили читать ещё. И ты рассказала стих Михаила Града «Русиния».
- Русинія – мати моя,
- Краю полонинськый.
- Вічно буде тя любити
- Потомок русинськый.
- Горы мої, руські горы
- Як вас не любити
- Ци у журі, ци в радости,
- Шуга не забыти.
- Многом ходив по світови,
- Тай навандрувався:
- По Чехії, Мадярії,
- Я думум вертався.
- Не забуду співаночкы
- До любкы ходити,
- Бо нітко так гі русинка
- Не знае любити.
- Не забуду руське імня
- І язык русинськый –
- На котрум співала мамка,
- Коли м быв малинькый.
И опять все жарко тебе хлопали.
Рассказала стих Анастасии Далады
Русинкы – наші мамы
- Вышивали наші мамы скатирті білинькі,
- Кросна ткали, жито жали до сонця раненько.
- И до зорькы з косарями ішли на покосы
- З діточками, бикачами по студеных росах.
- В диривляні колысочцi дiтий колысали
- И не кляли свою судьбу, молитву шептали.
- Благородні наші мамкы тяжко все робили,
- У прорубах в снігах прали, на полях орали
- Долинянкы наші добрі и милі горянкы.
- Трудiвниці роботящі, руські, родні мамкы,
- Гордилася наша земля усе трударями,
- Поетами, косарями, в горах вівчарями.
- Богобойні, выробленi, у храмиць ходили,
- Перед образом стояли и Бога молили.
- В тяжкых муках каждодневных, хлібиць заробляли,
- В полонинах сіно гребли, мало добра мали.
Тебя по-прежнему не отпускали.
И тебе пришлось рассказывать новый стих Ивана Петровция.
Духновичем дарованное слово[68]1
- О, речь русинская, тебя одну
- Я чувствую, как гусляры струну,
- Как астрономы даже днём звезду,
- Всю сладкую, как солнышко в меду.
- Как молоко дитя, тебя я пью.
- Никто отнять не сможет речь мою!
- О речь русинская, лишь ты одна
- Стоишь, как нерушимая стена
- Русинских прав и жизненных основ,
- Щитом от украинских болтунов,
- Что рвут нам сердце злых зверей лютей,
- Поскольку не считают за людей.
- О, речь русинская, в тебя одну
- Я верю и тобою присягну.
- В дни страшные, как сердце, он кровит –
- Духновичем нам данный алфавит.
- К своей свободе по его пути
- С русинским словом вместе нам идти!
Снова и снова тебя просили читать русинские стихи.
И ты не могла отказать.
Ты прочла стих-песню Духновича «Подкарпатские русины». В начале XX века эта песня была гимном Карпатской Руси – региона, входившего в состав сначала Австро-Венгрии, а затем – Чехословакии. И через пропасть лет, уже в третьем тысячелетии, эта песня станет гимном Подкарпатской Руси.
Подкарпатские русины
- Подкарпатские русины,
- Оставьте глубокий сон.
- Народный голос зовет вас:
- Не забудьте о своем!
- Наш народ любимый
- да будет свободный.
- От него да отдалится
- неприятелей буря.
- Да посетит справедливость
- уж и русское племя!
- Желание русских вождь:
- Русский да живет народ!
- Просим Бога Вышняго
- да поддержит русскаго
- и даст века лучшаго!
Дома Иванко – ты брала его с собой на вечер – расписал этот случай.
Отец взял тебя на руки. Целовал и плакал.
– Отак, дочушка, и учись… С детей люди растут… Ты у меня ещё прогремишь на всю Землю! Как великий русин Никитин[69].
Ты не понимала, зачем это тебе надо греметь, когда тебе до смерточки хочется летать, и сокрушалась, что ты не мальчишка и не можешь, никогда не сможешь поступить учиться на лётчицу.
Как-то после окончания школы ты пришла к Софии.
На ту пору София уже перебралась жить к одному поляку миллионеру.
София была акушерка. В городской больнице, где она служила, не первый год мучилась одна неродица.
Беда в сто коней ездила к ней.
Только завяжется человечек – выкидыш. В другой раз доберегли акушерки, без малого приспел час рожать – опять выкидыш.
После пятого выкидыша, после пятой такой беды муж той несчастной созвал акушерок.
Угнетённый – не рад хрен тёрке, да что же делать, на всякой пляши! – с мольбой заглядывал больничницам в глаза.
– Семья без детей, что сети без рыбы, – жаловался на ущербе. – Золотые панночки, кто охранит жизнь моему ребёнку – королевская премия за мной. Плач, когда ребёнок наживёт шесть месяцев!
Негаданные шальные доллары – это уже кое-что. Интересно, любопытно по крайнй мере. Никто ничего не имел против премии.
Все акушерки хороводом загорелись ухаживать за горевой миллионкой.
Вмешалось, встрело в эту неладуху больничное начальство.
Указало на лучшую акушерку.
На Софию.
День-ночь колом торчала София при роженице и на час не отлеплялась.
Наконец-то благополучно явился мальчик.
На Софьину премию мама и Иваночко выехали в Доробратово.
– А через год-другой, – приобняв мосластыми руками за плечишки плачущих дочерей, утешал их и самого себя отец, – вернёмся домой и мы. Авось грош круглый. Раскатится. Выпряжемся, даст Господь, и мы из нужды.
Но вскоре пыхнула война.
Не то что выехать, хоть и не на что, – письма перестали бегать.
А София всё вольно жила да ела у миллионщика в доме.
Там ждали второго наследника.
Ты часто приворачивала к Софии.
И в тот день, когда кончила школу, тоже пришла.
– Сегодня все наши снимались на память, а я не стала, – подумала ты вслух в грусти.
– Что ж так? Или ты у нас – ни людям показать, ни самой посмотреть? – с гордовитой осанкой долго посмотрела на тебя София, невольно любуясь твоей молодой красотой. Из десятку тебя не выкинешь.
– Платить, платить-то за карточку чем? Камешками?
– А-а, – опало вздохнула София.
Вкоренилась тишина.
Сам собой поднялся разговор о твоём будущем.
– Неужели на то, чтобы мыть посуду, прежде надо кончить школу непременно с отличием? – как бы самоё себя тихо спросила ты и заплакала в голос: никогда, никогда не быть тебе в университете, где спала и видела себя. Дорога вылилась совсем иная. На ресторанную кухню.
За стеной надставил ухо хозяин.
В ясности расслышал твой плач, вкатился катком.
Был он лысый, как тыква, короткотелый, круглявый. Всемером не обхватить.
– Софи! Почему плачет Маргарет? – Хозяин немного говорил по-русски.
Вы долго молчали. Всё стеснялись. Потом таки и выложи, что ты хотела дальше учиться, да не можешь. Отцу, ломившему на шахте по две смены, нечем было платить за учебу.
– О! – воскликнул хозяин. – Нога ногу, а человек человека подпирает. Я помогу тебе добиться до высокого образования. Ты будешь учиться. Я одочерю тебя!
Ты не согласилась на удочерение.
– Хорошо. Тогда я нотариально делаю так, что все расходы на учёбу оплачиваю я. Твоя прекрасная Софи – она у меня на почёте! – спасла мне наследника и разве после этого я имею право не помочь тебе? Прости, пани, тут, – подолбил себя пальцем в грудь, – я вовсе не такой, как с лица.
Что правда, то правда. Какой уж родился, такой и есть. Сверху не подрисуешь.
Лицо, как гречаник порепанный, громоздкое – решетом не накроешь.
Обидел Господь лицом.
Так сердце вставил славянское, отзывчивое.
Ты любила велосипед, бег, плавание, теннис… Была большая умница. Круглая отличница. С одного прочтения запоминала наизусть любой стих. В совершенстве знала четыре языка. В год проходила по два университетских курса. Была весёлого духа.
В университете не могли не заметить твоей редкостной одарённости. Под конец учёбы пригласили со всеми почестями, раскланиваниями в достопочтенные правительственные хоромы штата.
Мог ли твой отец, сманутый сюда блудильниками-вербовщиками, хоть подумать, что его дочка высоконище так залетит?
Никогда…
Не верил старый, припадавший здоровьем шахтер тому, как всё поворотилось. Не верила и ты сама. Нереально всё было. Как в сказке.
Но и из своей сказки ты видела быль.
А быль была та, что по ту сторону океана тиранствовала война. Под войной, в оккупации, изводились мама, Мария, Иваночко.
– Там – смертная беда…
Нанедолго хватило тебе твоей сказки; пришла ты к значительному лицу.
– Почему до сих пор не открыт Второй фронт? – сдавленно выплеснула свою боль.
– Чем больше спешка, тем меньше скорость, – чуже, туманно ответило значительное лицо.
– То есть, тише едешь – дальше будешь?
– Наверняка.
– Но – куда не едешь, там вообще не будешь! Может, кому-то и без разницы, откроют Второй фронт, не откроют. Зато лично мне не всё равно. Там у меня полсемьи. Моё место сейчас там. И только там!
– Позвольте, – оживилось значительное лицо. – А кроме умения произносить зажигательные речи, что вы можете ещё? Не смущайтесь… Вопрос поставим так. В качестве кого вы хотели бы отправиться туда?
– Бомбардировщицы. Да чтоб не одна! Один кол плетня не удержит.
– Похвально! Огонь огнём тушится. Запомните время это, – значительное лицо значительно указало на старчески хрипевшие, сухо потрескивавшие стенные часы. – Пятнадцать двадцать. С этой минуты вы… Хваткий, широкий ум, природный организаторский дар, знание уймы языков… Полсемьи там… Да кому ж как не вам взяться за создание женского воздушного флота?! Видит Бог и вы тоже, за вами пойдут. Особенно те пойдут, чья родословная бежит о т т у д а… Вы согласны?
Давножданная детская мечта твоя наливалась явью, единственным смыслом, ради чего и стоило жить. Военная летчица не так уж и мало может помочь своим в далёком Добробратове. Да если не одна… Целый полк если!?
Замлевшая от радости, золотясь, ты обновлённо ответила:
– Могли бы и не спрашивать. Лишние вопросы ещё никого не украшали.
– Девушки! Идите к нам в авиацию! – звала ты с газет, с листовок, по радио. Каждый день ровно в пятнадцать двадцать начиналось твоё, лично тебе отведённое эфирное время. – Девушки, жёны! Вы можете ускорить победу над фашизмом. Вы можете добиться того, чтобы солдаты вернулись живыми. И, может быть, один из них окажется тем самым, за кого Вы молились, кого Вы ждали… Наконец-то открыт Второй фронт! В этот решающий час встаньте, женщины Америки, рядом со своими мужьями, рядом со своими любимыми. Война не может ждать…
Твой зов первыми услыхали русские и украинки, полячки и чешки, словачки и сербиянки.
Ты поднимала других, вместе с ними училась летать, училась бить распроклятого чёрного врага.
– Ма-а-мо-о… Иваночко… Скоро уже…
Открывался люк.
Бомбы, как гвозди, сыпались стоймя.
Бомбы казались тебе гвоздями, которые внизу, на земле, со стоном надёжно вколачивались в ясно наметившийся уже гроб войны.
С задания ты возвращалась выморенная, выжатая усталостью, иной раз – с блёсткими тропками слёз на лице.
В небе никто не видел твоих слёз, и ты не стеснялась дать им волю.
Девушка и на войне девушка.
И, конечно, не всегда со слезами на глазах. Слёзы – минутная слабость. Кто от неё спрячется?
Тебя знали всегда сильной, как и подобает командиру…
Я не знаю, где сейчас тот парень русин, я не знаю, что с ним.
У вас в эскадрилье он был один. Помнишь, самовольно выкружил он из боя и вернулся на базу, ругая вдруг забарахливший двигатель?
Ты проверила – никаких повреждений!
Можно было судить парня по всем строгостям войны.
Но ты не спешила с судом.
Мягко, как это могут ласковые девушки, вызнала, почему же это он, доброволец, смалодушничал, почему вышел из боя.
Ты поняла, что перед тобой не трус, а просто лётчик скороспелый. Он многое не знал, многое не умел, оттого и испугался первого боя.
Ты тут же села с ним в его самолёт и поднялась в бой, что ещё продолжался.
Наглядно, в бою, показала и как уходить от зенитного огня, и как уходить невредимым от прожекторов…
Но не могла научить его уйти от любви к тебе. Тем более, ты и не хотела, чтобы он ушёл. Если прежде, до этого совместного боевого вылета, вы просто играли в переглядушки, то теперь, провожая восторженными глазами сбитый тобой падающий чадящей головёшкой самолёт, он поцеловал тебя, поцеловал впервые там, в небе, со стыдливой осторожностью поцеловал то ли в благодарность за преподанный урок мужества, то ли то был поцелуй его души, его любви, то ли то было всё разом.
Ты не противилась. Напротив, потянулась навстречу своему первому поцелую. И… последнему.
И каким орёликом бился потом тот парень, твоя первая любовь, твоя последняя любовь…
Девушка одного поцелуя…
В другой раз горевший самолёт сел с зависшими бомбами.
Самолет мог взорваться в любую секунду, а экипаж не появлялся. Похоже, случилось что-то страшное.
Но к самолёту никто не смел идти. Ты побежала одна, вытащила раненого пилота за несколько мгновений до взрыва…
Тебя так и подмывало махнуть на все строгости войны и хоть на минутку да закатиться в Добробратово.
Это ж такая близь!
Но война была война, ни на ноготь не отходила ты от курса.
И только однажды…
В бою загорелся твой «Бостон». Соколиком ты называла его. И уже горящим соколиком старанила-таки подбивший тебя самолет.
«Всё… Теперь можно уходить», – и выкружила против ветра.
Думала, ветер собьёт пламя? Поможет тебе?
Ведь ветер шёл с добробратовской стороны…
Ветер в лицо шёл с родной стороны…
С маминой стороны…
А пламя не унималось.
Чёрный след клубился, гнался за тобой.
А земля отцов наплывала всё ближе. Всё шире…
Русиния…
Торопилась ты к ней до самого последнего мига, покуда взрыв в воздухе не обрубил чёрную верёвку.
Славная девочка, сгоревшая в родном военном небе, назад, за океан, вернули тебя героиней.
Наградили особой именной медалью:
Светлой памяти Маргариты Бабинец, верной дочери США.
Не обошёл тебя вниманием президент Франклин Рузвельт:
В память о рядовой Маргарите Бабинец, армейский серийный номер А – 312631, которая погибла во время несения службы в Американской зоне 27 июля 1944 года.
Она стоит в нерушимом ряду несгибаемых патриотов, которые дерзновенно погибли ради того, чтобы Свобода жила, крепла и приумножала свои щедроты.
Свобода жива и потому жива Она, поскольку продолжают жить дела и достижения большинства людей.
PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA
Высокие чины приезжали к твоему отцу. Расшибленный твоей гибелью, не оставившей ничего от тебя, он лежал лежмя.
Благодарили чины за тебя.
Уверяли, что в знак особых твоих заслуг ты будешь похоронена на военном кладбище. Говорили, что будет на твоей могиле памятник. И будут на нём такие слова:
«Светлой памяти Маргариты Бабинец, верной дочери США».
Говорят, отец попросил добавить в текст одно лишь слово и вышло так:
«Светлой памяти Маргариты Бабинец, верной дочери Русинии и США».
Но…
Глухое пенсильванское местечко Юнион-Сити.
Обычное кладбище.
Прощание…
Перед гладко обтянутым тканью с просторными белыми и красными полосами гробом, на тёмно-льдистой, зеркальной подставке, тускло холодили глаза перевитые лентами цветы.
Астры, гладиолусы, колокольчики, розы, много роз…
И посреди цветов, будто вырастая из них, поднималась ты на увеличенной карточке.
Справа от карточки, из букета, стояли внаклонку два пониклых звёздно-полосатых флажка.
На карточке ты стоишь в самолёте: тот самый момент, когда улетала на войну. Вскинута рука… То ли здороваешься с кем, то ли прощаешься…
На твоей мемориальной плите выбиты твои даты:
26 февраля 1923 – 27 июля 1944
И в трауре склонился над тобой американский флаг.
Рядом с твоей могилой холмится могила отца.
Отец на тринадцать лет пережил тебя, младшую из дочерей, навсегда оставшуюся двадцатиоднолетней.
Каждый день приходил отец к тебе…
Молча беседовал с тобой…
Не хотел покидать тебя одну в чужой земле, не смог от тебя уйти. По временам почему-то корил себя:
– Мало положил в меня Бог воли.
И завещал похоронить его рядом с тобой.
Полсемьи в Америке, полсемьи в Доробратове…
А знаешь, хвалёные Штаты не дали маме за тебя пенсию. И знаешь почему?
В тамошних твоих бумагах вроде не нашли подтверждения, что ты дочь своей матери. До войны мама семнадцать лет жила с тобой в Штатах. Никто не спорит. Да вот где подтверждение, что тебя родила именно твоя мама? Куда оно, негодное, запропастилось? То ли того подтверждения и не было в бумагах, что менее всего вероятно, или не угодное кому то подтверждение пропало из бумаг, что, напротив, ближе к вероятию уже хотя бы потому, что на свет человек покуда может выйти лишь из лона матери, насколько доподлинно известно это не только гордой науке. Иного, обходного пути пока не открыто. Все прочие-иные варианты, когда детей наискивают в капусте или покупают в уценёнках, суд под внимание не берёт.
А может…
Да что ж гадать в пустой след?
В Америке тебя помнят.
Про тебя даже сделали кино. Только с тем кино получилось грустное «кино».
На первые глаза так смотришь – всё вроде правда.
Ты любила велосипед, бег, плавание, теннис – правда.
Была весёлого духа – правда.
Была круглая отличница – правда.
С одного прочтения наизусть запоминала любой стих – правда.
В совершенстве знала четыре языка – правда.
В год проходила по два университетских курса – правда.
A как ты попала в питтсбургский университет, как добилась высшего образования?
Про это молчок. И не только про это.
Тогда черёд говорить тебе.
Славная девочка, скажи, ну а правда, что ты – индианка? Не русинка, не русская – именно вот индианка?
Это киношники повернули тебя, писаную смуглянку русинку, в индианку.
Раскатали всю про тебя правдушку с пустячным добавленьицем – стала ты индианкой, поскольку им срочно приспичило сляпать фильмишко, который должен был сладко-певно пропеть осанну, ах как гармонично развиты индейцы, корневые американцы.