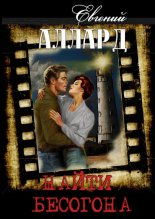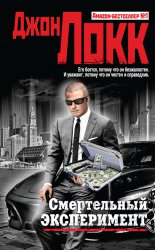Подкарпатская Русь (сборник) Санжаровский Анатолий

– Не скажите, мамко, – добродушно-лениво засомневался Петро. – Перебор полный! Какой, – повернулся он к Марии, – ну какой чёртушка тебя только и разряжал?! – Подумал: «Расфуфырилась, циркашка!»
Однако Петро безотрывно смотрел на Марию и не мог отлепить от неё глаз, до такой притягательности была она и впрямь хороша в этой цвета снега при солнце шляпе, в этой плотной коричневой рубашке с крупными карманами на груди, в этих кипенно-белых брюках в обтяжку, заправленных в вишнево-красные и на аршинных каблуках сапожки с рисунками по бокам.
На голоса вошёл старик, веселый, радостный.
Одной рукой поправлял на себе нежно-молочную шляпу с широкими полями, в другой руке нёс ещё две такие же шляпы, всаженные одна в одну.
– Петрик, хлопчик, – с игривой смиренностью склонил старик голову набок, – сегодня у чертей отгул. И у чертей, и у людей – у всех, кто оказался сегодня в нашем коровьем городе. Сегодня у нас праздник. Стампид! Все перед стампидом равны!
Набавилось старику радости, когда узнал, что ни Петро, ни Иван слыхом не слыхивали о стампиде.
Не слыхали, так услышите!
Старик всегда искал случай рассказать сынам что-нибудь ещё про свою сторону, про местные обычаи, принятые им такими, какими поднесли ему давние годы, ничего в тех обычаях не отвергая и не меняя, – принял, как принимают восход солнца.
Взошло, значит, так и надо. Твоих согласий на то не спросило и не спросит. Принялся Головань в новой жизни, как принимается ива, в какую землю нужда её ни ткни.
– Стампид в Калгари то же самое, что в Мадриде коррида.
– Ничего себе праздничек, – посуровел лицом Иван. – Пырять скотине в бока копья!
– И вовсе нет! И вовсе нет, Иванко! Ковбой любит животных не только на ферме, любит и на ипподроме. Да что говорить? Это надо видеть!
– Вот именно! – царственно пристукнула ладошкой по столу Мария.
– Сегодня каждый из нас – и мал и стар! – ковбой и должен быть одет как ковбой, – широким жестом старик указал на Марию, такую приманчивую, такую пригожую. – Порядки у нас добрые, уступчивые. Приходи в чём душа приведёт. Но явись ты без шляпы – на ипподром могут и не пустить. Поэтому берите, – в поклоне подал сыновьям по шляпе, – да с Богом к машине.
В ипподромную сумятицу с её ревом, свистом, вскакиваньем с трибун братья ввалились, как мышата в кипящий котёл.
Ввалились и – рты нараспашку, глаза на лоб.
С каких давен топчут землю, а не видывали такого содомища.
(Жаловались в Белках на собрания. Мол, до чего уж шумны те собрания. Так разве то шум? Разве то базар?)
Отстали братья от отца с Марией, потерялись. Луп сюда, луп туда – нету отца с Марией. Совсем пропали с виду.
Стоят, шагу пустить вперёд не могут.
Оглохли, оцепенели…
– Э-эй, стекольщики! – захрипели на них из ближних рядов. – Ну-к в сторонку сдай!
Не сговариваясь, качнулись братья назад, к выходу, – к лешему этот адов котёл! – но и служивый у выхода насыпался, наорал себе: пришли, так притыкайся где по-тихому и ша! Не путайся перед глазами!
В давке отлепились от выхода.
Иван и говорит:
– Петронций, у тебя глаз помоложе, верней… А ну кинь со своей вышки, где там наши? Да давай-но к ним правиться.
На добрый аршин подымавшийся над толкотнёй Петро в два огляда отыскал своих.
Отец с Марией, пригнувшись, боком продирались меж рядов к своим местам.
Мария шла за отцом.
Уверенная, что братья тащатся вплоть следом – задним колёсам как не идти за передними? – она, не поворачиваясь, жестом звала: за мной, за мнойкой! Ладошка, раскрытая совочком, лежала у неё на пояснице, и Мария невспех пошевеливала бледными пальчиками. За мной, за мной, братушки!
Шла она, опустив голову и глядя под ноги.
Да те, мимо кого шла, разом видели и происходившее на поле, и её. Красивых видят всегда.
Вот Мария поровнялась с отцветающим долговолосиком.
Стареющий малец, не стоящий и беглого взгляда, пялясь вослед, со словами «Заговори о чёрте и он появится» шумно, кобелино потянул тупыми ноздрями воздух; и сосед, его ж поздних лет, такой же жердистый, моляще послал вдогон воздушный поцелуй:
– Несчастья говорят нам о том, что такое счастье.
И третий, плутовски перекрестив вослед её муравьиную талию, потерянно приложил руку к груди. Поклонился…
И четвёртый…
Домолотив второпях яблоко, кинув конфету в рот, завернул в обёртку огрызок и с театральным великодушием – удовольствия украдкой самые сладостные! – эффектно сронил «конфетку» Марии в зовущую братьев руку, помахал прощально шляпой.
– Ax ты, моржовый Хрен Долдоныч! – цепенея, взревел мощным басом Петро. – Ну западло!.. Да я ж твою душу выну и задвину!
Тяжёлой громадиной сорвался с места Петро, налётом полетел к последнему в четвёрке.
Сидевшие на лавке в панике подбирали под себя ноги, ужимались, давая дорогу. С недоумением поджаривал за братом Иван, ничего не видевший впереди за Петровой спиной.
Мария не сразу заметила, что что-то бросили ей в раскрытую ладошку. А когда заметила, тут же развернула цветастую бумажку – земля пошла перед ней кругом. И бумажка, и огрызок выпали из рук.
– Кто? – надломленно повернула лицо назад. – Кто-о?
Мария уставилась на того парня, который и бросил. Чутьё говорило, именно его это работа. Парень сочувственно-вежливо улыбнулся, для большей убедительности покосился себе за плечо, переломившись, заглянул себе под лавку и изысканно-любезно, коротко развел руками: пардон, мадам, кого Вы ищете – здесь нет! Сожалею!
Петро не стал выпытывать, кто да что, он видел всё своими глазами, а потому, с разбегу выдернув из тесной людской цепи именно того шалопая-доходягу и взметнув его над собой, захрипел растравленным медведем:
– Целуй, га-ад, оскорблённой женщине сапог! Не то!..
Распалённо глянул на поле, где за разъярённым быком с ленточкой гонялись на лошадях двое:
– Не то посажу быку на рога!
Всё вокруг притихло, окаменело. Отвлеклось от поля, от ковбоев. Что пялиться на поле, когда рядом почище корриды!
Малый залепетал что-то покаянное по-английски, затравленно озираясь по сторонам. Петро не знал английского, ничего не понимал и лихорадочно думал, как же поступить.
Мужчина – сидел ряда на два выше, – зевая, попенял малому:
– Живущим в стеклянном доме камнями бросаться не следует…
– Кто силён, тот и прав, – мрачно возразил сиплый бас справа. – Сила всегда опережает правду.
– Не-ет! – выкрикнула тоже по-английски Мария, указывая на вскинутого Петром малого. – Мера за меру! Не больше!
– Несчастья, которые мы сами на себя навлекаем, тяжелее всех, – ни к кому в особенности не обращаясь, по-прокурорски назидательно проговорил мужчина с нижнего соседнего ряда.
Парень, что до этих перекоров сидел рядом с тем, который сейчас с выси воздетых могучих Петровых рук безучастно шептал: «Под собой разжигать костер…» – вжался комком в лавку, отстраняясь от Петра, зыркал себе за плечо. Видимо, он был в этой четвёрке не последняя спица, потому что сидевшие с ним по соседству двое не спускали с него выжидательных глаз.
Закопёрщик еле приметно кивнул; те снялись.
Сорвался и сам заводила. Не сделал он и одного прыжка, как Петро, замахнувшийся малым единственно затем чтобы сошвырнуть рядов через двадцать вниз, в яму поля, увидел беглецов и, крутнувшись, с криком: «Мистеры зелёные, вы забыли вот этого маминого сосунчика!» – швырнул в них малым.
В мгновение будто ветром вдуло всю четвёрку в давку у входа.
– Конец венчает дело, – спокойно произнёс всё тот же мужчина из второго верхнего ряда, подвёл черту.
В голосе у него не было ни осуждения, ни восторга.
Дело кончено, надо забыть.
26
Что можно пану, то нельзя Ивану.
Без росы и трава не растёт.
А кимоно-то херовато, – забеспокоился Иван. – Не мешало бы нам сплыть отсюда.
– Да, да, – покивала Мария. – К чему нам свидания в полиции?
– А! Вон оно где тебе жмёт сапог! – присвистнул Петро. – Её смертно оскорбили и она ж ещё боится! Вот когда нас заметут, тогда и скажешь. Думаешь, побегут в полицию? Да ни за мильон! Сами ж напросились на гостинчик. А чтоб ты убедилась, что никто нас не тронет, мы никуда с этого места не уйдём. Да и потом, окажись я неправ, не надо усложнять работу полиции. В ней же твой Джи!.. Здесь как раз освободилось четыре места. Нам больше не надо. Садись, Иван, садитесь, нянько. Нехай полы не висят. Нехай отдыхают.
Старик колебался.
Он не знал, то ли радоваться, то ли огорчаться Петрову выбрыку. И всё же, простительно махнув рукой, словно что решив про себя, возразил с робостью в голосе:
– Петрик, чего ж садись на чужи места?
– Ня-я-яа-а-анько! – ублажающе загудел Петро. – Были чужие, теперь… – садясь, потянул отца за бёдра книзу, усаживая подле себя, – теперь наши.
– Надо б на свои… У нас же и билеты на руках. Всё честь по чести…
– Э-э, нянько… Про честь где заговорили! Вот про честь в этом чёртовом котле и след помолчать. Не то обязательно заберут!
И, давая понять, что дело кончено, Петро, усадив-таки отца рядом и успокоительно положив ему руку на плечо, нарочито громыхнул:
– Нянько, и долго будут нам они, – взглянул коротко на поле, – голову кружить? Два таких бугая в шляпах гоняются за одним-единым телком. Чего им от него нужно? Чего-но пристают?
– Смотри. Сам увидишь, – суховато прошептал старик сбавленным голосом, стараясь никому не мешать разговорами.
Минуты три старик молчал, тихонько оглядывая ближних зрителей; убедившись, что и в самом деле никому не мешает, мирно, как-то просительно опустил руку Петру на колено, подбираясь лицом поближе к высокому Петрову уху. Петро наклонился.
– То, сынок, – мягко зашелестел словами старик, тихим движением головы указывая на поле, – номер ну вот такой. Укрощение бычка называется. Значит, ковбою дана таковецкая задачка… Лошадь летит себе. А ты на скаку с неё сигай и на рог намахни ленту.
– Да-а… Это не то, что попасть пальцем в небо и не промахнуться. Только что-то они долго… Сколько же можно раскатываться?
– Ловчат. Ловят момент. В жизни подо всё подгони этот самый дорогой моментушко… Во! Во!!
Старик тыкал в саму серёдку поля, где в рваных облаках пыли деялось невозможное, сыпал словами горячо, неистово.
Хотя Петро и сидел рядом, понять ничегошеньки не мог: оглушительный рёв наполнил вмиг чашу ипподрома.
Всё повскакивало с трибун; всё кричало, всё свистело, всё дубасило в топоте ногами, всё держало окаменелыми, цепенящими взорами отпетого смельчака – на полном скаку, не выпуская ног из стремян, с упоительной отвагой, расчётливо-точно пластанулся на рога рядом бегущего молодого быка; и всё то короткое время, которое понадобилось, покуда надевал ленту на рог, парень был мостом между лошадью и быком; и всё то бедовое время, будто почуяв, что между ними живой человек, именно тот человек, который всю-то жизнь, и в дождь, и в снег, и в будни, и в праздники всегда с ними, всегда и накормит, и напоит, – почувствовав, что тот единственный их вечный кормилец в беде, они стремительно бегут в одной, равной силе, на одном расстоянии, не решаясь ни на палец разойтисъ; и конь и бык, думалось в этот миг Петру, понимали, что жизнь этого человека на волоске, всецело зависела от них, и они, не сбавляя крутой скорости, боялись уронить его ненароком и растоптать.
Длилось это триединство, покуда были все трое вместе. Но как только человек, накинув ленту, выпростав ноги из стремян, оттолкнулся от коня, конь враз рванул резко вбок, словно обидясь и ревнуя, что ловкий ездок оставил его и перескочил на быка.
Впрочем, эта пересадка была уже сверх номера.
Это в номер не входило.
Всё должно кончаться тем, что ковбой надевает быку ленту. Ковбой же, разойдясь под рёв трибун, уже сам не в своей власти, этим рёвом, кажется, перемахнуло его с лошади на быка, перекинуло, усадило и теперь он, отчаюга, вовсе не держась даже за упругую бычью холку, царственно-победительно машет обеими руками на все стороны: я герой, я венец делу, весь этот трибунный рёв – мне одному!
Как знать, думает Петро, может, всю эту нелепость понимал и бык. Поди, быку не понравилось, что почести достались лишь тому, чью жизнь он, бык, напару с конём выносил из беды, иначе чего б он стал горбатиться, скакать, норовя сбросить задористого седока?
Похоже, седок не очень-то и держался за катанье на неуютной бычьей спине. Картинно проехав под рёв несколько метров, парень пружинисто упирается руками в жёсткий лоск спины, приподымается в стойку, не спеша, как бы нехотя вытягивая ноги вверх, подбрасывает себя – яровитый бык вихрем вылетает из-под ухаря, и орёлик уже эффектно, как гимнаст со снаряда, приземляется чисто, без помарок.
Едва убрались под затухавшие восторги ленточники, как из державно растворившихся ворот загона ударила гулко и покатилась по глади полюшка взбаламученная рыжая волна коровьего стада; навстречу полетели к коровам верхами.
– А это для смеха фокус. Для отдыха души. – Уверенный, что номер обязательно понравится сыновьям, старик свойски поталкивает плечами и Ивана, и Петра, заранее улыбаясь. – Недоенных коров завернули сюда с пастьбы. Вот прытче кто надоит два дюйма – это так пальца на три в бутылке, тот и генерал. Эна!
Парни с лошадей накидывают на рога арканы, камнем спешиваются, держат коров – напарники знай вперегонку дои; попасть струйкой в бутылку не сразу приноровишься; наплескав на глазок злосчастные два дюйма, шьют к судье: ну-ка скажи, кто проворней!
Трибуны посмеиваются снисходительно, чинно.
Сквозь этот вежливый смешок старик слышит накатами, рваными обрывками трембиту.
Голос у трембиты сдавленный, какой-то придушенный; в тревоге темнея, старик вытягивает тонкую шею, тоскливо всматривается в ту сторону, откуда слыхать трембиту. Но ни у кого на ипподроме не видать трембиты.
Может, кто из-под полы играет? Дразнит?
Тут же прогоняет пустую мысль. Трембита не флейта. В потайной карман не сунешь.
Может, всё это погрезилось?
Бывает такое. Бывает, убеждает себя старик, и начинает помалу верить: показалось, что слышал свою трембиту. Показалось, конечно, показалось. Показалось и всё! Разве не может показаться? Может… Показалось и всё!
«Показалось и всё!» – твердит себе успокоительно старик. Думать ему было так почему-то удобно, хорошо. Минуту-другую он только так и думает, медленно, чугунно подымаясь, возвращаясь душой к радости стампида…
Как гром среди ясного неба трембита снова накоротке дала свой надсадный, полинялый голос и – пропала.
Слилось немного времени.
Старик надставляет ухо, слышит подземельно далёкую трембиту. Только такое чувство, что трембита уже ближе, звуки различимей, чётче, твёрже.
Старик искоса посмотрел на сидевших слева Петра и Марию.
Тоненькая, в синих жилках, усталая её рука вкрадчиво покоилась, отдыхала в сановитой, надёжной Петровой руке. Негаданное, горделивое счастье цвело на лицах.
«Кроме себя никого и ничего не слышат…»
Не поворачивая головы, старик глянул на Ивана.
Иван сидел справа, с той стороны, откуда именно только что было слышно трембиту. Раз Иван ближе к трембите, значит, решил старик, Иван и мог слышать её; оттого, уже не таясь, маятно вперился в Ивана.
Заметил Иван отца. Повернулся.
В мученических глазах льдисто холодели растерянность, испуг.
– Что?.. Что Вы так смотрите на меня? – нервно прошептал Иван.
Старик молча пустил глаза мимо Ивана, дальше туда, в сторону выхода. Откуда-то вот из тех краёв подавала голос трембита.
Иван перехватил отцов взгляд, загнанно уставился в толчею у выхода, суматошливо перебирая лица. Славушка тебе, Господи, ни той проклятой четвёрки, ни полиции!
Отломало сердце, отлегло, откатилось немного от души.
Несколько ровней спросил:
– Нянько, кого Вы там, у выхода, выискиваете?
– Иваночко, – забормотал себе под нос старик, – сыноче, ты ничего не чуешь?
– Я да не чую! – в смертельной досаде хлопнул себя Иван бледным кулачком по коленке. – Я да не чую! Влетели в кашу! Эва как ещё влетели… Да с минуты на минуту!.. А ну заявятся те в компании с полицейскими? Загремим! Ну неуж сиди да жди? От греха надальше чего б не перебечь на свои законные места? Есть же билеты! Есть же у нас самые раззаконные места!
– Или ты, паникёр-одиночка, выпал из ума? – вяло усмехнулся Петро. – Как погляжу, вбили эти четверо твою зайкину душеньку в пятки. Не мети пургу. Не су-е-тись! Никакого законного местечка здесь у тебя нету… Нянько, – потянул Петро к отцу руку, – дайте-ка билеты.
Всё с той же вялостью и безразличием Петро принял билеты и изодрал. Клочки пихнул себе в карман:
– Успокойся, голубе. Без билетов всё равно где сидеть… Сиди до морковкина заговенья. Ни одна холера тебя не тронет. Кому ты нужен?
– Не-ет, – безучастно поднялся Иван. – Без билетов! Как вообще? Извините, господин Центнеров, – в детстве Иван дразнил Петра господином Центнеровым и при этом всегда говорил на Вы, – извините, но из-за Ваших вытребенек… В последний гостевальный день я как-то не горю особенным желанием залететь в каталажку. Домой, к себе в Белки, – название села он произнёс с подчёркнутым нажимом, – как ни странно я хочу вернуться в срок. По визе…
Искательно кланяясь каждому сидящему в ряду, старательно обминая каждого, поскрёбся Иван, качаясь, к выходу.
– Держись за солнышком, в тени. Не так жарко будет, – насмешливо кинул вдогонку Петро. – Да смотри, как бы те четверо невзначай не обтолкли тебе бока.
– Что за грех, – подумал вслух старик, обеими руками осудительно указывая на уходящего боком меж тесных рядов Ивана. – Петрик, может, и в сам деле убраться всем нам?
– Вот сейчас, нянько, как раз и сидите! – шумнул генерал-басом Петро. – Поглядим, посмеет ли какая худая тля сунуться.
– Ну на что это надо испытывать судьбу? – с плаксивым выражением на лице тянул старик. – Ну обязательно ли?
– Это тот самый случай, когда обязательно. – Петро мягко тронул отца за острый, лёгкий локоток. – Я никогда и нигде, ни-где, – неторопливо, властно повторил Петро, – не уходил с середины спектакля.
– А ну спектакль с мордобитием? – угарно подловил старик.
– А на что тогда, нянько, давали Вы мне эти кувалды?
Сложенными вместе кулаками Петро тихонько тукнул себя по колену.
Короткая дрожь брызнула по лавке в обе стороны.
Умильное и вместе с тем смятое изумление качнулось в тоскливых, беззащитных глазах, что наливались гордоватой решимостью, и старик, медленно, согласно кивнув, перевёл твердеющий взор на поле.
Иван ушёл и не возвращался.
Укоряющей, тревожной пустотой, точно пролом в стене жилого дома, зияло оставленное Иваном место.
«Где он? Что с ним? – начал изводиться Петро. – Ну, ёперный театр… А ну на него напали? А ну?..»
Петро был готов кинуться на поиски брата и не мог встать, связанный словом.
«Весёленький перфект… – подумал он – Прогнал ко всем дьяволам Ивана, осиротил батька. Нехай хоть…» – и, под мышки подхватив отца, пересев сам, усадил его между собой и Марией.
На безмолвный отцов вопрос ответил:
– Так вроде всё верней. А то сидите, как сирота на той прилепушке.
Сели повольней, скрали Иванову пустоту.
Не отнимая горячих глаз от происходящего на поле, Мария ощупкой нашла и взяла старика за руку, погладила и, накрыв его руку своей свободной рукой, чуть подалась верхом вперёд.
Конечно же – чего пустыми словами сорить? – сейчас она видела одно поле, на поле ковбоя – в левой руке поводья, правая вытянута в сторону, ноги – над золотистой гривой брыкающегося коня. Усиди так целых десять секунд на дикаре на этом!
Взрывались под ярыми копытами упругие кидки пыли.
Пыль не расходилась, не рассеивалась. А копыта всё подбавляли, всё подбавляли. Сытая, плотная, она тяжело поднялась по всему полю метра каких на три. Но дальше нет сил подняться, оттого не увидать в ясности лица ковбоя, не увидать, что именно на нём, на лице, в эту секунду. Боль? Отчаянность? Радость? Будто кисеей завесила всё пыль, скрала.
Ветру, ветру бы сюда, сквознячку бы бодрого! Да где ж ему взяться в этом душном котле?
И постоит-постоит пыль над землей, покуда стучат беспокойные копыта, а там снова толсто уляжется до нового стампида.
– Марийка, – нерешительно напоминает о себе старик.
– Ну, чего ещё марийкать? – без зла сердится Мария, не выпуская стариковой руки и не удостаивая его взглядом. – Вам попить, – в голосе тихая улыбка, – иль просто воды?
– Марийка, а я таки, – стоял на своём, не пускал свою мысль в сторону, – а я таки чую трембиту. И ближе уже… Наближается… – доверительно шепчет старик.
– А Вы не спутали? – доверительно шепчет и она в ответ. – Может, извините, то архангелы кого под свои знамёна призывают?
Мимо пропустил старик недумные слова.
Крякнул только с досады.
На тот момент сквозь несколько притихшую ипподромную сумятицу ударил ясный, тревожный зов трембиты.
Дрогнула Мария, напряглась вся.
Кто это? Гэс?
Тогда почему днём?
Насколько помнится, уговор был дудеть по вечерам, лишь по вечерам…
Правда, она ни разу его так и не слышала, уж лучше было бы не слышать вовсе, чем слышать сейчас оттуда, из этого дерзкого квартала.
– Отец, есть ли помимо Гэса ещё у кого-нибудь в городе эта ревущая дубина? – побелелыми губами прошептала Мария.
– По крайности, мне такое не известно.
– Не хотите ли Вы сказать, что это Гэс? – Она качнула головой в сторону, откуда была слышна трембита.
Старик пожал плечами.
– А чего гадать? Не пойти ли навстречу трембите? Там всё разъяснится!
Недоброе предчувствие кольнуло её.
Конечно, это ни в коем случае не может быть Гэс… Ещё из этого дурацкого квартала! Что он мог там забыть? Что, у него нет куска? Нет крыши над головой? Не-ет, не мог, не может он там быть!
И чем больше приводила Мария самой себе доводов в защиту той мысли, что её Гэс никак не мог оказаться в квартале, известном своими бестолковыми выходками, тем больше она боялась, что именно он дудит именно там.
Чего бы проще, выйди и узнай, всё станет на свои места, всё придёт в ясность. Как раз вот этой-то ясности Мария безотчетно и страшилась, понудительно выискивая себе в тоске оправдание не пойти.
«И так опоздали к началу. Не видали открытия, парада… Сколькое пропустили! И теперь уйти и не увидать езду на горбатых быках? Не увидать фургонные гонки? А что… Гонки гонками… А ну Гэс уже в беде?!»
Марию будто подбросило. Вскочив, неумолимыми жестами велела подыматься и отцу и Петру.
– Идёмте! Навстречу трембите! Скорее! Скорее же! Вы!.. Петро готовно встал, довольный, что желанию женщины нельзя противиться. Да чего ж противиться, когда сидишь сам как на иголках, казнишься, где там Иван, что с ним. Наконец-то можно с чистой совестью выйти поискать!
– Лично мне, блин горелый, всё это, – мягко придерживая впереди идущего отца за плечи, остыло глянул Петро на скачущих на молоденьких бычках парней, – всё это край грустная юмористика. Мы никогда не играли в ваши бирюльки и не понимаем ваших игр… Ну и пекло… Духотища… Клапана горят! Просит душа хоть глоточек свежего, правильного пивка…
27
Спящий никого не может разбудить.
Чем больше куёшь железо, тем оно горячей.
Они вышли.
Но и здесь, у ипподрома, была та же парилка.
Небо в облаках, духота, духота…
– Нянько! Невжель Ваш максимум[50] даже и в лето не берёт отпуска? – обмякло усмехнулся Петро.
– Похоже, не берёт, – ответил за отца Иван, чёртом вывернулся из весёлой ярмарочной толпы.
– Ого-го-го! Нашлась-таки бабушкина пропажка! – ясно обрадовался Петро. – Целый, вижу, неповредимый… Хоть-ко подхвались, где путешествовал?
– Никаких путешествий! На стрёме стоял. Думаю, асмодеи эти… Ну, четверо… Не дадут же тебе досмотреть, как пить дать подкатят с полицией. Я и стерёгши их у входа. Пойди они за тобой, я б и вывалился им навстречу, сказал бы, что ты ушёл, а коль нужна замена, берите, маэстры, меня. Не воспонадобился…
– Не востребовался! – в простодушности хлопнул Петро брата по спине. – Так что, Иванечко, в срок вернёшься к внуку. Честь честью прощайся спокойно со всем этим…
Петро грустно повёл вокруг очами.
День валило к вечеру.
Во все стороны, куда ни пусти глаз – горы, горы, горы. Пустые, голые, как стекло, в одних местах, в других местах закрыты кое-где лесом. Город был огорожен горами.
Горы берегли его покой, благоденствие. Высокие, державные, они исправно несли свою важную службу, предначертанную самой природой: держали город в дрёмном затишке, не пускали сюда ни ветров, ни бурь; и удивительно было лишь то, как это они впустили в город маленькую безгласную речушку. Вода в речушке была вроде чистая, да рыба в ней не жила.
И виноваты ли теперь горы, что всё же от нагнанной с юга антициклоном тупой стоячей жары город задыхался в своём каменном котле, судорожно жаждал хоть глотка живого воздуха?..
«Эгэ, – думал Петро, – да не много ль котлов? Ипподром – котёл, город – котёл. Вся страна, обнятая горами, тоже котёл. Котлы в котлах… Котлы-матрёшки… Жарко же в тебе, канадский котелочек. И весело…»
Подле ипподрома кипела ярмарка; в отдальке жались друг к дружке походные индейские хижины.
В этой сумасбродной, рокочущей людской коловерти ничего не было для глаза притягательней индейцев с перьями, в броско размалёванных одеждах.
Годовой праздник! Счастье! Единое на всех!
Сегодня индейцы веселятся вместе с белыми! Уже одно присутствие индейцев прибавляет празднику особенного колорита, особенной живописности. Забыты распри, обиды забыты. Белые прямо лезут в кость: сама обходительность, сама ласка, обнимают индейцев перед фотокамерами.
И турист не турист, не снимись в обнимку с индейцем. Как же уедешь со стампида без такого звёздного сувенира?
Праздник сегодня.
Праздник перевалится и в завтра…
Завтра за самолучшие наряды индейцев будут одаривать премиальной денежкой…
А сегодня…
Всё вокруг балаганно озоровало, дурило, выманивало ни за что у простофиль деньжонки. Недовольных не было.