В поисках Парижа, или Вечное возвращение Герман Михаил
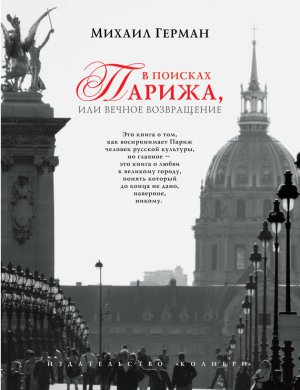
Объяснять все это парижанину нет нужды, а самому себе или иным приезжим – едва ли возможно. Даже проведя в этих самых кафе многие часы – за бокалом вина или за едой, за деловыми встречами, тоскливыми мечтаниями, разговаривая с французами или соотечественниками, любимой спутницей или случайным знакомым, вспоминая и размышляя о них, стараясь объяснить себе и другим (не знаю, что легче!) секрет их обаяния, – начинаешь испытывать растерянность. Это одна из величайших тайн Франции, и особенно Парижа. Я говорю это с абсолютной серьезностью и своего рода озабоченностью. Передо мной множество вполне суровых тайн, но эта – одна из самых неразрешимых.
Кафе кружат голову.
Особенно ежели нет снега и дождя и всюду появляются эти восхитительные столики, guridons, которые выносят на тротуары при малейшем дуновении теплых и влажных ветерков, напоминающих, что лето еще не ушло или что уже пахнет весной. Это прелестно, это – Париж, это счастливый праздник кафе, но это еще не потайная его магия. Столики на улицах и люди за ними едва ли не одинаковы повсюду в Париже – от «снобинарского» «Дё Маго» на Сен-Жермен или пышного «Кафе де ла Пэ» у Оперб до крохотного и непривычно дешевого для Парижа кабачка в Менильмонтане. Речь, конечно, не о ценах и публике, тем паче не о нарядах – тут-то есть что сравнивать, но о единой для всего Парижа атмосфере веселой неги и простодушной радости. Это авансцена, на которой можно остаться и довольствоваться блистательным прологом. И не надо думать, что это «не Париж», а, мол, туристическая витрина. В Париже – все решительно Париж, и скепсис иностранца, презрительно роняющего по поводу прелестей Монмартра или Латинского квартала: «Это для туристов!», свидетельствует лишь о том, как легко и даже охотно пугливая истина прячется от расхожих суждений.
Понимать, как известно, можно только любя. А любить – понимая. Касательно кафе – это труднейшая наука: слишком много ловушек, обещающих слишком простые разгадки.
Здесь Прокопио Деи Кольтелли основал в 1686 году самое старое кафе в мире и самый прославленный центр литературной и философской жизни. В XVIII и XIX веках его посещали Лафонтен, Вольтер, энциклопедисты, Бенджамин Франклин, Дантон, Марат, Робеспьер, Наполеон Бонапарт, Бальзак, Виктор Гюго, Гамбетта, Верлен и Анатоль Франс.
Это надпись на мемориальной доске у входа в знаменитый ресторан в доме 13 по улице de l’Ancienne-Comdie (Старой Комедии) около Сен-Жермен-де-Пре.
В XIX столетии кафе – и весьма часто – являли собой вовсе не те уютные заведения, которые существуют в Париже ныне. Огромные залы, столы для бильярда, высокие зеркала, колонны, разделяющие помещения, гул голосов… Здесь дамы по-прежнему были редкими гостьями, а мужчины сидели, не снимая шляп и цилиндров. Домино, бильбоке[23], бильярд. «Гентский бульвар и „Кафе де Пари“» – так определяет в 1838 году «фешенебельный Париж» виконт де Морсер, один из персонажей романа Дюма «Граф Монте-Кристо» (Гентским назывался в ту пору отрезок Итальянского бульвара, который в годы Реставрации получил название в честь города, где жил в изгнании будущий Людовик XVIII). На бульварах, кроме знаменитого Храма Элегантности – «Кафе де Пари», были и другие прославленные заведения: кафе «Кардинал», «Гран-Балкон», «Арди», великолепное «Мезон Доре» на углу улицы Лаффит, знаменитое «Кафе Риш» (позднее ресторан) на углу улицы Лепелетье, «Кафе дез Англе», прославленное своим мороженым кафе «Тортони» на углу улицы Тэтбу; там был проход к оперному театру, бывшему до постройки знаменитого здания Гарнье центром музыкальной и светской жизни Парижа. И рядом бульвар Капуцинок, «Американское кафе», «Гран-кафе», «Неаполитанское кафе».
Теперь все ходят едва ли не всюду, но далеко не просто иностранцу разобраться в скрытых кодах, что таятся за этими словами: «кафе» (caf), «брассри» (brasserie), «табачная лавка» (bureau de tabac) и, наконец, «restaurant».
Тем более что многие заведения включают в свое название слово «brasserie», вовсе не будучи ими. Строго говоря, brasserie – это место, где пьют пиво (от brassage – пивоварение), но название это многозначное и лукавое. Рассказывают, пиво вошло в широкий обиход после наполеоновских походов и что после Всемирной выставки 1867 года с ним соперничал лишь абсент, привезенный во Францию из алжирских походов. Так или иначе, во множестве появились brasseries к концу XIX века. Когда-то они действительно были пивными, но мало-помалу превратились в некий гибрид кафе и ресторана, чем и остались. Лукавство же в том, что скромное понятие «brasserie» оставили себе для вящего демократического шика заведения, ставшие теперь модными и дорогими: «Липп» – один из самых фешенебельных ресторанов на бульваре Сен-Жермен, пышный ресторан «Гран-Кольбер» между Пале-Руаялем и площадью Виктуар, превосходное «Терминюс Нор» напротив Северного вокзала, прославленное своим буайабесом (густой суп из нескольких сортов рыбы), и многие другие называются по традиции «brasseries». Такие заведения, конечно, совершенно не напоминают ни стилем, ни меню, ни ценой сотни обычных парижских брассри. Но в них своя особая дорогая простота, демократизированный шик, что-то совершенно свое, чего не найдешь в обычных ресторанах.
Для иностранца в диковинку и совершенно естественное во Франции учреждение bureau de tabac – табачная лавка – с непременной своей геральдикой – красной сигарой. Прежде сигара была похожа на настоящую, теперь она чаще всего заменена вполне условным, но все равно узнаваемым красным ромбом (правда, приходилось слышать, что это изображение не сигары, а морковки, которой раньше перекладывали табак, чтобы он не отсыревал!). Узкое помещение, непременная витрина с трубками и зажигалками, маленький прилавок, мозаика сигаретных пачек за спиной продавца; помимо главного товара – лотерейные билеты, билеты на метро и автобус, почтовые марки, телефонные карточки. Кроме кино, это единственное место, где в Париже случаются очереди. И хотя бывают – редко – вполне «автономные» табачные лавочки, обычно же bureau de tabac еще и крошечное – всегда недорогое – кафе. Конечно, после запрета курения в кафе табачные лавочки оказались «в тени» (что за табачная лавка, в которой нельзя курить!), но все же это важнейшая часть парижской жизни[24].
Вот кафе и bureau de tabac: одно из многих. На не слишком известной приезжим улице Дагер, что между площадью Данфер-Рошро и авеню Мэн, неподалеку от кладбища Монпарнас.
Заведение носит лукавое название «Le Nagure» (буквально «некогда, недавно»), которое вступает в некие «аллитеративные» отношения с названием самой улицы: Дагер – Нагер. Случайность, расчет, продуманная игра – не знает никто. Традиционная красная сигара (морковка?) с надписью «Tabac», обшивка темного дерева вокруг дверей из цельного оргстекла – обычное в Париже смешение времен, но внутри – нечто вполне вечное и не поддающееся рациональному восприятию. В кафе больше не курят, сожалеть об этом невозможно, но с этим ушла и эпоха, затуманенная вечным дымком сигарет над стойкой.
Сюда можно прийти «в поисках утраченного времени», но, кажется, при желании здесь (как и во множестве других кафе) нетрудно и упразднить время вовсе. В таких местах сохраняется и живет нечто невидимое и несомненное, независимое от смены мебели или картинок на стене. Уходят или умирают президенты, вздрагивает мир, рушатся империи и режимы, вкусы, кажется, не те, что прежде. Да что режимы – здесь даже мода и та не властна.
Может быть, дело в том, что уже целые поколения французов ощущают себя в кафе столь же естественно, как и дома. Люди здесь – как нигде – у себя (chez-soi). Сколько мне известно, ни на одном языке так не скажешь.
Разумеется, все, что я думаю, вспоминаю, пишу – в большой степени миф, мнимость, причуды мечтательной памяти. Но согластесь, некий маленький мир, способный создавать в сознании подобные сюжеты и картины, – куда более драгоценное и вечное явление, нежели реальная «картинка из жизни», столь же достоверная, сколь и пустая.
А здесь – медлительный, усталый от жизни и вместе с тем бесконечно ею довольный Гаспар, пес неопределенной породы и горделивой осанки. Всеобщий любимец? Нет, это избитая, пустая метафора. Его не то чтобы любят. К нему испытывают почтение и, кажется мне, ласковую признательность, что он тут, что он воплощает неколебимость маленького участка вечности в суетной уходящей жизни. Чудится, люди боятся, что его может не быть. Талисман? Genius loci (дух, гений места) или, как говорят французы, esprit follet (нечто вроде домового?). Входящие оглядываются, негромко зовут: «Гаспар?» – словно опасаясь не застать его «дома».
Гаспар – дома.
Впрочем, однажды он нас не встретил. С замиранием сердца (Гаспар далеко не молод) я спросил, как Гаспар. «Где-то болтается», – ответили мне с суровой нежностью. А еще через год или два после первого знакомства патрон сказал, что Гаспар умер. «Ушел, спрятался, чтобы умереть, как все зверье, в одиночестве». Патрон говорил улыбаясь: о событиях грустных французы часто говорят с улыбкой. Чтобы не навязывать собеседнику свою печаль, не обязывать его к сочувственным словам… Это качество вызывает у человека из России – во всяком случае, у меня – легкое удивление и глубочайшее уважение. Как мы любим обременять всех вокруг своими заботами, серьезным горем, ничтожными огорчениями! Во французском стремлении сохранять улыбку (пусть только для чужих!) в печали – глубочайший такт и уважение к тем, кто рядом.
Как и многие кафе, «Нагер» – на перекрестке, стало быть – два зала под углом друг к другу. С краю – застекленный табачный прилавок, к нему подходят ненадолго. «Bonjour!» – «Monsieur?» – «Un paquet de „Gitanes“ (des „Galuches“, des „Goldos“)» – «Merci». – «Merci». «Bonjour, Madame?» – «Un carnet…» – «Merci». – «Merci а vous». – «Bonne journe». – «Bonne journe а vous». – «Merci»…
Ближе – прилавок – контуар (comptoir), иногда просто «цинк» (zinc): прежде все стойки парижских кафе покрывались цинком и характерный звон рюмок, кружек и монет был музыкой кафе.
Прилавок, стойка – сооружение, кажущееся исконной частью кафе, хотя еще после Первой мировой войны они были в диковинку и превращали обычную брассри в модный bar amricain – «американский бар»: прежде стойки были низкими и табуреты перед ними не ставили. Такой старый прилавок и полки за ним сохранили в музее Монмартра. Какой еще город может превратить стойку кафе в музейный экспонат!
Вечный, как сам Париж, контуар французской брассри или кафе, отполированный локтями поколений, алтарь завсегдатаев, на который проливали перно и забытый ныне абсент или любимый во Франции, но удручающе пахнущий аптекой и лакрицей пастис, вьяндокс – душистый и очень вкусный бульон из кубиков, воспетый Ремарком пряный кальвадос («Un calva!»), обжигающий alcool blanc (крепчайшие, некогда деревенские, прозрачные настойки из слив, груши, малины), гренадин и лимонад, оранжад, перье, мартини и кампари, ром и грог, пунш, арманьяк, виски и джин, станинное, уходящее в прошлое дюбонне, панаше (пиво с лимонадом) и сюз. А главное, конечно же, вино, вино – святой и дешевый нектар Парижа («un ballon de rouge», «un petit blanc»[25]), пиво («un demi») и кофе, кофе, кофе («un crme», «un petit noir», «un serr» (очень густой и крепкий кофе), «une noisette» (с каплей молока) или напиток прохладных дней – кофе, в который плеснули рома или коньяку, – «caf arros»).
Горьковатый аромат контуара дышит вечностью: дымный запах холодного пепла поднимался некогда с пола (окурки бросали на пол, пепельницу на стойку не ставили специально, чтобы запах остывшего табака не тревожил других клиентов), эхо кофейных, винных и пивных ароматов стоит над прилавком, эхо едва уловимое: тряпка в руках патрона или madame de comptoir почти непрерывно протирает стойку. Шипит паровозиком кофейный автомат, в специальных печках жарятся горячие прямоугольные бутерброды с ветчиной, сыром, яйцом – croque-madame (если без яйца – то croque-monsieur), на доске режут для сэндвичей знаменитые парижские батоны – baguettes («снаружи хрустящая корочка, а внутри – блаженство», писал о них Виктор Некрасов). Эти горячие бутерброды, случается, делают и на изумительном хлебе пуалан (pain Poilne) – сероватом, «деревенского» вкуса и ручной выпечки! А к этим горячим бутербродам еще и салат, а то и frites maison![26]
Из застекленных этажерок кокетливо смотрят куски тортов, блюдца с крем-брюле, вазочки с шоколадным муссом – все то, что называется «десерт» и что французы едят в большом количестве, несмотря на вечные разговоры о лишних калориях и избыточном весе.
Всем этим разнообразием едва ли можно удивить ньюйоркца или – по нынешним временам – москвича. Тем паче что города, недавно отведавшие европейских изысков, особенно ревностно выставляют напоказ избыточность ассортимента и пышность названий.
Но здесь-то, в Париже, все эти пастисы, гренадины, бордо, круассаны и даже крутые яйца в металлических, увенчанных солонками этажерках – дома. Даже заморский виски, вошедший в моду в 1950-х годах и заметно теснящий арманьяк или кальвадос, уже имеет свою французскую историю, свои ассоциативные связи, свое поколение, и запах его в парижском кафе вовсе не кажется чужим, как и запах кока-колы, называемой здесь попросту «кокб». Это еще одно свойство Парижа – все делать своим, домашним. Воспоминанием о сумеречном раннем утре остаются на прилавке круассаны и крутые яйца. На рассвете еще не до конца проснувшиеся люди, не садясь – дешевле и быстрее, – макали в кофе с молоком жирно и нежно слоистые, теплые еще круассаны, проглатывали торопливо яйцо. Есть поразительная строка Превера: «Как ужасно для голодного это потрескивание скорлупы, когда чистят яйцо над стойкой». Утреннее кафе молчаливо: начало дня – начало борьбы за выживание, начало работы, которую нельзя сделать плохо – тогда не выиграешь жизнь, нечем будет заплатить за главное в ней – удовольствие, радость, уверенность, покой. Все это тоже часть жизни интимной, почти потаенной, сугубо парижской, почти неведомой веселым путешественникам.
В разговор и звон посуды порой вмешивается грубое, но привычное в парижских кафе щелканье игрального автомата; впрочем, здесь посетители не слишком увлечены механическими играми, и машина надолго погружается в молчание. Чаще покупают талоны лотерей в неизбывной надежде когда-нибудь выиграть. Случается видеть людей, даже супружеские пары, с остановившимся взглядом, за столиком или за прилавком они покупают, не в силах остановиться, все новые пестрые бумажки, и угрюмое возбуждение не покидает их усталые лица…
В глубине дальнего зала (в парижских кафе часты ступеньки, разные уровни, зеркала – все, что увеличивает, усложняет и «веселит» пространство) накрывают столы, туда уже не сядешь prendre un verre – пропустить стаканчик: близится святой час полуденной трапезы – djeuner (завтрака – в русских переводах неточно, но часто его называют «обедом»). Скорее всего, это будет иная публика, чем сейчас у стойки. Кто-то придет специально на завтрак – завсегдатаи, настоящие и самые почитаемые клиенты; но может войти и случайно оказавшийся здесь парижанин, а то и фланер или турист.
Но пока обеденный зал пуст; у стойки по-прежнему искрится неспешная жизнь кафе. Здесь разговор не такой прохладный и летучий, как у табачного прилавка. Расслабленно, даже с некоторой бодрой томностью (вот уж парижская странность!) обмениваются сакраментальным: «Зa va?» – «Зa va!». «Salut а tous!» или «А vos amours!». Уже мелькают имена: «Salut, Bernard!», «Зa va, Luc?». И конечно – «Зa va, Gaspard?» (Пес условно-приветливо раз-другой виляет хвостом.)
Над стойкой течет беседа, за которой не уследить непарижанину. Здесь сгущается знаменитое французское арго, где обыденные слова заменены на естественные в кафе – смешные ил чуть неприличные. Кстати, в арго больше забавных, чем непристойных выражений, – скажем, библейские места называют boutique (лавка), bijoux de famille (фамильные драгоценности), la marchandise (товар). Стойка-контуар – это «пианино»; тряпка, которой ее протирают, – «кашемир»; аперитив – «аперо». Счет – la douloureuse (скорбящая), а если он уж очень велик – «кувалда» (дословно – удар палицей: le coup de masse).
Что же касается главного глагола – «выпить», то он имеет неисчислимое множество синонимов, от привившегося у нас s’en jeter un derrire la cravate (залить за галстук) до диковинных relever une sentinelle (сменить часового) и брутального trangler un perroquet (придушить попугая). А выражение «убить (если угодно – заморить) червячка» (tuer le ver) здесь значит вовсе не перекусить, а выпить крепкий алкоголь натощак.
Как в извечной и неумирающей commedia dell’arte: те же персонажи, те же ситуации. Действующие лица, они же зрители, с потаенной радостью ждут знакомых сюжетов, интонаций, жестов, слов. Уследить за разговором невозможно. Он состоит из междометий, всплесков негодующих фраз-восклицаний, частого упоминания о безобразных налогах, обмена мелкими устало-забавными сплетнями. Главное в разговоре – убежденность, что все мы, и наши разговоры, и вкус вина, и парижская погода, и как сыграли «Пари Сен-Жермен» с «Марселем» – все это по-прежнему занимает в жизни прочное и нетленное место, как пес Гаспар.
Завсегдатаи настолько живописны, что чудится, еще вчера они мелькнули в кадрах знаменитого фильма, причем фильма далеко не нового – шестидесятых-семидесятых годов. Дородный, стареющий, с круглыми мягкими и гладкими щеками блондин с длинными волосами все же напоминает д’Артаньяна. И не эспаньолкой, малозаметной на большом лице, но вальяжностью, странно соединенной с бешеной энергией и опасным весельем, дремлющими в парбх пива и сонной неге хмельной беседы: он уже выпил несколько бокалов пива и принялся за вино – эти напитки в Париже, вообще-то, мешать не принято.
Изможденная женщина с испитым лицом, что называется, нетвердой походкой подходит к стойке. И вопреки ожиданию заказывает не алкоголь, а кофе и вступает в трезвый светский разговор с другими завсегдатаями.
На табурете у стойки сухой, стареющий, моложавый господин, в элегантной, но словно бы пресной, случайной одежде. В Париже это не редкость: видимо, есть хорошие вещи, купленные, быть может, вместе с женой или просто в пору, когда это было интересно, пиджак тщательно подбирался к брюкам, пуловер – к пиджаку. Теперь из шкафа вынуты первые попавшиеся, аккуратные, вероятно вычищенные и выглаженные прислугой или в teinturerie (химчистке) вещи, вынуты и надеты без тщания и любви. Насколько можно расслышать, у него сухая, но литературная речь, его слушают с тем небрежным уважением, которое возникает у стойки кафе, где разговор – скорее вербальный массаж, чем обмен мыслями. Часто даже обмен приветливыми неопределенностями, сто раз слышанными банальностями, которые среди своих обретают трогательную ценность.
Старый, уже сгорбленный, с широким красным лицом постоянно, с удовольствием и знанием дела пьющего человека клиент в темной каскетке, кажется, никогда из кафе не уходит и, в отличие от Гаспара, постоянно остается на виду. На алкоголика совершенно не похож, глаза смотрят из-под козырька спокойно и весело, хотя и несколько сонно, учитывая непрерывный процесс медленного и умеренного, но все же питья. Бокал красного – ballon de rouge – постоянно в руке, количество вина долго почти не уменьшается, потом один глоток – и пуст сосуд.
С этим господином – сюжет особый, немая новелла. Все это могло бы быть случайностью, если бы не повторилось в точности с интервалом в несколько месяцев, причем и время дня было разное, и, разумеется, время года.
В кафе вошел юноша – почти подросток, лет семнадцати, весь в черной коже, сверкающих заклепках и бессмысленно-великолепных застежках-молниях, вошел слегка покачиваясь, как всадник, только что соскочивший с коня. Присутствие могучего японского мотоцикла или, может быть, даже самого «Харли-Дэвидсона», дымящегося от бешеной езды сквозь парижские пробки, угадывалось за дверью благодаря детской надменности байкера. От него так и веяло агрессией, точнее – должно было бы веять.
Он подошел к человеку в каскетке. О чем они говорили, не было слышно, угадывалась лишь веселая и ласковая интонация вошедшего и ворчливо-приветливая – старика. Они разговаривали ласково, но по-мужски иронично, на «ты» (во Франции «ты» совершенно иное, чем в России, в нем больше ласковой доверительности, нежели фамильярности), юноша восторгался: «У тебя новая каскетка» – и восхищенно примерял ее. Потом угостил старика вином, перебросился какими-то словами с завсегдатаями и исчез.
А полгода спустя – старик все в той же каскетке сидел теперь со своим тоже преклонных лет приятелем в другом углу – знакомый молодой человек в коже и заклепках привычно зашел в кафе. Разговор был весел, приветлив и недолог, только на этот раз мотоциклист «поставил» старикам большую бутылку красного, расцеловался с ними и уехал.
Вот, в сущности, и вся история.
(В этой стране, на каждом углу сокрушающейся о падении нравов, юные парижане, почтительные и приветливые со стариками, – обычная и естественная ситуация. У Сен-Жермен-де-Пре две школьницы купили стакан апельсинового сока и застенчиво отдали его неопрятному, старому, видимо больному, клошару; кстати сказать, в юности часто стесняются доброты и естественнее бы совершать такие жесты в одиночку. Контролер автобуса, заметив непорядок в билете дряхлого мсье в берете, сказал ему об этом шепотом, на ухо, чтобы не срамить его перед другими пассажирами.)
Не рискну утверждать, что все люди у стойки и вообще в кафе преисполнены нежности или даже особой приязни друг к другу, но они друг в друге нуждаются, как неумелые пловцы в той очень соленой воде, в которой трудно утонуть. В обычной жизни адвокат не придет в гости к слесарю на пенсии, а преуспевающий коммерсант – к каменщику с соседней стройки. Но контуар кафе – великая школа бытовой демократии для взрослых людей, уже склоняющихся к некоторой терпимости.
Философ чувствует себя особенно хорошо именно в больших городах (что не мешает ему их бранить), потому что здесь ему удобнее, чем где-либо, скрывать незначительность своих средств… <…> …потому что в существующем здесь смешении сословий он находит больше равенства… (Луи-Себастьян Мерсье).
Сейчас никто уже не в силах определить, когда именно французские кафе сделались воплощением этого «бытового равенства», которое сейчас делает их такими привлекательными. Быть может, по мере того, как сближалась светская жизнь аристократии и богемы? Или с развитием вкуса к повседневной демократии, к тому стилю уважительного равенства, который так красит le train-train de la vie journalire (течение повседневной жизни)?
Конечно, и теперь есть места для богатых и для вовсе не богатых. Но у прилавка кафе все равны. Мне не приходилось видеть презрительных взглядов, брезгливого неприятия. Уже с детства французы знают, что судить о качестве вина может – и вполне основательно – каждый, независимо от образования и достатка. И о том, хорош ли окорок или речная рыба, чту обещает ветерок с Ла-Манша и какие шансы у какой футбольной команды. Все ходят к докторам, и многие – к адвокатам; когда бастуют железнодорожники, cheminots, с ними все считаются: во Франции не просто знают, но ощущают, привыкли ощущать, что от людей не так уж мало зависит.
Люди, встречающиеся в таком кафе, могут не знать друг друга по именам, просто помнят друг друга с детства. Возможно, им это лишь мнится, но отблеск памяти поколений, ощущение долгой жизни в одном месте – в одном, как говорят французы, quartier[27] – означает чрезвычайно много. (По-французски quartier – это не только квартал, это и сами жители, население квартала, тиба, клан: свои… «Vous tes du quartier?» – обычный вопрос перед тем, как спросить дорогу у прохожего.) Во Франции разговор у стойки сохраняет легкость, обычно беседуют люди, не знакомые, но и не чужие, а, скажем так, узнающие друг друга и друг к другу привыкшие. Это англичане приходят в пабы, чтобы поговорить с незнакомыми людьми. Французы могут вступить в легкий случайный диалог, обменяться шутками, но самый приятный вариант – быть среди привычных, во всяком случае не чужих, лиц.
Замечу в качестве небольшого отступления: это понятие «свои» странным для приезжего интуитивным способом распространяется на людей явно из другого квартала, но отмеченных печатью – иначе не скажешь – совершенно парижской судьбы. Февральским студеным днем, когда парижане, ежась от непривычного холода, обматываются шарфами, а то и надевают толстые куртки, когда деревья становятся совсем прозрачными, хотя листья с них не облетают, а лишь высыхают и скручиваются, когда каблуки стучат особенно звонко по ледяному асфальту, в небогатое кафе на набережной Монтебелло вошел высокий, грузный человек, в синем костюме отличного покроя, с погасшей трубкой в руке. Он неторопливо выпил свой кофе у стойки и, раскуривая трубку, вышел на ветреную пустую – было воскресенье – набережную. Он не сел в машину, что при его несомненной респектабельности и пронизывающем ветре было бы так естественно; пошел пешком, важный и одинокий, его шаги долго были еще слышны, и почему-то грустно было думать о нем, судя по всему благополучном, здоровом и нестаром человеке. Может быть, потому, что эта одинокая прогулка так не вязалась с его видимым достатком и спокойной, несуетной уверенностью в себе.
Так вот, этот человек сразу был воспринят в кафе своим, хотя никто с ним не поздоровался – лишь обычное «Bonjour, Monsieur, merci, Monsieur, au revoir» прозвучало у контуара. Он был свой в Париже, это ощущалось сразу, и объяснить это немыслимо, невозможно, хотя и для меня, иностранца, это тоже было очевидным. Может быть, таинственные коды интонаций и жестов, а может, и одиночество вкупе со спокойной, усталой уверенностью – тоже пропуск в пространство Парижа, как в собственную среду обитания, в свое chez-soi?
В Париже много одиноких – вовсе не бедных и не несчастных людей. Они довольствуются собственным обществом, или, во всяком случае, умеют вести себя именно так, что подобное ощущение возникает у окружающих.
Не редкость увидеть, как в хороший, недешевый ресторан приходит господин или дама. В полном одиночестве. И спокойно, с наслаждением пирует. Это может быть и «плато» устриц, что смаковал стареющий, в поношенном, но хорошего покроя костюме человек, просматривая невнимательно принесенные газеты, не забывая ни о еде, ни о принесенном в графинчике (pichet) шабли, или бокал красного, а потом десерт, который смаковала скромная старушка в переполненном богатой публикой шикарном брассри.
Кафе для многих – уникальная возможность побыть среди людей, допуская их, так сказать, лишь в гостиную своей души. И самим побывать в гостях – легко, неутомительно, изящно, не уставая и никого не утомляя.
Завтракать в кафе «Нагер» пришла пожилая дама – в голубоватых, чуть завитых буклях, скорее полная, но сохранившая тяжеловатое изящество, дама, исполненная настойчивой и несколько томной значительности. Всего этого, впрочем, было чуть-чуть. Главным было в ней усталое и очень естественное достоинство. На старушек – прелестных парижских старушек coccinelles — она не походила вовсе, в ней был еще слишком большой запас земной полнокровной жизни.
С ней многие здоровались, но никто не назвал ее по имени, только «Madame» – так часто обращаются к знакомым, друг другу не представленным: в кафе, похоже, вполне довольствуются отдаленным приятельством; вероятно, имена навязывают лишнее сближение.
Она заказала объемистый pichet красного и в ожидании entre (закуски) курила длинные дорогие сигареты, попивала свое бордо. Конечно же, она не ела с безразличной жадностью проголодавшегося человека. Но и нельзя сказать, что завтрак она смаковала, да и еда была хоть и вкусная, но для Парижа не самая изысканная: большой эскалоп по-нормандски (жаркое из индюшки в белом соусе со сметаной и шампиньонами); просто проживала мгновения обыденного блаженства, умело получая настоящее, привычное удовольствие – состояние типично французское:
Для французов действительно ничего не важно кроме повседневной жизни и земли что им ее дает. <…> Все что делает человек каждый день внушительно и важно (Гертруда Стайн. Париж Франция[28]).
Эта фраза Стайн, быть может самого проницательного из размышлявших о Париже писателей, – едва ли не главный ключ к пониманию основ французской жизни.
Всякое обобщение приблизительно, тем более сделанное приезжим, да и любовь к Парижу и Франции не способствует беспристрастности. И чем больше бываю я здесь, тем очевиднее становится: многое так и остается скрытым, вероятно навсегда. Но все же нельзя любить, не стараясь понять.
Можно сказать, что французы умеют жить, смаковать (savourer) жизнь. Но это далеко не все и не вполне точно. Правильнее – они, если можно так выразиться, существуют, не теряя ощущения жизни, более других «осязают» время как драгоценную субстанцию, как вещество бытия, дороже которого нет ничего.
Я написал, что «контуар дышит вечностью». И по отношению к парижскому кафе и вообще бытию парижан слово «вечность» не такое уж пафосное. Вечность здесь обыденна, растворена в подробностях бытия.
- Paris n’a de beaut qu’en son histoire,
- Mais cette histoire est belle tellement![29]
Мысль Верлена и точна, и мудра, и элегантна, но до конца согласиться с ней трудно. История проникает здесь и в нынешнюю повседневность. В ней – как бы странно ни звучало это суждение – основа, некая константа, навсегда пронизавшая повседневность.
Скажем, в романах Сименона, написаны они в сороковые или шестидесятые годы, привычные мелочи жизни осязаемы, материальны до иллюзии. Натуралистичны, имеют вес и запах. Но угадать по ним, к какому именно десятилетию относится рассказ, происходит действие до войны или много после, порой просто невозможно.
Это те одухотворенные молекулы жизни, что не менялись в Париже и не меняются до сих пор. Названия plats du jour (дежурных блюд, написанных на грифельной доске), среди которых чаще всего случаются oeufs durs mayonnaise (крутые яйца под майонезом), salade de crudits (салат из сырых овощей), filets de hareng fum (копченая сельдь, обычно с теплой картошкой – на удивление многих русских, полагающих селедку исключительно национальным достоянием), bavette (тонкий ломоть мяса), confit de canard (жаркое из маринованной утки), tartare de boeuf (рубленая сырая говядина со специями), pav de saumon (стейк из семги), te d’agneau (жаркое из ягненка), suprme de volaille (изысканно приготовленный кусок курицы), десерты; запах вина, реплики у стойки, движения протирающего столик официанта, сакраментальное «Un caf, un!», свист кофейного автомата, знакомый по мопассановским страницам гренадин, шуршание газет – тысячи именно вечных звеньев, соединяющих время вопреки любым переменам, войнам и революциям. Здесь подробности бытия более принадлежат вечности, чем даже катаклизмы истории.
Конечно же, не в меню дело. Но, конечно же, и в нем тоже.
Помню, давно, еще в 1972-м, мое удивление, когда милая хозяйка кафе отказалась продать только что испеченный торт (весь, целиком) посетителю, восхитившемуся его вкусом. «Нет, мсье, простите, это невозможно. Сейчас придут мои постоянные посетители (habitus). Я же не могу оставить их без их любимого десерта».
«Прекрасная история» осталась в этих молекулах вечности навсегда. О них не говорят, как говорят о новостях, но именно в них – основа бытия.
Мало кто на планете не любит жизнь, но фрнцуз любит ее, что называется, со знанием дела. Далеко не все честолюбивы, как Растиньяк или д’Артаньян, но мало кто во Франции чувствует себя неудачником, занимая вполне скромное положение в обществе. Я не встречал (не значит, что их нет, разумеется!) людей, стесняющихся своей профессии. Молодой официант в скромном ресторанчике, удививший нас довольно беглой речью на нескольких языках, пожаловался, что так устает за день, что у него не хватает времени и сил на совершенствование своих познаний: «Работа в ресторане – чудовищно тяжелая, успеваю только поцеловать детей, принять душ и – засыпаю! Но как я его люблю – ресторанное дело! Какое отличное ремесло!»
Во Франции едва ли можно встретить два хорошо знакомых нам явления – барство и подобострастие. Конечно, и это встречается – без этого не обходится, но такие сюжеты редки и вызывают брезгливое удивление. Однажды знакомый американец (кстати, недурно говоривший по-французски и, вообще-то, знавший Париж), выпив в дорогом ресторане лишнего, сказал молодому и предупредительному официанту: «Если вы подберете моей жене десерт по вкусу, получите хорошие чаевые!»
Лицо официанта окаменело. Приветливое внимание сменилось ледяной и снисходительной вежливостью, даже неизбежное «мерси, мсье» звучало так, что клиент понимал, насколько нетерпима и гадка ситуация, в которую он попал по собственной вине.
Разумеется, безумные чаевые нуворишей развращают многих, но в знакомых мне парижских брассри, ресторанах и кафе царит все же спокойное равенство, как, впрочем, и повсюду. И речь не о «социальных контрастах», не о богатых и бедных. О принятом стиле общения самых разных людей.
Думаю, в основе проживания жизни, умения чувствовать вкус и аромат мгновения немалое место занимает это умение ценить в жизни все – от курения баснословно дорогой сигары до глотка дешевого пива у стойки дешевого кафе.
Возвращаясь к завтракавшей в «Нагер» даме, надо заметить, что, несмотря на откровенный аппетит и удовольствие от еды, на каждом блюде она оставляла по кусочку: старомодная, милая церемонность маленькой буржуазки, сохраняемая из поколения в поколение в семьях, имеющих свои трогательно-горделивые представления о хорошем тоне (восходящем, как говорят, к боязни показаться голодными и неимущими). Интеллектуал, не думающий о такого рода ритуалах, «снобинар», расплачивающийся золотой карточкой в роскошном ресторане «Гран-Вефур», с простодушным удовольствием подбирающие хлебной коркой соус бешамель, в точности как и не знающий застольного этикета каменщик, – все они, несомненно, вызвали бы ее надменное порицание.
Окончив завтрак, она снова закурила – уже по-иному – новую сигарету, как курят именно после еды: глубокими, все более редкими и медленными затяжками. Перед ее столиком остановился господин, столь же скромно-респектабельный. Обращаясь к ней, как и все, не по имени, а лишь «Madame», он расспрашивал, почему не было ее так долго видно, а она с некоторой важностью, но и со светской небрежностью рассказывала, что ходила слушать «Призрак Оперы», и не на гастрольный спектакль или тем более не просто к знакомым в записи, а совершила путешествие в Лондон, как видно, специально ради этого представления, чем вызвала почтительное восхищение собеседника.
Она сидела долго, скорее всего, это был лучший час, так сказать, «праздник дня», до и после которого – одиночество, нужда, беспокойство о здоровье, пустой вечер в старой квартире. Конечно, все могло быть далеко от подобной литературщины, – возможно, дама просто сбежала от слишком многочисленных родственников или сейчас вернется в собственную лавку. Но тем и удивителен Париж: каждый, на кого внимательно смотришь, становится источником новелл и даже мифов, без всяких усилий рождающихся в воображении.
В «Нагер» она, как стало потом очевидно, завтракала постоянно. Видимо, в самом деле то был пик ее дня.
На улице Дагер несколько кафе – и поскромнее, и побогаче, но они нередко пустуют. «Нагер» – никогда: верный знак, что это кафе стало постоянным центром, клубом quartier. Как происходят такие вещи – одна из нераскрываемых тайн Парижа.
Вероятно, и сюда не так уж редко заходят «чужие», не иностранцы, но из других кварталов – сказывается близость Монпарнаса и популярность самой улицы. Но в более отдаленных кварталах, где-нибудь близ Гамбетта или Ла-Виллет, незнакомых, а тем более иностранцев (их узнают, даже если те молчат), воспринимают как гостей, пришедших без приглашения. И не то чтобы невежливо или неприветливо, но с растерянной настороженностью и искренне удивляются, когда эти чужие говорят на их языке, спрашивают бокал бордо и выпивают его у стойки, – словом, не слишком владея настоящими парижскими кодами, все же стараются их не нарушать. Разве что самую малость.
Эти крохотные и на вид даже бедные кафе – в них-то и живут дэхи старого Парижа. Понятие «бедные» не касается хозяев, содержатели кафе – богатые люди, получающие с самого дешевого заказа – чашечки эспрессо – чуть ли не восемьдесят процентов прибыли, речь о стиле заведения, где интерьер скромен, почти убог, а цены низки, что вовсе не исключает большого дохода. Это кафе для бедных кварталов и скромных людей, но и вино, и пиво, и ветчина, и аперитивы ничуть не хуже, чем в дорогих брассри, а порой, по мнению знатоков, вино может оказаться и лучше: le petit vin – «маленькое», то есть сравнительно простое, взятое из погреба хозяина, может быть не слишком выдержанное, но отличного вкуса. А обслуживание – более теплое, домашнее, и атмосфера «намоленная», напитанная чувствами, мыслями и разговорами многих поколений, их усталостью, любовью, тревогами и воспоминаниями. Какую фаршированную картошку за совершенно мизерную по парижским меркам цену (и с какой улыбкой поданную!) удалось нам отведать в кафе на тихой, почти провинциальной и вместе совершенно парижской (такое здесь бывает!) площади Ренн-э-Данюб, что на полкилометра восточнее парка Бют-Шомон в девятнадцатом округе!..
Что и говорить, парижское кафе сродни английскому газону, который надо выращивать нескольким поколениям: только время делает его совершенным.
Как в песне Брассанса «Бистро»:
- Dans un coin pourri
- Du pauvre Paris,
- Sur une place,
- Une espce de fe,
- D’un vieux bouge, a fait
- Un palace[30].
А совсем уже крохотное кафе (скорее, по духу, именно бистро) «La Bonbonnire» («Бонбоньерка») на улице Сен-Жак, где даже случайного посетителя угощали кусочком только что испеченного quiche lorraine (открытый пирог с луком, ветчиной и проч.), а в следующий ваш приход здоровались как с завсегдатаем; где готовили в качестве отдельного блюда изысканнейший gratin dauphinois – запеченный с сыром конте и сливками картофель, который обычно подают лишь в качестве гарнира, и то в немногих брассри; где жена патрона, очаровательная Одетт, родом из Оверни, излучающая это вечное французское la vie est belle, вопреки всем заботам и вечной тяжелой усталости, весело и с искренней радостью целовала знакомых клиентов в обе щеки… Когда Одетт прочла во французском издании этой книжки написанные о ней строчки, у нас был целый пир – шампанское, объятия, улыбки – маленький праздник.
В этом кафе всегда почти одни и те же люди, словно семья, но чужими не оставались и случайные гости – парижское чудо, еще одно chez-soi, кусочек тепла, навсегда поселившийся в сердце. Как у Брассанса (кстати сказать, именно в «Песенке для овернца»):
- Et dans mon me il brle encore
- A la manire d’un feu de joie[31].
Жаль, что и это кафе ушло в прошлое. Как говорят, продав заведение, хозяева уехали в провинцию – наверное, в свою Овернь: обычный и счастливый финал жизни удачливых парижских рестораторов.
Как было сказано, «душа кафе убежала в бистро». «Войти в бистро – это прийти к людям. И поведение в бистро определяется тем, что гость имеет там не только права, но и оязанности. Конечно, клиент – король, но в настоящем бистро нет клиентов, скорее сотрапезники, которые участвуют в успехе заведения вместе с хозяевами и служащими. Стойка бара – это человеческие отношения. В двойном смысле: клиент, как и тот, кто за стойкой, участвует в работе заведения. И наконец, никогда не ждут от патрона непременной любезности. Он – у себя (chez-soi). И у него есть право на смену настроения», – писал в своей книжке о старых парижских бистро известный журналист Франсуа Томазо.
В рассуждении старых кафе Левому берегу повезло больше.
«Дё Маго» («Les Deux Magots»[32]) на бульваре Сен-Жермен, наверное, самое известное среди «больших кафе» Левого берега. Ресторан «Липп», чей интерьер декорирован отцом знаменитого Леон-Поля Фарга, автора книги «Парижский прохожий» («Le Piton de Paris»), стал вполне «снобинарским» рестораном (хотя сохранил вывеску «брассри»), особенно в пору правления любившего это заведение Миттерана, хотя еще сравнительно недавно имел репутацию интеллектуального кафе.
«Дё Маго» – место тоже шикарное и очень дорогое, горячий шоколад в нем почитается лучшим в Париже. Здесь все же скорее платят не за роскошь, даже не за качество действительно превосходного кофе, платят за память, за то, что французы называют ambiance – атмосферу, настроение, стиль общения. И, как говорят в Париже, платят «за шаги гарсона» (путь, проделываемый официантом от стойки до столика), а какие тут гарсоны и как они ходят! В белых фартуках до пят поверх жилетов, как сто лет назад, они церемонно и сухо вежливы, их жесты отточены веками, и стоит побывать здесь хотя бы для того, чтобы увидеть, как такой господин с перекинутой через руку салфеткой ставит – бесшумно, легко и точно – на ваш столик никелированный кофейник, молочник и чашку. (Добавлю, кстати: обращение «гарсон», широко употреблявшееся еще сто лет назад, ныне совершенно неприлично, только – «мсье». Слово «гарсон» допустимо лишь в третьем лице, главным образом для обозначения профессии.)
Не так все просто. На углу Монпарнасского бульвара и бульвара Обсерватории рядом с рюдовской статуей маршала Нея, еще более знаменитое кафе – «Клозри де Лила» («La Closerie des Lilas» – «Сиреневый хуторок»), некогда «пересадочная станция» между Монмартром и Монпарнасом.
Кафе получило имя расположенного напротив популярнейшего еще в начале XIX века танцевального павильона, окруженного кустами сирени. Прежде здесь была винная лавка, гостиница, бильярдные столы, еще в 1870-е годы сюда заходили Ренуар, Базиль и их друзья. В 1902-м здание перестроили, даже провели электричество. Кафе подтвердило былую репутацию и обрело новый успех. Политический и литературный Париж стал здесь бывать еще ранее художественного. Фор получил здесь свой титул «Принц поэтов». По вторникам в кафе «Клозри де Лила» собирались литераторы и художники, среди которых непременно присутствовали и многие обитатели Монмартра, приходившие сюда пешком от самой «Бато-Лавуар»…
После войны в «Клозри де Лила» недолгое лихорадочное оживление странно сочеталось с атмосферой угасания, и Фор писал там элегическое сочинение «Кафе теней». Последняя вспышка интеллектуальной истории «Клозри» – собрания сюрреалистов во главе с Андре Бретоном. Теперь же это фешенебельный и дорогой ресторан с превосходной кухней, в баре которого доверчивые посетители восторженно разглядывают металлические таблички, обозначающие места, где некогда сиживали прославленные литераторы и художники. Почему кафе, имеющее столь давнюю историю, не вызывает такого пиетета, как «Дё Маго»? Ответить на этот вопрос – значит решить еще одну из неразрешимых загадок Парижа. Может быть, дело в том, что «Дё Маго» и после Второй мировой войны – до шестидесятых – переживало звездные часы, что оно продолжает свою жизнь, а не претендует на изображение былой жизни, что здесь сохранилась атмосфера хоть и сильно вздорожавшего, но интеллектуального кафе? Все солидно, без пошлого запаха богатства, темные деревянные панели на стенах, фотографии знаменитостей, здесь бывавших. Удобно, просто, напитано памятью. За это тоже стоит заплатить.
Шестидесятые, знаменитые «Les annes 60»! Они мерцают в памяти и воображении черно-белыми кадрами фильмов Годара и Трюффо, режиссеров «Новой волны», черным платьем Жюльет Греко, бывшей в ту пору в зените славы. Тогда в «Дё Маго» еще приходили, чтобы взглянуть на Сартра или Симону де Бовуар; кофе тогда готовился не в автомате эспрессо, а в большом кипятильнике с фильтром – перколяторе, или просто «перко», юная Брижит Бардо снялась обнаженной, появлялись первые французские хиппи, а в моду входили огромные американские машины с никелированными накладками и огромными стабилизаторами. Но и тогда, в шестидесятые, вспоминали это же кафе начала века, ведь в двадцатые здесь собирались сюрреалисты, бывали Пикассо, Сент-Экзюпери; память не прерывалась, – быть может, дело в этом (и отцы нынешних сорокалетних здесь бывали, ведь сколько поколений французов не отделяет своих дней и трудов от кафе!). А скорее всего, в том, что когда-то я и сам побывал в этом кафе, и было тогда, независимо ни от чего, – хорошо.
И сейчас в «Дё Маго» заходят люди шестидесятых. Старый господин, одетый с той неопределенностью, в которой смешались и привычка к элегантности, и небрежение к ней, в костюме сильно поношенном, недорогом, мятом и все же немножечко шикарном, завтракал необычно рано – едва наступил полдень. Он поздоровался за руку с гарсоном – при этом никакой фамильярности ни с одной стороны проявлено не было, скорее, некоторое равнодушие к приятному и неизбежному ритуалу, обыденные «Как поживаете?» прозвучали корректно, с той прохладной учтивостью, что отличает общение людей в кафе.
Ему принесли самое дешевое в этом дорогом кафе блюдо – салат из помидоров с итальянским сыром моцарелла, бокал красного вина. Он ел аккуратно, со старательной неторопливостью, как едят очень голодные люди, стыдясь показать, что голодны.
Время от времени он брал с тарелки кусочки белого, влажного, со следами помидорного сока сыра, заворачивал их в бумажные салфетки и убирал в сумку. Гарсоны, самые пожилые (молодые в этом кафе редкость), здоровались со старым господином с той же почтительной отрешенностью, называя его только «Monsieur», без имени, в этом слышалась какая-то особая, строгая вежливость. Возможно, он вызывал у них чувство неловкости и сострадания, возможно, не вызывал и вовсе никаких чувств, просто механически соблюдался некий церемониал.
А для клиента, несомненно, этот завтрак был способом продолжения жизни в той, уже мнящейся, ушедшей среде, в которой когда-то он был грандом и героем времени, быть может, впрочем, и счастливым созерцателем, но все же соучастником. Слова Анни Жирардо: «Я живу, чтобы помнить» – это и о таких, как он. И теперь, пряча куски сыра, чтобы доесть их дома (или угостить собаку, кто знает?), старый мсье все же оставался у «Дё Маго»: держался, читал газету, по-старинному прикрепленную к палке. Был chez-soi. Хотя на деньги, потраченные на салат с бокалом бордо в этом кафе, можно было бы недурно и позавтракать и пообедать, купив в магазине продукты или даже дорогие отличные полуфабрикаты, которыми славится Франция.
Но полтора часа в кафе «Дё Маго» нельзя оценить счетом, поданным на серебряном подносе седым гарсоном в белом фартуке до пят, надетом на смокинг или черный жилет.
Каждое кафе живет в своих особых ритмах, соотнесенных с ритмом квартала и города, и завсегдатаи чувствуют его, что называется, биологически. Ирландский писатель, друг и единомышленник импрессионистов Джордж Мур вспоминал в своей книге «Исповедь молодого человека»:
Я не посещал ни Оксфорд, ни Кембридж, зато усердно посещал Новые Афины <…>. Это кафе на площади Пигаль. Ах! Утреннее безделье и долгие вечера, когда наша жизнь чудилась летними грезами, гризайлью лунного света на площади, когда нам случалось оставаться на тротуаре, в то время как железные шторы кафе с лязгом опускались у нас за спиною, сожалея о том, что нам приходится расставаться, азмышляя о том, какие аргументы мы упустили и как могли бы мы лучше защитить свои мнения. <…> С какой поразительной, почти невероятной отчетливостью я еще вижу и слышу, вижу белый фасад кафе, белый угол и эти дома, надвигающиеся между улицами на площадь… <…> Я могу слышать, как скрипит по песку (в XIX веке полы в кафе часто посыпали песком или опилками) стеклянная дверь, когда я открываю ее. Я могу вспомнить запах каждого часа: утром – яиц, скворчащих на масле, едкий аромат сигарет, кофе и скверного коньяка; в пять часов пополудни – благоухание абсента и вслед за тем дымящегося супа из кухни; и по мере приближения вечера – смешанные запахи табака, кофе и светлого пива. Перегородка отделяет застекленную террасу от главного зала кафе. Там, как всегда, мраморные столы, вокруг которых мы сидели и спорили до двух часов утра.
Час завтрака (djeuner)[33] везде примерно одинаков – от нашего «Нагер» до «Кафе де ла Пэ», около которого ливрейные служители, «вуатюрье», за десять евро паркуют машины богатых клиентов: от полудня до третьего часа. Много народу, официанты не ходят, а бегают, сталкиваясь, но улыбаясь, неся по нескольку блюд в каждой руке и нередко счет в зубах; plat du jour повсюду в центре внимания – его всегда подают быстро, оно свежее и, уж конечно, вкусное, с плиты. Полное кафе днем – это всегда весело: много людей (в одном месте и в одно время) получают удовольствие! Едва приняв заказ, гарсон кричит коллеге за стойкой: «Un caf! Un!» или «Deux crmes! Deux!» – особенно отчетливо и громко повторяя эти «один» или «два», чтобы потом быстрее взять их с контуара. Потрескивание машинок для банковских карт (во Франции, независимо от цвета, их называют сartes bleues, в память первых синих, редких еще карт), звон монет, шелест денег и ресторанных чеков – талонов, которые выдают служащим в конторах (нечто вроде денег, годящихся только на еду).
Скупость французов – расхожий миф.
Просто в лице парижанина, бросающего первый взгляд на поданный счет, на миг проглядывает вековая горечь человека, не любящего расставаться с деньгами. Не более чем эмоциональный церемониал, привычка чувств: ведь каждый заранее знает, что почем.
Француз не более жаден и не более щедр, чем немец, испанец или русский, только проявляется это в иной, чем в других цивилизациях, системе. Проблемы просто нет: «я вас приглашаю» – платит пригласивший, «зайдем в кафе» – каждый платит за себя, и обидам не остается места. Все просто, без приблизительных понятий о приличии и вялых, не всегда искренних фраз: «Ну что вы, я заплачу!»
Французы – об этом мне не раз рассказывали русские парижане, вовсе не склонные к безоговорочному приятию Франции, – если становятся друзьями, то надежными, настоящими. Умеют помочь – сердечно и серьезно. Но и к деньгам относятся серьезно. Мало кому они достаются здесь легко.
Но, конечно же, у стойки таких кафе, как «Нагер», возникают непредсказуемо ласковые и романтические обмены угощениями и тостами, но тут ведь все свои – chez-soi.
После завтрака наступает пауза, кто-то заходит prendre un verre, студентка, забыв о переставшем уже пузыриться перье, пишет усердно и сосредоточенно, господин в твидовом пиджаке с кожаными налокотниками читает толстый философский трактат, отпивая изредка пива. Замедляется, тянется неторопливо жизнь брассри. А нынче, разумеется, сидят люди, а то и нежные, трепетные пары, устремив взгляды в мерцающие дисплеи смартфонов… Впрочем, «к чему бесплодно спорить с веком…».
Я прошел мимо лицея Генриха IV, мимо старинной церкви Сент-Этьен-дю-Мон, пересек открытую всем ветрам площадь Пантеона, ища укрытия, свернул направо, вышел на подветренную сторону бульвара Сен-Мишель и, пройдя мимо Клюни и бульвара Сен-Жермен, добрался до знакомого мне кафе на площади Сен-Мишель.
Это было приятное кафе – теплое и чистое и уютное. Я повесил свой старый дождевик на вешалку, чтобы он просох, положил видавшую виды фетровую шляпу на полку поверх вешалки и заказал caf au lait (Эрнест Хемингуэй. Праздник, который всегда с тобой).
Только тот, кому посчастливилось подробно и серьезно и достаточно долго побыть в Париже, грустить в нем, радоваться и размышлять, поймет смысл и важность этих простых строчек!
Такие кафе и сейчас открыты на площади Сен-Мишель, и путь к ним писателя от его дома на улице Кардинала Лемуана легко прослеживается в Париже.
В это время можно расслабленно, с наслаждением предаваться чисто парижскому занятию – наблюдать людей, проходящих мимо кафе. Сидящий за столиком «купил время», паузу, покой и, глядя со стороны на других, ощущает остро свое блаженство, власть над временем. Он может regarder passer les oies, дословно: «смотреть, как проходят гуси» – выражение, которое на русский язык перевести едва ли возможно, попросту говоря – разглядывать немножко смешных со стороны людей, не обладающих этим кратким блаженством chez-soi в пусть незнакомом кафе. Ведь через несколько минут и другие будут наблюдать за тобой из другого брассри. Потом наступает час аперитива, когда-то – священный «час абсента» перед обедом, столь щепетильно соблюдаемый героями Мопассана и Пруста.
- Comme berce en un hamac
- La pense oscille et tournoie,
- А cette heure o tout estomac
- Dans un flot d’absinth se noie.
Картина Эдгара Дега 1876 года «В кафе (Абсент)» – живописный памятник этому парижскому священнодействию. Время растянуто, кажется остановившимся и вместе густым, текучим, иррациональным, неуловимым.
«…Он сказал одному пейзажисту: „Вы ищете жизнь естественную, а я – мнимую“», – вспоминал о Дега Джордж Мур, тот самый, что оставил описание кафе «Новые Афины», где и происходит действие картины. Кафе, ставшее после Франко-прусской войны местом встреч импрессионистов, превратилось здесь в почти зловещую декорацию. Почти, потому что Дега настойчиво и последовательно сохраняет дистанцию между изображением и эмоцией: зритель волен сам угадать в синкопах теней и жестком зигзаге, образованном мраморными крышками столиков, в млечно-фосфоресцирующем перламутре уже замутненного водой абсента – дурманного алкоголя, столь модного в конце столетия, в неподвижности будто дремлющих людей некую печаль, событие, драму. Персонажи реальны – гравер Дебутен и актриса Элен Андре. Вспоминая об этой картине, актриса говорила, что Дега писал ее «рядом с Дебутеном перед абсентом – невинной отравой – в опрокинутом мире».
«Опьянение, которое он [абсент] приносит, ничем не напоминает то, которое всем известно. Ни тяжелое от пива, ни дикое – от водки, ни веселое – от вина… Нет! Оно сразу же лишает вас ног, с первого присеста, то есть с первой рюмки. Оно выращивает крылья огромного размаха у вас за спиной, и вы отправляетесь в край, где нет ни границ, ни горизонтов, но нет также ни поэзии, ни солнца. Вам, как всем великим мечтателям, чудится – вы улетаете в бесконечность, а вы лишь устремляетесь к хаосу» (Альфред Дельво).
Классическая церемония питья абсента предполагала предварительное смешивание его с водой, которая часто наливалась в бокал сквозь кусочек сахара, в результате чего образовывался опалово-белый, почти непрозрачный напиток. Впрочем, это в прошлом, абсент почитается наркотиком и запрещен, но дух его (так, во всяком случае, мне кажется) еще прячется в углах старых кафе, вызывая в памяти и «Любительницу абсента» Пикассо, и строки Бодлера:
- В дебрях старых столиц, на панелях, бульварах,
- Где во всем, даже в мерзком, есть некий магнит,
- Мир прелестных существ, одиноких и старых,
- Любопытство мое роковое манит[35].
Теперь в кафе нет мраморных столиков, исчез, запрещен абсент, да и газеты на палках – редкость, а вот печаль вечеров осталась. Вечерняя трапеза в брассри (если только это не сохраивший название «брассри» модный ресторан) – сюжет не такой уж частый. Разумеется, веселы и полны знаменитые кафе Монпарнаса: «Le bistro du Dme» – чаще просто «Дом», «Куполь», «Ротонда», «Селект»[36], но это свет и блеск Парижа, это chez-soi светских львов, актеров, богатых туристов, которым это самое chez-soi просто не нужно. А здесь речь о тех бесчисленных кафе, что именно своей всеобщностью, известностью лишь завсегдатаям готовы дать приют любому.
Они редко бывают многолюдны по вечерам, лишь в хорошую погоду, когда столики вынесены на тротуар, а в прохладные сумеречные часы брассри, случается, и вовсе безлюдны.
Свет в них тогда не слишком ярок, несколько посетителей сидят обычно поодаль друг от друга и, в отличие от полуденного завтрака, кажутся очень разными: несколько молодых людей романтически-опасного вида (чаще всего они-то и оказываются самыми приветливыми и вежливыми), немолодая пара, похожая на сумасшедшую старуха в странной шляпке, с погасшей сигаретой в ярко накрашенных морщинистых губах, две-три совсем юные барышни – перед ними на столике, как правило, кока-кола, минеральная вода, до запрета курения – и неизменная пачка «Marlboro Lights», – весело стрекочущие на этом странном молодежном языке, в котором несомненная, даже иностранцу заметная вульгарность настояна на вековом шике парижской речи.
Самое, наверное, удивительное в вечерних парижских кафе, где в темных углах (казалось бы!) должна «таиться печаль», – это люди, которые находят несказанное удовольствие в неторопливо вкушаемом обеде, вкушаемом не просто в одиночестве, но даже почти в пустоте. Дама, приходившая в светлый полдень завтракать в кафе «Нагер», несомненно, искала общества, того, что называется «одиночество в толпе», ей хотелось быть среди людей.
Пожилой господин со старомодным портфелем, скорее всего университетский профессор (дело было в брассри на площади Сорбонны), сидевший в пустой глубине просторного зала, вовсе не казался одиноким, несчастным, даже просто невеселым. Он просто устал, кончался день. Он с видимым даже издали удовольствием сделал заказ и в ожидании его перелистывал какие-то бумаги, без прилежания или раздражения.
Ему принесли «стэк фрит» – большой, даже несколько свешивающийся с тарелки кусок мяса с жареной картошкой, рутинное и вкусное блюдо, бокал бордо, нарезанный багет в плетеной корзинке, завернутые в красную бумажную салфетку нож и вилку. О нет, не случается в таких брассри изысканной сервировки, дорогой посуды, и скатерти здесь из бумаги и бокалы – простого стекла. Но есть вековой уют, легкое тепло привычной приветливости, то, что не купишь ни за какие деньги в новомодном дорогом ресторане.
Мясо, видимо, удалось (кухня в брассри не всегда безупречна), прожарилось именно так, как он хотел (это для француза очень важно, чтобы именно а point, или saignant, или bleu – в меру, с кровью, полусырое), аппетит был отменным, вино – недурным. Ему не было дела до окружающих, он устало и с удовольствием смаковал обыденность, но Париж обступал его, поддерживая вечный вкус к жизни, напоминая о себе столетиями напитанным комфортом, этим самым неизъяснимым chez-soi, этой уверенностью в ценности каждого дня. И слова Гертруды Стайн: «Единственно важно что происходит сегодня» – опять вспоминались во всей своей ошеломительной точности.
Если и нельзя разгадать великую тайну кафе, то, вероятно, можно найти хоть какие-то предположения, открывающие путь к пониманию.
Одно из них в том, что французы, и тем более парижане, входят в кафе совершенно не так и не ради того, как и для чего все остальные люди на земле. Не говорю о ресторане, вечере, обеде – это всегда немножко праздник (не только плоти, но и души, практически и того и другого вместе, на что французы великие мастера).
Но это – еда.
А кафе – это и неведомое нефранцузам пространство, где человек у себя и где-то еще одновременно, где он словно в гостях, куда сам себя пригласил, и где хозяева – его партнеры в этой диковинной и прельстительной, веками освященной игре, давно ставшей частью жизни.
Загадкой остается приверженность парижан ко всякого рода фастфудам, начиная с вездесущих «МакДо». Они не так уж дешевы, да и еда не слишком вкусна. Не говорю о молодых: быстро, просто, по-американски – в этом есть свой стиль. Но пожилые дамы, задумчиво и подолгу беседующие друг с другом перед картонными стаканчиками, или одинокие небедные люди, коротающие время в этом зале, пропахшем бигмаками? Как это странно! А может быть, дело в том, что здесь человек выключен вовсе из общения – даже с официантом?
Впрочем, и в брассри, и в кафе все меньше остается пожилых официантов, помнящих стиль ушедших времен, и тот, кому повезет на такую встречу, может сполна оценить их учтивую и приветливую важность, платиновую эффектную седину, разношенные (в новых не послужишь в кафе!), но яростно начищенные туфли, хрусткую снежность с непередаваемым шиком завернутых манжет и воротничка, черный галстук-бабочку (papillon), черный жилет, белый фартук, поколениями отточенную быстроту кажущихся медлительными движений и это не поддающееся описанию чувство собственного достоинства, уважения к клиенту и собственному ремеслу, ощущение мудрого приятия жизни, своего естественного бытования в этом городе.
Что может быть интересного в многолетнем и ежечасном протирании столиков, беготне с подносом, подаче кофе и пива, созерцании жующих, глотающих, пьющих людей! Как не превращаются парижские седеющие гарсоны в раздраженных и усталых мизантропов, как не осточертевает им изо дня в день повторять по сто раз одни и те же движения! Но нет в них ни капли холуйства, сервильности, они и не понимают, что это такое, ведь клиент для них партнер и праздник бытия равно нуждается как в том, кто заказывает бокал кот-дю-рон, так и в том, кто его подает. Как не вспомнить Мерсье, проницательно заметившего, что в кафе, «в существующем здесь смешении сословий» можно найти «больше равенства».
Старики скажут, что Париж давно потерял былую галантность, что в кафе нет прежних любезных гарсонов, а молодые официанты небрежны и неумелы, и кухня не та, и фастфуды теснят старинные брассри и бары. И будут по-своему правы, как правы были те, кто в шестидесятые годы с тоской вспоминал двадцатые. Но в начале нового тысячелетия по-иному соотносится былое и нынешнее: непраздный путешественник увидит чистое золото традиции, вовсе не склонной окончательно исчезнуть. Тем более рядом с интернет-кафе и «МакДо», рядом с одеждой унисекс, предпочитаемой еще пока молодежью, эти седеющие рыцари древнего и вечного ремесла, эти д’Артаньяны и Жоржи Дюруа, с салфетками через руку, выполняющие с усталой непринужденностью свою очень тяжелую работу, пожалуй, заметнее и ценнее, чем в прежние времена, тем более что истинной цены былого нам все же знать не дано.
Официанты выступают в разных амплуа – все они немного актеры и, уж разумеется, великие психологи.
Он может быть внимательным и снисходительным хозяином, с удовольствием исполняющим заказ, неуловимо показывая, что одобряет выбор клиента.
Может быть шумно и весело любезным, улыбающимся и действительно довольным встречей со своими гостями, поскольку делать работу с удовольствием – веселее и легче, чем неохотно и угрюмо. И даже угостить («от заведения») рюмкой недешевого ликера клиентов, которые ему понравились, с которыми ему было весело, вовсе не напрашиваясь на чаевые, тем более что они в Париже становятся редкостью.
Может быть конфидентом, серьезно, как заговорщик, обсуждающим выбор вина, даже если дело происходит в простом кафе, где и выбор невелик, и вина скромные.
Может быть до растерянности фамильярным – шутить на грани развязности, хлопать по плечу, кокетничать с дамой, выстраивать игрушечную интригу в духе деревенского трактира, даже иногда сказать клиенту «ты». (Но это не развязное хамское «ты», здесь это знак дружеского признания, «движение души», мгновенно растворяющееся в принятых партнерских кодах клиента и официанта.)
Есть и особая раса немолодых дам, выступающх в амплуа грубоватых кабатчиц, этаких собеседниц франсовского аббата Куаньяра. Они называют респектабельных старых гурманов «молодой человек», дают настойчивые советы, могут и погладить по голове. Ресторанный театр.
Случается, официант бывает и усталым, равнодушным, но охотно отвечающим на немудреную шутку; такие стараются улыбнуться через силу, они – все – в первую голову высокие профессионалы. А потом, вдруг, неожиданно, уже отойдя от клиента, в ритме лишь ему одному почудившейся мелодии, этот гарсон делает одно-два танцевальных па, утверждаясь в спасительном благородном веселье, и торопливо затягивается сигаретой, докурить которую времени нет. Они не садятся никогда: можно потерять силы и просто упасть от усталости.
Если же случается такая оказия (где ее не бывает!), что гарсон оказывается просто неприятным и невежливым субъектом, то конфликт едва ли возникнет: ссориться с официантом скучно, просто ниточка партнерского доброжелательного доверия между гарсоном и посетителем истаивает, словно бы никому она не была нужна, каждый существует сам по себе, не сожалея о случившемся, а просто переходя в другое эмоциональное пространство. Омлет не стал хуже, пиво тоже, а в жизни слишком много забот и удовольствий, чтобы выяснять отношения. Их – отношений – не случилось, все забыли, и жизнь по-прежнему хороша.
Близ Опера-Гарнье на улице Дону почти сто лет назад американец Гарри Мак-Элхон открыл совершенно американизированное заведение, существующее и поныне: «Le Harry’s New York Bar» («Нью-йоркский бар Гарри»).
Поскольку в двадцатые годы редакция канадской газеты, в которой сотрудничал Хемингуэй, как и редакция «Нью-Йорк геральд», где служил Джейк Барнс – герой романа «Фиеста», располагалась поблизости от «Harry’s» и сам Хемингуэй и Скотт Фицджеральд часто сюда заходили, бар приобрел театральную надменность заведения, несущего на себе драгоценное бремя недавней, но знаменитой истории. В нем – короткие, не достающие до тротуара входные дверцы, как в старых салунах вестернов, сотня сортов виски и демонстративно не подают кофе. Пожилой и важный бармен горделив, хорошо говорит по-английски и немножко хочет казаться американцем. О том, что в баре не подают кофе, он сообщает с видимым удовольствием.
В бар зашла седая дама, элегантная, как большинство старых парижанок. На надменность бармена она не то чтобы не обратила внимания. Просто ей были интересны только хот-доги, которые она быстро и со вкусом ела один за другим, и пиво, которое ей тоже, видимо, нравилось, поскольку горделивый бармен едва успевал наливать новые бокалы. Она повторяла бармену с вежливой отрешенностью: «Вы дадите мне еще один хот-дог и еще un demi», и надменность, которую старался демонстрировать этот парижский янки, осталась лишь его собственной заботой. Не было конфликта, огорчения. Вообще ничего не было. Только озабоченный своей респектабельностью бармен стал казаться чуть-чуть смешным…
И все же, независимо от степени любезности гарсона, в благословенных стенах парижского кафе ни барству, ни холуйству места – не боюсь повториться – не найдется. Как ни высокопарно это звучит, здесь царствует равенство. Мне кажется, парижане даже не знают, что бывает иначе.
Многое остается невнятным иностранцу.
Конечно же, когда француз выбирает вино в ресторане или брассри, долго советуясь с официантом, посмеяться над этим может лишь тот, кто не хочет понять, что в другой стране живут по-иному. Во Франции – и к этому возвращаться придется не раз – удовольствие физическое и духовное практически неотделимы друг от друга, не говоря о том, что удовольствие – важнейшая, почти философская жизненная категория: «La vie est belle!» Это французское восклицание касается не только красоты окружающего, но и вкуса обеда.
В одном из дорогих устричных ресторанов появились меню в виде эффектно запрограммированных планшетных компьютеров – прикосновением пальцев можно было не только «перелистывать страницы», но и вызывать на экран эффектные фотографии блюд. Радости на лицах клиентов заметно не было: видимо, прогресс даже в Париже, случается, опережает вкус, а претенциозность принижает драгоценную традицию…
Эта традиция не угасает. Жизнь нелегка, но большинство ресторанов не пустуют. Есть кафе, рестораны и брассри, которые не закрываются вообще. Двадцать четыре часа не гаснут огни в легендарном «Селекте» на Монпарнасе, в «Au Pied de Cochon» («Свиной ножке») – раззолоченном, в красном бархате и зеркалах двухэтажном брассри у Форум де Алль, где – притом что заведение дорогое – подают очень дешевый и едва ли не лучший в Париже луковый суп-gratin. Когда-то отведать это блюдо приходили сюда под утро, особенно после обильных возлияний. И «Au Pied de Cochon» стал патрицианским вариантом рыночных трактиров, а с исчезновением Чрева Парижа – и единственным их наследником. Ну а «Селект» – это отдельная глава, сердце Монпарнаса, заведение, изо всех сил старающееся удержать память о его «горячих часах», его золотом веке.
Мир больших ресторанов – особый мир. Недостаточно иметь аппетит, опыт высокой кухни и толстый кошелек. Надо иметь вкус к участию в спектакле, который имеет особый стиль и собственные правила игры.
Французов часто упрекают за их пристрастие к земным радостям, и термин «раблезианство» не случайно родился здесь. Рабле соединил земное наслаждение и возвышенную мысль, веселье и интеллектуализм, глубокую философию и радость бытия. За этим – глубочайшая, укорененная в самой природе нации неразрывность духовного и земного и уверенность в ценности каждого проживаемого мгновения.
Но есть и ритуалы, где вежливость, не перерождаясь в раболепие, обретает черты избыточно приторной игры, даже салонной угодливости, церемонии, правила, которые полагается соблюдать неукоснительно.
Когда в самом дорогом и фешенебельном ресторане Парижа – «Тур д’Аржан» – клиент не может самостоятельно, без почтительного сопровождения фрачного служащего, посетить уборную; когда номер телефона за него набирает другой фрачный господин, сообщая абоненту на другом конце провода, что сейчас с ним будут говорить именно из этого ресторана; когда раскуривание сигары для клиента превращается в длительный балет, а сыр привозят в комоде с сотней ящичков – все это угнетает неискушенного и с осторожностью относящегося к избыточной роскоши человека, ему и неловко, и смешно. Во всяком случае, ни демократизмом, ни хорошим вкусом здесь не пахнет.
Француз, слушая смущенно-насмешливый рассказ об этих церемониях, вероятно, улыбнется. Но его ирония будет не более чем жестом вежливости по отношению к нефранцузу. Конечно, все это пышно, забавно, это prtentieusement. Но Messieurs! Это серьезно, это часть удовольствия, это наша святая игра, за нее дорого платят, и участвуют в ней дорогие актеры.
Может быть, мы все же чего-то не поняли?
Когда сгущается ночь, в кафе гаснут почти все лампы. Пирамиды поставленных на столы стульев – чтобы удобнее было мести пол – делают зал совсем темным и неживым. Париж закрывает двери в свою гостиную, и одиночество откуда ни возьмись стучится в сердце прохожего, если он не парижанин.
Мертв Париж без кафе. В воскресные дни, когда большинство кафе бывают закрыты, возникает чувство бесприютности. На уличных скамейках сидеть не принято, и бездомен даже тот, кто в кафе и не собирался. Но когда светятся их окна – иная жизнь в Париже.
Когда слышишь обваливающийся легкий грохот железных штор, из-под которых, пригнувшись, выходят в обычном платье официанты и бармены и, кто в машине, кто в метро, кто на «мото», кто и пешком, устремляются по домам, то словно бы и нет Парижа. «Блещет серебристо-зеркальное сияние канделябров площади» (Бунин), великолепны прекрасные в «чопорной темноте» (Хемингуэй) парижские авеню, опустевшие и торжественные, застывшие в ожидании утра, когда вновь запахнет в предрассветном сумраке кофе и круассанами.
Отважный Париж
Он более чем велик – он необъятен. Почему? Потому что дерзает.
Дерзать – вот цена пргресса.
Виктор Гюго
Следовательно Париж естественное основание двадцатого века.
Гертруда Стайн
Каждый раз, когда судьба дарит мне встречу с Парижем, я поднимаюсь на Монмартрский холм.
Теперь здесь всегда толпа. Разноязыкий говор, кто-то поет, бренчат гитары. Вспышки фотоаппаратов, звон катящихся по ступенькам пустых банок из-под кока-колы и оранжада, шарканье ног, восторженные, усталые, счастливые или растерянные лица. И так легко вообразить себя пресыщенным путешественником и усмехнуться наивной радости неопытных туристов. Легко и глупо. «Туристические радости» – тоже часть Парижа. Без приносимой в него простодушной всемирной любви разве стал бы он тем, что он есть!
Если отрешиться от всей этой суеты, Париж, плывущий под ногами, маленький и бесконечный, эти башни и кровли в нежном пепельном тумане всегда новы и трогают до слез… Лучше всего он в те полчаса, когда на город обрушиваются короткие сумерки, когда верхушки зданий еще отражают солнце, а в узких улицах уже зажигается электричество.
За последние десятилетия Париж стал другим, теперь внизу не только Эйфелева башня высится знаком и символом новых времен, но и угловатый, странно-изящный Центр Помпиду, и вдали сияющий огнями силуэт Тур Монпарнас, и совсем вдали смутные громады Дефанса.
Еще в конце пятидесятых я впервые прочел роман «Добыча» («La Cure»[37]) Эмиля Золя. Не видя, не зная Парижа, запомнил блистательно выписанный монолог Аристида Саккара, одного из самых инфернальных и вместе с тем поразительно жизненных персонажей романа. Саккар с женой стоит здесь, на вершине Монмартра, где не было тогда ни базилики Сакре-Кёр, ни даже художников, просто дешевые кабачки, танцевальные залы и смотровая площадка с роскошным видом на город.
Стояла осень; под беспредельным бледным небом устало раскинулся город, терявшийся в мягких, нежно-серых тонах, а вкрапленные кое-где пятна темной зелени казались широкими листьями кувшинок, плавающих на поверхности озера; солнце садилось в багровую тучу, дали окутывала легкая дымка, но на правый берег Сены, там, где виднелась церковь Мадлен и дворец Тюильри, падала золотая пыль, золотая роса. <…> Вдруг меж облаков брызнул сверкающий луч, и дома запылали, будто расплавленное золото в горниле.
– Ах, посмотри, – проговорил Саккар, смеясь, как ребенок, – в Париже золотой дождь, с неба падают двадцатифранковики. <…> Не один квартал расплавится, и золото пристанет к пальцам тех, кто будет греть и размешивать его в чане. Ну и простофиля же этот Париж! Смотри, какой он огромный и как тихо засыпает! Нет ничего глупее этих больших городов! Он и не подозревает, какая армия заступов примется за него в одно прекрасное утро; а некоторые особняки на улице Анжу наверняка не сверкали бы так здорово, если бы знали, что им осталось жить какие-нибудь три-четыре года. <…> Как только проведут первую сеть улиц, тут-то и начнется. Вторая сеть прорежет город по всем направлениям, соединит с первой предместья; все, что останется от старого, умрет, задохнется в пыли известки. <…> От бульвара Тампль до Тронной заставы[38] будет первый прорез; другой будет с этой стороны, от церкви Мадлен до равнины Монсо; третий – в этом направлении, четвертый – в том. Тут прорез, там прорез, всюду прорезы. Весь Париж искромсают сабельными ударами, вены его вскроют, он накормит сто тысяч землекопов и каменщиков, его пересекут великолепные стратегические пути с укреплениями в самом сердце старых кварталов (глава II).
Всякий раз на Монмартре мне все хочется разглядеть эти «сабельные удары», сделавшие с варварской безжалостной отвагой старый Париж современным Парижем.
Что и говорить, город без настоящего и будущего теряет свое прошлое и превращается в респектабельный мумифицированный муляж самого себя. И если и не сабельные удары, но отважные перемены здесь случались с давних времен.
Драгоценными инкрустациями архитектурной логики врезались в поэтический хаос средневековых переулков и трущоб первые шедевры столичных градостроителей.
«Удар копья Монтгомери сотворил площадь Вогезов», – писал Гюго. На праздничном летнем турнире 1559 года осколок деревянного копья Габриеля де Монтгомери, капитана шотландских гвардейцев, по нелепой случайности пронзил глаз короля Генриха II. Рана оказалась смертельной. Нежданно и страшно (даже для той, богатой темными суевериями эпохи) сбылись предсказания Нострадамуса («Молодой Лев победит старого / На поле боя, во время одиночной дуэли, / В золотой клетке ему выцарапают глаза»).
Турнир проходил на ристалище, находившемся на месте нынешней улицы Сент-Антуан, рядом с тогдашней резиденцией королей – Турнельским дворцом. Вдова Генриха II Екатерина Медичи уговорила сына – короля Карла IX – снести в 1563 году опостылевшее, пруклятое здание. И почти полвека ничего здесь не строили – лишь шла торговля лошадьми, встречались дуэлянты, и казалось, восточные кварталы Парижа навсегда останутся унылой пустошью.
Только Генрих IV, отчаянный король, не боявшийся ни Бога, ни дьявола, любивший свой Париж, за который заплатил переходом в католичество («Париж стоит мессы!»), решил вернуть заброшенным кварталам былой, но совершенно новый блеск.
В тесном, очень грязном средневековом Париже, где прежде строили только соборы и церкви, замки, дворцы, дома, никто не думал о просторе, городской гармонии (в Париже, впрочем, гармония и стройность волшебным образом возникали словно бы и сами по себе!), о соотнесении отдельных строений друг с другом – ведь даже Нотр-Дам был стиснут беспорядочным нагромождением случайных и некрасивых домов.
Так возникла Королевская площадь, под пыльно-серебристыми аркадами которой мне еще с первой поездки 1965 года чудится эхо от звона мушкетерских шпаг. Там история мешается с легендами, и время почти уравнивает их: мифы, подобно гомеровскому эпосу, то оборачиваются реальностью, то подменяют ее.
Неизбывная красота очень старых, стройных, маленьких и вместе с тем царственно-соразмерных домов из кирпича и тускло-серебристого камня под сизыми шиферными крышами существует четыреста лет в провинциальной, отстраненной от парижской искристой суеты тишине. Париж так стар, что построенная в начале XVII века площадь для него относительно нова.
Она и до сих пор сохранила некую «отдельность» от города, хотя рядом и улица Сент-Антуан – продолжение Риволи, и площадь Бастилии с новым современным театром Опера-Бастий – алюминий и стекло фасада, черный бархат внутри.
Эти площади XVII и XVIII веков – с какой изысканной и безошибочной дерзостью, с каким безупречным вкусом встраивались они в хаос живописных, едва ли проходимых полуразрушенных улиц!
Такова и Вандомская площадь Жюля Ардуэн-Мансара, стройность и благородство которой царит над суетным блеском витрин магазинов Картье и входом в знаменитый своими клиентами не менее, чем роскошью, отель «Риц». Колонна, могучая и стройная, взмывает в небо – темная днем и серебристая ночью, в отблеске торжественных фонарей, она служит пьедесталом единственной на парижских улицах фигуре Наполеона. В очень личной книге не место рассуждениям о человеке, уже не первое столетие вызывающем так много восторга и так много негодования, напомню лишь цитату из «Острова пингвинов» Франса:
Он оставил после себя Пингвинию обнищалой и обезлюдевшей. Цвет нашего народа погиб во время этих войн. После его падения в нашем отечестве остались только горбатые да хромые, от которых мы и происходим. Зато он принес нам славу.
Нет, не об императоре хочется здесь размышлять – о торжестве благородного зодчества, сотворившего вечную площадь Вандом, до сих пор остающуюся торжественным салоном Парижа, как Конкорд – ее бальной залой.
Площадь Согласия (Конкорд; когда-то площадь Людовика XV) Габриеля – любимого зодчего Марии-Антуанетты – едва ли не первая в мире площадь, распахнутая на набережную, с легко и точно посавленными напротив нее дворцами (сейчас отель «Крийон» и военно-морское министерство). Благородные здания со строгими коринфскими и все же отточенными эхом рокайля колоннадами, чудится, как часто бывает в Париже, не построены, а изваяны из шероховатого, отливающего золотистым пеплом камня.
Париж, вновь процитирую Гюго, «дерзает». Каждая эпоха умела сочетать свой, новый стиль с прежним и с поразительным интуитивным, именно парижским чувством меры вносила в ансамбль площади – как годы в стареющее, но не дурнеющее лицо – черты меняющихся пристрастий, проходящих эпох, разных вкусов, даже торопливой моды, не теряя ни былого, ни сущего, ни неизменного во все времена стройного великолепия.
Все здесь соединилось в ансамбль столь же разностильный, сколь и гармоничный. И знаменитый обелиск[39], и статуи городов по углам площади, и фонтаны XIX века с их тяжелой позолотой. Великолепен их пышный ампир с оливково-черными с золотом фигурами, триумфально взлетающими водяными струями: они ликуют, переливаются под солнцем, а дождливой ночью отблески их вздрагивают на мокрой мостовой, и золото статуй, консолей и чаш чуть мерцает в слабом отблеске фонарей и неверных вспышках фар проносящихся машин; и вторящие им импозантные статуи городов в углах площади, и торжественные дворцы Габриеля в глубине, и Луксорский обелиск, мирно и великолепно соседствующий с этой суетной для него новизной, – обелиск, напоминающий парижанам, что были и куда более древние времена, чем даже те, когда строилась Лютеция.
Площадь теперь – будто во главе города, даря взглядам и реку, и перспективу от Тюильри к площади Звезды (Этуаль), а потом и к небоскребам Дефанса, что нынче виднеются в ясную погоду вдали за Триумфальной аркой. Здесь – между Аркой и Обелиском – кульминация этого, как любят говорить в Париже, Триумфального пути, что поднимается от Лувра к площади Звезды. Здесь на Елисейских Полях проходят парады 14 июля, здесь сияют витрины, здесь мерцают на украшенных к Рождеству деревьях льдистые лампочки, волшебные светящиеся обручи, сюда торопятся туристы, здесь средоточие подлинной и мнимой парижской роскоши.
Божественное чувство целого, умение облагородить и сделать своим, удобным и великолепным решительно все – этот секрет ведом архитекторам Парижа разных вкусов и эпох. Они создали воистину бальную залу, где статуи, колонны, лампионы и фонтаны, как разодетые гости, кружатся в менуэте, перемешивая мерцающие одежды и создавая волшебный ритм сказочного празднества, где даже призраки Террора – санкюлоты во фригийских колпаках – чудятся веселыми участниками маскарада.
У каждого старого города есть эпоха, определившая выражение и стиль, его «необщее выражение», которая отнюдь не всегда совпадает со звездными часами его архитектуры.
И странно, это не божественная готика, не стройные создания Мансара, не колоннада Лувра. Город становится городом благодаря не шедеврам зодчества, а чему-то иному. В самом деле, средневековый город, который мнится многим, где он?
Есть древние сооружения, от взгляда на которые перехватывает дыхание, – достаточно посмотреть на портал Сен-Жермен-де-Пре. Впрочем, поставленная в скверике перед ним скульптура в честь Гийома Аполлинера работы Пикассо возвращает прохожего к мысли, что он не в музее, а в живом, всегда готовом к переменам Париже; удалиться в минувшее здесь едва ли возможно.
Конечно, приехав в Париж впервые, я, как и все, ощущал себя пилигримом. Вот чудо витражей Сент-Шапель – темный потолок словно повис в воздухе, между ним и полом лишь сотканные из света разноцветные зыбкие миражи. Не знаю, есть в истории готического зодчества нечто более совершенное: верхний зал капеллы действительно может чудиться (и чудился, конечно) молящимся как портал иного, небесного мира. Высокие витражи, опоясывающие зал, разделены тончайшими, при ярком свете и вообще незаметными простенками, и потолок, украшенный золотистыми звездами на темно-синем фоне, парит, отделенный от пола и пилястров.
Вот вечные колокольни Нотр-Дам, горделивая и угрюмая стройность башни Сен-Жак, вот переулки и фасады, хранящие память того, еще рыцарского Парижа, Парижа Капетов и Валуа, тамплиеров, сорбоннских школяров, Абеляра и Элоизы.
Но однажды, дойдя до восточной оконечности Сите, откуда туристы восторженно любуются апсидой Нотр-Дам, я увидел низкую стену с незнакомой надписью, сделанную угловатыми, совершенно современными буквами. Неведомо для себя набрел на возведенный в 1962 году архитектором Пенгюссоном Мемориал жертвам депортации: за строгой каменной оградой спуск в крипту, где в золотистом тусклом свечении теснятся черные копья-решетки – призраки смерти, колючей проволоки, пыток. Боль и печаль, никакой патетики, и так все это естественно рядом с Нотр-Дам – жизнь, смерть, все – история, все – неразрывно.
Пленительна площадь Дофин, ровесница Королевской, с такими же кирпичными, отделанными камнем домами, за ней – стрелка Сите, Новый мост, соединяющий остров с обоими берегами, статуя Генриха IV–Vert Galant[40], налево за рекой – дома на набережной Больших Августинцев, а дальше горделивый купол Пантеона, за венчающий тонкий крест которого перед грозой цепляются черно-лиловые тучи.
Глядя на все эти царственные, исполненные сдержанной гармонии панорамы, дворцы, мосты, трудно не поверить Анатолю Франсу: «Мне кажется, нельзя быть совсем заурядным человеком, если ты вырос на набережных Парижа, против Лувра и Тюильри, близ дворца Мазарини[41], на берегах славной Сены, струящей свои воды меж башен, башенок и шпилей старого Парижа» (Анатоль Франс. Книга моего друга).
Стрелка Сите корабликом входит в воду, река даже не плещется о низкий берег, а только слегка касается его.
Древние дома, соборы, витражи, просто старые камни – не более чем крупицы великолепно-сумрачной старины в том веществе, той плазме, из которой состоит реальный Париж. И если в городе жить, а не только осматривать достопримечательности (речь не о сроке, а о душевной настроенности), если прогулка сродни импровизации, если по городу не идти куда-то, а просто бродить, доверяя ему свое настроение, тревогу и радость, то утоляют душу все же не прославленные памятники, точнее, не просто и не только они.
Я не устаю любоваться пудреными камнями старых зданий, что открываются с набережных и мостов. Но – да простят меня почитатели величественной старины (тем паче и я из их числа) – это не весь Париж, и более того: Париж состоит из иного вещества, чем его драгоценное прошлое.
Трудно представить себе в Париже место, принадлежащее лишь одной эпохе. Роскошные фасады османовских бульваров и авеню скрывают старые паперти церквей, торжественная готика церкви Св. Евстафия (Сент-Эсташ) горделиво высится за лощеными трельяжами Форум де Алль, в его зеркальных стенах отражаются старые крыши пропыленных веками домов, фонтан Невинных с волшебными рельефами Гужона чудится еще более грациозным в окружении современных бистро и магазинов, а разноцветный параллелепипед Центра Помпиду, «имплантированный» в средневековый квартал Парижа, стал знаком и символом вечного движения города к будущему.
Когда по дороге из аэропорта или в былые времена, глядя из окна вагона, я видел мелькнувший на фоне обшарпанной стены красный тент кафе, когда поднимались к дымному небу эти лобастые мансарды, трубы, когда я узнавал окна, отороченные игрушечными балконами, когда проезжали грузные автобусы со знакомыми номерами, когда вечный и обыденный Париж, его цвет и ритм, его сокровенные приметы завладевали сознанием, вытесняя безликие дома предместий, вот тогда начиналось свидание. Париж, как и всякий большой город, поражает и порабощает воображение и память не только и не столько архитектурными шедеврами, сколько великолепием своей обыденности, романтической (порой и не слишком пышной или богатой) респектабельностью, тем ощущением комфорта, которое исходит, кажется, от самих фасадов высоких домов, не лишенных несколько надменной пышности.
Этот обычный для парижан и отчасти удивительный для приезжих «парижский», можно было бы добавить «османовский», дом весь состоит из только ему присущих особенностей. Построенный, как правило, из камня (краска и штукатурка редки в Париже), охотно уступающий нижний этаж (rez-de-chausse) веселой прозрачности магазинов или бистро, этот дом имеет обычно темно-зеленые двери или ворота с массивными медными, отливающими золотом ручками.
Дорогие османовские дома, обычно вполне достойные снаружи, бывали убийственно-пышными внутри.






