В поисках Парижа, или Вечное возвращение Герман Михаил
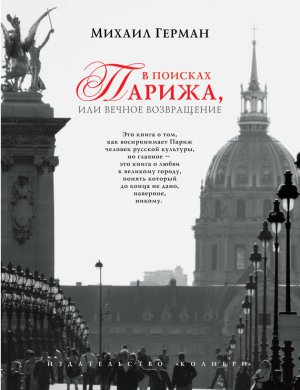
Наше восхищение прошлым и пылкий к нему интерес чаще всего взлелеяны не столько реальностью, памятью, знанием и легендами, но и собственной нашей фантазией, охотно возводящей лучезарные и сентиментальные конструкции на зыбком фундаменте прозаических и не всегда достоверных фактов.
Метерлинк в «Синей птице» уверял, что мертвые оживают, когда живые вспоминают о них. В истину этих слов так легко верится в старых кварталах Монмартра и Монпарнаса!
Речь не об окне на улице Амьо, из которого выбросилась и разбилась насмерть Жанна Эбютерн, подруга Модильяни, не о металлических табличках в «Клозри де Лила» с именами прославленных посетителей прославленного кафе, хотя и это, конечно, завораживает и тревожит душу случайного прохожего. И все же это не более чем пункты, отмеченные тремя звездочками (посмотреть обязательно) в воображаемом путеводителе, созданном эрудицией просвещенного путешественника во времени.
Но те, чья память встревожена знанием и любовью и кому посчастливилось хоть раз пройти по Монпарнасу, по склонам Монмартра, посмотреть на фасад, напоминающий о «Бато-Лавуар» на площади Равиньян, добраться до «Улья», побродить по улице Кампань-Премьер, заглянуть в эти дворы, застроенные хрупкими обветшавшими мастерскими, получают редкий шанс. Шанс, которым вовсе не просто воспользоваться и который так легко упустить.
Надо понять, что Париж обладает волшебной способностью меняться с какой-то даже безжалостностью, сохраняясь вместе с тем с почти гобсековским пристрастием к нажитому.
Все они остались в старом Париже! Персонажи Модильяни – Жакоб, Сандрар, Зборовски, многоликий Аполлинер – такой разный в рисунках Шагала и Пикассо; ускользающий, созданный мерцающими плоскостями Воллар кисти Пикассо; мадемуазель Стайн, шагающая тяжелой своей походкой в смешных сандалиях без каблуков; Жарри, на велосипеде, с пистолетом в кармане; всеведущий хрупкий и мудрый Кокто; Фужита в кимоно; ставший уже рантье, но все еще знаменитый шансонье Брюан; все анонимные герои художников – ироничные интеллектуалы; прославленная многими и за многое Кики; Марсель Дюшан – великий мистификатор и мудрец, да и сколько их здесь!.. Люди, понявшие истину новых времен, сформулированную Максом Жакобом: «Значение произведения искусства – в нем самом, а не в предполагаемых сравнениях с реальностью…»
А чуть севернее Монпарнаса! Недолгая прогулка по улицам Гранд-Шомьер, Ассас, Флерюс: последнее жилище Модильяни, мастерская Цадкина, квартира Гертруды Стайн за Люксембургским садом… Почти ничто не отвлекает здесь от воспоминаний, и каждый, кто хочет увидеть былое, непременно увидит его.
Есть некая торжественная печаль в том, что если и не центром, то важнейшей частью квартала остается кладбище. Надо, впрочем, иметь в виду, что французское кладбище не столь горестное место, как российские погосты, оно редко оглашается рыданиями, и слезы здесь не любят показывать. Боль и смерть везде одинаковы, и память, и страдания, но их, так сказать, общественное выражение совершенно разное.
Парижское (да и вообще французское) кладбище – торжественное и безмолвное царство Былого. Каменные памятники, огромные и маленькие склепы, часовни, скульптуры, плиты, спокойное соседство католических, иудейских, протестантских и прочих надгробий, темный полированный мрамор, стерильная чистота, холодный эпический покой.
Для приехавшего из России здесь есть непривычное, даже вызывающее оторопь: не слишком хорошего вкуса из бронзы, камня или керамики венки, разного рода украшения со стандартными надписями – все то, что часто заменяет цветы, которые, впрочем, тоже приносят. Упаси господи от снисходительных улыбок! Везде свои ритуалы, привычки, коды, за которыми – века, поколения, понятия о вкусе.
По аккуратно вымощенным аллеям Монпарнасского кладбища неторопливо и задумчиво гуляют и молодые люди, и почтенные пары, на лицах их нет многозначительной важности или ритуальной печали. Скорее некоторая величавая серьезность или даже готовность к улыбке.
…И как они относятся к мертвым, так дружески просто дружески, и хотя все там будут нет уныния и хотя неизбежно случается нет потрясения. Смерть и жизнь для французов едины и вот поэтому тоже неизбежно они основание двадцатого века (Гертруда Стайн. Париж Франция).
Похороны на французских кладбищах торжественны, тихи, большинство одеты по традиции в траур, церемония соблюдается просто, строго и без надрыва. Да, боль и смерть – они везде одинаковы, но есть и обычаи, генетическая память, иные пути изживания страданий.
В памятниках нередка патетика, громогласность (если можно так сказать о молчаливом камне), перечисление заслуг и орденов. По жестокому парадоксу истории такие памятники принадлежат обычно людям забытым. Могилы великих чаще всего просты, хотя и над прахом известных людей возникают иногда странные сооружения: так, на кладбище в Пасси в склепе Марии Башкирцевой устроено нечто вроде гостиной с мебелью и даже картинами усопшей.
Однажды мне случилось на Пер-Лашез спросить у толстого, лукавого и веселого интеллектуала, похожего на отставного профессора (он мог быть, конечно, и просто мясником на покое, но выглядел человеком начитанным), где могила Джимми Моррисона. «О, мсье, – обстоятельно ответил мне этот господин, – для этого вам надо сесть на RER линии „В“, доехать до аэропорта Руасси и самолетом долететь до Нью-Йорка, поскольку прах знаменитого музыканта давно перевезен в Америку. А вот если вы хотите увидеть место, где он был похоронен, то…» И тут мне был подробно изложен маршрут.
Над Монмартрским кладбищем выстроили недавно новый дорогой отель. На мой недоуменный вопрос касательно того, кто же захочет жить по соседству с кладбищем, мне ответили тоже с недоумением: «Почему же нет, люди любят покой».
Но трудно представить себе на любом кладбище, кроме парижского, это чудо, этот манифест скульптуры Новейшего времени, что находится в самом углу Монпарнасского кладбища, у ворот, выходящих на бульвар Эдгара Кине, рядом с бульваром Распай.
Каждый раз я вхожу сюда с забытым уже волнением, которого не испытываешь и в Лувре. Сколько раз ни смотрел я на этот памятник, всегда светило солнце, весело, горячо, беззаботно. Могу и ошибаться, но так осталось в памяти, той самой, которая «сильней рассудка памяти печальной» (Батюшков).
И каждый раз возникает растерянность – как же он мал, этот шедевр скульптуры начала ХХ столетия, прославленный на весь мир «Поцелуй» Бранкузи[85].
На прямоугольном высоком постаменте – маленький кусок потемневшего известняка, который сначала даже трудно воспринять как скульптуру: просто камень, состоящий из двух неразделимых, переплетенных фигур. Отважный взрыв традиционных понятий красоты, открытие новых пластических форм и горькая, неподвластная времени страсть – это ли не олицетворение жизни и истории Монпарнаса! Сухая горечь и рвущая сердце нежность соединены здесь с торжественной величавостью.
Быть может, именно перед этой группой, украшающей кладбище, связанное с великими страницами парижской истории и культуры (здесь погребены Мопассан, Бодлер, философ Сартр и Симона де Бовуар, Сен-Санс и Альфред Дрейфус, строитель Гранд-Опера Шарль Гарнье, сам Бранкузи, Бурдель, автор статуи Свободы Бертольди, Сутин), особое «чувство Монпарнаса» возникает куда острее, нежели даже в прославленных кафе перекрестка Вавен. И речь не о том, что кладбищенская тишь красноречивее занимательных мемуаров и эха богемного веселья, но лишь о том, что это сочетание уединенного безмолвия, реальной близости Монпарнаса и истинного шедевра Новейшего времени совершенно особенным образом будит мысль и возрождает воспоминания. К тому же «Поцелуй» – памятник русской женщине, студентке Татьяне Рашевской, покончившей с собой из-за несчастной любви к молодому врачу-румыну. На камне русские буквы: «Танюша». Сплетение судеб: Россия, Румыния, и во Франции все случилось, и памятник на Монпарнасском кладбище – в Париже…
Абсолютное любовное доверчивое слияние – фигуры наделены даже «общим» глазом. Ограненная кубизмом, скульптура защищена от внешнего мира суровой угловатостью и устремлена «внутрь» своего интимного пространства. Горько почему-то представить ее под холодным дождем или ночью, беззащитную, как любовь.
Впрочем, нет ведь и ничего сильнее.
Когда-то едва ли не весь Монпарнас казался окраиной. «Провинция начинается на Монпарнасе, – вспоминал современник. – Я знал людей, которые никогда не пересекали Сену, они выбрали Монпарнас, потому что это был спокойный квартал».
Какой он сейчас, сказать трудно.
Как и весь Париж, он состоит из вспышек и пауз, из прошлого и настоящего, даже будущего.
От «Клозри де Лила», где по утрам лишь романтически настроенные и небедные люди смакуют отличный кофе, любуясь табличками с именами знаменитостей, в сторону вокзала бульвар Монпарнас просторен и тих, мало даже кафе. Ближе к перекрестку Вавен – сгусток упоминавшихся воспоминаний и милого шика, и только к вечеру сюда вернется запах денег, больше станет завсегдатаев-снобов и любопытных приезжих, зажгутся уже столетие знаменитые вывески на перекрестке Вавен, и машины станут не только вдоль тротуаров, но и в середине улицы, вдоль разделительной полосы. А днем с почти неслышным, но тяжелым шелестом проезжают автобусы, автомобили, но бульвар все равно пустоват – уж больно широк он для Парижа, и пробки на нем редкость. Но и днем у многочисленных на Монпарнасе кинотеатров очереди. В Париже любят кино, и никакие DVD не заменяют вйчера в кинотеатре.
В большинстве кинотеатров – cins – несколько залов, идут одновременно разные фильмы. Билет недешев – он равен стоимости скромного завтрака, правда есть скидки, абонементы и другие льготы, – но все равно стоят очереди! Как ни бранились бы парижане, говоря о падении интеллектуальной жизни, о засилье Интернета (в интернет-кафе и впрямь много народа, и царствующее там возбужденное, какое-то сектантское безмолвие, что и говорить, не радует глаз приезжего, привыкшего любоваться традиционным весельем парижских брассри), и книжные магазины переполнены.
Сколь разным ни был бы Париж, его цельность и нерасторжимое единство ощущается, едва поднимешь глаза к его крышам и трубам. Почти непременно пучки прямых высоких и тонких труб, крутые крыши с мансардами, потеки ржавчины, будто нарочно проведенные кистью с легкостью самого Гиса, и легкое небо с театрально-крутыми, будто вертикально поставленными облаками, напомнит каждому, где он.
И даже все сверхсовременное великолепие башни, вставшей перед Монпарнасским вокзалом, не делает площадь менее парижской. Узкие и людные улицы Du Depart (Отъезда) и De l’Arrive (Прибытия), чьи названия, скорее всего, в прошлом соответствовали платформам старого вокзала, сохранили веселую и торопливую озабоченность вечной привокзальной суеты. За башней на бульваре Эдгара Кине по утрам раскидывается веселый базар, а по воскресеньям – своего рода «ярмарка искусства», где художники в персональных палатках показывают и продают картины и скульптуры и даже иногда угощают шампанским.
А дальше знаменитый на весь Париж недорогой и огромный супермаркет «Инно» и та часть «замонпарнасского Парижа», куда уж в подлинном смысле слова нога туриста и вовсе не ступала.
Иное дело, что те знаменитые персонажи, в диалоги с которыми не раз пускается тот, кто не устал перелистывать страницы былого, обитали и куда далее на юг, там, где и сейчас тишина и даже некоторое запустение, где Париж живет независимо от суеты шумного центра. Когда-то нищие «монпарно» добирались от «Ротонды» до своего знаменитого обиталища «La Ruche» («Улья») чаще всего пешком. Путь был не ближним, но, чтобы доехать до «Улья» на омнибусе линии «AN», у его жителей, надо полагать, деньги находились редко.
Когда в 1988 году я приезжал к парижскомусоиздателю моей книги о Шагале, меня свозили в «Улей». Тогда меня скорее удивило, как ослепительно и безлико он отделан внутри: совершенно современное помещение – рай для художников, которым муниципалитет предоставил здесь мастерские.
Но много лет спустя, когда «Шагал» давно уже был издан, вновь подходя к этому едва подновленному снаружи и совершенно модернизированному внутри зданию на окраине – южнее Монпарнаса, в тихом, бедном и малолюдном пассаже Данциг, я опять испытал это счастливое чувство реальной встречи с реальной, овеществленной историей.
Как и Монпарнас, «Улей» – не просто символ нужды или приют, а стиль жизни, а в этом монпарнасские художники знали толк.
Прошло более ста лет с появления «Улья». Многое изменилось. Нет больше знаменитой Вожирарской бойни, чье присутствие столь неприятно оживляло тишину квартала, особенно по ночам, когда крики животных слышны были особенно страшно, а в кафе «Данциг» на того же имени улице забойщики скота в забрызганных кровью блузах пили вино у стойки рядом с испачканными в красках художниками (случались между ними – обитателями «Улья» и рабочими бойни – и жестокие ночные драки). Провинциальный покой наполняет ныне улочки, словно бы вовсе не изменившиеся за сто лет, пустые и живописные, как на фотографиях Атже. Даже машин меньше, чем обычно в Париже. Ни магазинов, ни брассри, ни контор… А тогда, в конце уже позапрошлого, XIX века, здесь попросту были пустыри, и кабачок «Данциг» был действительно единственным. Он сохранился, только буквы на вывеске сменили былую помпезную элегантность на обыденную современную графику.
В этом кабачке и началась история «Улья».
В конце 1899 года знаменитый, а ныне забытый скульптор Альфред Буше завершил работу над бюстами румынской королевской четы. Королева, весьма любившая искусства и даже (под псевдонимом Кармен Сильва) занимавшаяся скульптурой, живописью и литературой, была так довольна, что заплатила ему сверх оговоренного гонорара большую сумму и подарила в придачу элегантный экипаж – тильбюри, лошадь и роскошную упряжь.
Рассказывают, именно в этом экипаже, совершая весной 1900 года с приятелем прогулку по улице Вожирар, он добрался почти до южной границы Парижа у самых внешних укреплений. В кабачке «Данциг» за стаканом лимонада он разговорился с хозяином – уже упоминавшимся Виктором Либионом, будущим владельцем «Ротонды». На склоне лет Буше вспоминал:
Обслуживая нас, патрон понял, что мы земляки. Узнав, что у меня есть земля за границей города, он предложил мне откупить у него участок, располагавшийся вдоль улицы Данциг, чтобы улучшить свои денежные дела. Обрадовавшись возможности оказать услугу «земляку», я тотчас же согласился совершить покупку, даже не поинтересовавшись, не заложен ли участок. Мой нотариус ворчал, упрекал меня в неосмотрительности, но что вы хотите, я всегда думал: вступая в жизнь, следует растить в себе веру в идеал или в судьбу; первое труднее взрастить в себе, чем второе.
Купив пять тысяч квадратных метров земли за пять тысяч франков, Буше решил «открыть путь молодым художникам к успеху и славе», построив для них новый «городок искусства», наподобие уже существовавшего Сите-Фальгьер.
Буше купил демонтированную после закрытия Всемирной выставки 1900 года «Ротонду вин» – павильон вин из Бордо, построенную весьма причудливо и изящно по проекту Эйфеля: восьмиугольное здание венчала крыша наподобие китайских шляп. Сконструированный на металлическом каркасе, он легко монтировался заново. У входа на участок поставили кариатиды, украшавшие на той выставке павильон Перу, и решетки от павильона Женщины. Балюстрады, металлические украшения, лестницы от ротонды были переделаны с учетом нового предназначения дома.
Скульптор не приглашал архитектора или инженера, положившись целиком на свои знания. Ему помогали племянник, резчик по дереву и мастер на все руки, муж консьержки мсье Сегонде и несколько случайных каменщиков.
В здании сто сорок мастерских. На первом этаже ателье, удобные для скульпторов, – относительно выше и несколько просторнее. Лестница темного дерева вела на два верхних этажа, где располагались скромные маленькие мастерские-ячейки, действительно похожие на соты. «В этом караван-сарае моя мастерская в мансарде состояла из комнаты с большим окном и коморки, – вспоминал один из постояльцев „Улья“. – У меня был матрас, доска на козлах вместо стола, мольберт, пара стульев, чугунная печка: для работы я более ни в чем не нуждался и мог приняться за дело».
Внутри здание, лишенное каких бы то ни было удобств, напоминало, по словам Цадкина, чудовищный сыр бри, а по мнению Архипенко – грюйер (возможно, запахом?). Грязь и отсутствие всяких удобств, сонмы клопов и крыс. Вокруг со временем построили еще несколько деревянных павильонов и, разумеется, дощатую будку-туалет, к которой вела аллейка, не слишком изобретательно, но весело прозванная «Тронной». Другие аллеи назывались «Лес любви», «Липы», «Аллея цветов» и даже почему-то «Три мушкетера». Сказывались уроки отца-садовника: Буше позаботился о клумбах, газонах и деревьях. Липы и каштаны подстригли, посадили вишневые деревья, сирень, засеяли лужайки. Мсье Сегонде обязан был аккуратно заниматься поливкой. По саду бродила ослица Жанетта, заходя и в коридоры «Улья» в поисках угощенья.
Внизу – большое общее ателье, где обитатели «Улья», прозванные хозяином «милыми пчелками», могли бесплатно (точнее, за счет Буше) рисовать живую натуру – каждый день с пяти до семи. В 1905 году был устроен и небольшой выставочный зал, Le Salon de La Ruche: в нем мог показывать и продавать свои работы каждый обитатель «Улья» – ни о каком жюри не было и речи, лишь десять процентов от продажи шли в общий котел.
На выставках нередко устраивались импровизированные концерты, что, вероятно, подтолкнуло Буше возвести в середине сада и театр на триста мест. На представления приходили не только обитатели «Улья», но многие жители квартала, платил каждый, сколько желал и мог. Премьера состоялась в ноябре 1908 года – давали «Британика» Расина. Костюмы и декорации рисовали художники из «Улья». Концерты, вечера декламации режиссировал сам Буше.
Плату за аренду мастерских Буше назначил мизерную – пятьдесят франков в год за скульптурные на первом этаже и сто пятьдесят – за верхние и те ателье, что располагались в отдельных маленьких домиках, один из которых, называвшийся Павильон Принцев, имел даже террасу.
О деньгах за аренду Буше никогда не напоминал, и многие, у кого денег не было, или те, кто очень не хотел платить, жили, по сути дела, даром.
«Романист, поэт, – говорил хозяин „Улья“, – может работать в своей мансарде за скверным столом при свече, ему довольно чернил, пера и бумаги. Свои модели он находит в самой жизни, они в его распоряжении и ничего ему не стоят. Но живопись и скульптура – это другое дело! Они требуют специальных устройств, сложных инструментов… Но сверх всего, необходима живая натура. Без нее не бывает стуящего произведения! А живая модель дорого стоит…» Почти каждый день он обходил своих постояльцев, интересуясь, не терпят ли они в чем нужды.
Помимо практически бесплатного и уж во всяком случае дешевого жилья, обитатели «Улья» имели и даровой стол, поскольку добрая консьержка мадам Сегонде (сколько будущих знаменитостей о ней вспоминали!) охотно подкармливала голодных постояльцев: «Ах, мои художники, мои божьи детки! Бедные пчелки, они больше не приносят меда, а если приносят, то он уже горчит. Но что с ними делать? Каждому надо есть!»
Буше при всей своей ангельской доброте был человеком амбициозным и в 1902 году добился того, чтобы состоялось торжественное открытие «Улья». Республиканская гвардия, национальный гимн, депутаты, муниципальные советники: каски, султаны, блеск цилиндров, роскошные платья дам, присутствовал сам помощник государственного секретаря по делам изящных искусств. И постройка «Улья», и вся меценатская деятельность Буше принесли ему дополнительное официальное признание. В 1908 году он получил командорский крест Почетного легиона.
Почти сразу же сооружение, имевшее официальное название «Вилла Медичи» (острословы называли его еще и «Виллой Медичи для бедных»), получило прозвище, под которым и вошло в историю и стало одной из достопримечательностей Парижа, – выпускались даже почтовые открытки с видами «Улья». Его дикий и неустроенный быт, как и быт «Бато-Лавуар», тоже неоднократно и увлеченно описывавшийся, по тем временам не был редкостью.
Следует в нескольких словах объяснить трагикомический способ нашего ночлега. Наш товарищ скульптор Инденбаум получил заказ на деревянные резные ширмы, и мы использовали одну из панелей, положив ее на два стула, в качестве кровати для Сутина; мы привязывали Сутина к этой панели веревкой, поскольку она была узкой, – иначе он мог легко свалиться на пол. У меня же была американская походная кровать, кое-как подвязанная веревками, чтобы она не развалилась. Впрочем, порой по утрам я оказывался на полу, если веревки развязывались. <…> Летом большинство обитателей «Улья» спали на улице, кто на скамьях, кто на столах с тремя ножками, на которых приходилось балансировать, чтобы не свалиться. Мы были готовы на что угодно, лишь бы не спать внутри, где было полно клопов, которые казались нам самыми злыми из всех злых тварей.
Так вспоминал художник Кикоин, друг и земляк Сутина.
В ту пору и в богатых особняках гигиенические проблемы нередко еще решались в средневековом духе, а бедные обитатели «Улья», особенно те, кто приехал из «немытой России», тем более не смущались отсутствием цивилизации. Мучились более всего от зимней стужи и сырости, но, по счастью, в Париже холода нечасты, сквозь щели можно любоваться высоким и вольным небом Парижа, и воздух свободы с лихвой компенсировал убожество жилья.
Хоть «Улей» и располагался на окраине Парижа, его обитатели имели все основания ощущать себя в центре художественной жизни. В конце июля 1914 года Буше предоставил свою огромную мастерскую в «Улье» для показа картин французских художников и их русских собратьев, живущих в Париже, отобранных на большую Русско-французскую выставку, которая была намечена на осень того же года: Брак, Матисс, Майоль, Бурдель, Лорансен, Шагал, Мещанинов, Липшиц, Архипенко, Орлова, Кремень…
Пьяные скандалы, голод и даже неизбежные в художественном мире интриги, зависть – об этом известно много, недостоверно, а главное, все это уже не имеет решительно никакого значения. Была ведь в этом месте особая атмосфера доверия и добра, бескорыстия, понимания. Приятель Сутина и Кременя скульптор Лев (Леон) Инденбаум уже в старости с необычайной нежностью вспоминал:
Я жил один в сарае (в саду, окружавшем «Улей». – М. Г.), рядом с помойкой и статуей ангела, автор которой никому не был известен. Его крылья были оплетены розами, и мне нравилось любоваться ими. У меня не было никаких средств. Однажды утром булочница спросила меня: «Сколько хлеба в день вам нужно? Вам пришлют, сколько необходимо, и вы расплатитесь, когда сможете». Потом пришла очередь молочницы: «Сколько вы хотите сегодня молока?» Это было чудесно… Этим дамам не хватало только крыльев, чтобы быть ангелами! Я написал своей сестре: «Здесь живут чудом», и она ответила мне: «Умирают тоже чудом».
По-прежнему испытываешь смущение и восторг, вспоминая, чту писалось и рисовалось здесь, в этих убогих мастерских. Глядя на все еще изящную ротонду «Улья» (ныне в ней в современных и комфортабельных студиях вновь трудятся художники, только нет среди них пока никого, кто мог бы сравниться с теми, прожившими здесь голодные и холодные годы), легко забыть суетные и излишние подробности.
- La Ruche
- Escaliers, portes, escaliers
- Et sa porte s’ouvre comme un journal
- Couverte de cartes de visite
- Puis elle se ferme.
- Dsordre, on est en plain dsordre[86].
Так начинал свою поэму «Мастерская», написанную в честь «Улья», Блез Сандрар.
В числе первых постояльцев «Улья» были и совершенно случайные, курьезные для истории искусства персонажи: так, есть сведения, что в «Улье» какое-то время жил и Владимир Ульянов. Самым преданным и верным постояльцем «фаланстера» стал с 1905 года ныне совершенно забытый скульптор Луи Морель, проживший в «Улье» до самой смерти (1970), скульптор, более всего известный своим неодолимым перфекционизмом, вследствие которого почти никогда не мог довести до конца свои произведения, чаще всего разбивая их, когда они были почти готовы. Жил здесь какое-то время и будущий знаменитый конструктор самолетов и автомобилей Габриель Вуазен. В том же 1905 году в «Улье» поселился приехавший из Нормандии Фернан Леже, ставший одной из центральных фигур художественной жизни 1900–1910 годов, «с нежными и смеющимися глазами на морщинистом изможденном лице в бесчисленных глубоких складках. <…> Фуражка или матерчатая шапка, начищенные ботинки <…> приталенный пиджак, плащ через руку, – одежда как из американского магазина готового платья; он двигался как боксер: ходил вразвалку и поводя плечами» (из воспоминаний современника).
Первым из России приехал Александр Архипенко, с восторгом принявший «французских революционеров в искусстве». Они с Леже не только подружились, но в дни полного безденежья вместе ходили по улицам, зарабатывая деньги исполнением русских песен: у Архипенко был сочный баритон, а Леже аккомпанировал ему на маленькой арфе.
В «Улье» жили нищие художники, но, надо полагать, и те, у кого деньги водились или время от времени появлялись, не хотели и не пробовали жить иначе.
«В ту пору в „Улье“ было много русских художников, и между нами было настоящее братство, – вспоминал Кикоин. – Тогда мы много ходили пешком, от „Улья“, от Версальских ворот до бульвара Сен-Мишель, чтобы разыскать приятелей и перехватить франк или пятьдесят сантимов… Когда изредка у нас случались деньги, мы всегда делили их поровну. Мы ели белые булочки и пили чай, как было заведено в России».
И Шагал, и его недавние земляки поровну хлебнули лиха и унижений, обычных для каждого, кто был угнетен чертой оседлости и прочими тяготами – плодами официального российского юдофобства.
Еще в 1913 году о Шагале восторженно писал Блез Сандрар:
- Он спит
- Он проснулся
- Вдруг, он пишет
- Он берет церковь и пишет церковью
- Он берет корову и пишет коровой
- Сардиной
- Головами, руками, ножами
- Он пишет бычьим нервом
- Он пишет всеми нечистыми страстями еврейской
- деревушки
- Всей чрезмерной страстностью (sexualit exacerbe)
- русской провинции…
- Для Франции…
В первые парижские годы обычную пищу не только бедного, но и скуповатого Шагала составляли селедка и огурцы, которые привозил в «Улей» колоритный торговец из Маре в зеленом лапсердаке, напоминавший, как рассказывали очевидцы, персонажей витебских картин художника. Поэтому раблезианские привычки Аполлинера поразили его сначала едва ли не более, чем суждения об искусстве и поэзии:
Я всегда побаивался большого и, добавил бы, толстого Аполлинера. Знаете, я не любил показывать свои картины, кроме как, может быть, Сандрару, который часто заходил в мою мастерскую в «Улье». Все же Аполлинер обещал написать предисловие к каталогу моей выставки в Берлине (это, конечно, было перед войной 1914-го). Итак, он пришел, потом долго смотрел на мои картины своими большими глазами. Потом мы пошли завтракать на Монпарнас в небольшой ресторан, который, к сожалению, нынче не существует. Не переставая есть с быстротой, которая производила на меня сильное впечатление, Аполлинер повторял между проглатываемыми кусками: «Как восхитительно то, что вы делаете!» Я был польщен, он взял меню и на обратной стороне его написал стихи, посвященные мне. Затем, по-прежнему с большим вкусом, он доел все, что оставалось, не забывая раскланиваться направо и налево.
Понимали или нет в ту пору обитатели «Улья» масштаб своего дарования или таланта соседа? Ревнивая зависть, которая не может не существоват между людьми, тем более между художниками, была там редкой гостьей. Во всяком случае, многочисленные предания Парижской школы едва ли о ней свидетельствуют.
Но их-то ценили многие. Даже полицейский комиссар Леон Замарон. По долгу службы занимаясь делами иностранцев, он постепенно увлекся живописью и собрал недурную коллекцию картин, в том числе Сутина, Утрилло, Кикоина, Модильяни, Кременя, Маревны. Скорее всего, он не только покупал картины, но и получал их в подарок. Тем не менее художники вспоминали о нем с признательностью и он вошел в историю монпарнасской культуры.
Много неожиданностей таит в себе Монпарнас. Даже для тех, кто посвятил немало времени разгадыванию его тайн.
В 2004 году я начал писать монографию о Хаиме Сутине. Был очень увлечен работой (о Сутине даже во Франции не было еще сколько-нибудь полной книги), знал о художнике, как мне казалось, все или почти все.
Но вот, снова проходя по переулочкам за Монпарнасской башней, где-то между улицей Мэн и бульваром Эдгара Кине, мы вышли к скверу Гастона Бати (известный парижский режиссер, после Второй мировой войны руководивший театром «Монпарнас-Бати»).
Крохотный садик на треугольной площади, запущенный и даже несколько убогий, казался обычным и малоинтересным. Однако в глубине его меж чахлыми деревьями мерещилась маленькая фигурка на невысоком пьедестале, показавшаяся, как ни удивительно, странно знакомой. Неужели это он, не может и быть такого! Маленький художник смотрел на меня снисходительно и брюзгливо. Он! Посреди крохотного, даже парижанам не слишком известного садика, на фоне ресторана «Обезумевшая мидия» («La moule en folie») стоит бронзовый Хаим Сутин.
И я ничего не знал об этой статуе! И могло бы не быть этой встречи. Страшно подумать.
Художник стоит смешной и трагичный, как герои Шолом-Алейхема или Шагала: насупленный, уродливый, вдохновенный, сутулый и горделивый. Стоит нахохлившись, в помятой шляпе, неуловимо напоминая персонажей раннего Чаплина. Здесь, на Монпарнасе, начиналась его парижская жизнь, здесь же, совсем рядом, на Монпарнасском кладбище, – его могила. Вероятно, памятник этот – скорее судьбе Сутина, нежели его искусству: в нем более печали, чем той темной и пылкой страсти, которой отмечена его живопись.
Видимо, случается и так, что скульптура, не предназначенная для того, чтобы стоять посреди площади, обретает, оказавшись на улице, под небом, солнцем, дождем, совершенно особую тончайшую, застенчивую камерность: словно бы человек, вышедший невзначай из дома, не успел надеть ту незримую броню, которой – сознательно или бессознательно – пользуется каждый, кто оказывается среди чужих.
Присутствие бронзового живописца в безмолвном и почти безлюдном уголке Монпарнаса эпично и красноречиво. В нем воскрешение легенд и мифов, в нем дань едва ли не самой странной и привлекательной фигуре Парижской школы с ее нищетой, свободой, неизбывной печалью, высочайшими взлетами, весельем и страданиями.
Во Франции ведь не боятся соединять вечность, почтение и улыбку. Памятник едва ли не самому почитаемому британцу – Уинстону Черчиллю – с непривычки может показаться просто карикатурой, да и бронзовый генерал де Голль, с длинным, как у Сирано де Бержерака, носом, с журавлиными ногами, быстро куда-то шагающий, – это не персонаж эпоса, а скорее один из героев «Острова пингвинов» Анатоля Франса (оба памятника – близ Гран-Пале). Признание смешным человека достойного и знаменитого – это на самом деле свидетельство восхищения, а главное, счастливая способность не принимать самих себя и даже людей знаменитых слишком всерьез, поскольку избыточная серьезность всегда свидетельствует лишь о комплексе неполноценности. И смех над собою – всем давно известно – признак силы и чувства собственного достоинства.
Эта скульптура Арбита Блатаса[87] – единственный в Париже памятник художнику Парижской школы. Есть, конечно, упоминавшийся «Пикассо-кентавр» Сезара, но там – грандиозная метафора. А здесь – портрет.
Может быть, и впрямь этот художник обладает особым даром творческого бессмертия. И уж конечно, несравненным талантом.
«Он знал только голод, побои, унижение, гнетущую скученность своей среды, которой он был уже чужд, против которой восстал, но стигматы которой никогда не стерлись», – писали о Сутине М. Кастен и Ж. Леймари. Впрочем, в отличие от Шагала, Сутин не изживал и не поэтизировал ни прошлое, ни родину. В его искусстве вообще не было ностальгии, пристрастий к времени или сюжетам. Он писал, что видел, и выражал, что чувствовал. Второе было главным.
В Париже он дружил более всего с Модильяни: странная дружба в глазах обывателей – денди, красавец Амедео, Моди, и увалень из нищей российской провинции. Общее пристрастие к вину – лишь обыденная слабость. По-настоящему их роднит страсть к искусству, к ценностям вечным, к поэзии – и старой, великой, и новой, которую они надеются открыть, роднит и ощущение жизни как боли, умение сострадать и ощущение это реализовывать в искусстве. Говорили, что Модильяни читал полуграмотному Сутину Данте, и тот понимал, угадывал прелесть терцин на неведомом ему языке. «Он гений», – говорил о Сутине Модильяни. «Это он, Модильяни, заставил меня в себя поверить», – говорил Сутин.
Не став, как Модильяни, трагическим героем монпарнасских легенд начала века, уехав из России слишком юным, чтобы делиться с ней потом своей славой, Сутин и во Франции остался пришельцем. Рассказывают, он так и не научился сносно говорить ни по-русски, ни по-французски, общался с людьми и сходился с ними трудно. Читал, однако, без затруднений, современники терялись, узнавая, что приехавший из неведомого белорусского местечка, не получивший образования оборванец, едва изъяснявшийся по-французски, читал и отлично знал Фрейда или Бальзака.
Сколько бы ни смотрел, ни читал Сутин, пишет он так, словно до него живописи не было вовсе, с каким-то яростным примитивным увлечением первооткрывателя. Будто впервые он видит тощие селедки, скрюченные огурцы – эту (так любимую Шагалом) пищу бедняков, и даже вилки чудятся истощенными, сжатыми голодным спазмом. Он обладал поразительной художественной отвагой: его завораживают первичные и грозные явления бытия, и кажется странным, что застенчивый, молчаливый, неловкий человек, о деликатности которого вспоминали многие, писал окровавленные туши быков, не остывшие еще куски плоти. Тут и страсть к изживанию детских воспоминаний (ритуальный забой и потрошение домашней птицы), и иное – более важное. Он, сам того не ведая, продолжал то, что начал Бодлер стихотворением «Падаль», – эстетизировал все, независимо от предмета и, скорее, вопреки ему. Он умер во время войны (1943), гибель его была мрачна и зловеща, с оттенком того же жуткого гротеска, что мерещился порой в его картинах: он скончался, когда его, уже смертельно больного, спасая от немцев, тайно перевозили в Париж, по слухам спрятав в траурном катафалке. Среди немногих, кто провожал Сутина на Монпарнасском кладбище, был Пикассо.
На том кладбище, где «Поцелуй» Бранкузи.
Странное это место – Монпарнас. Он словно бы не имеет четко очерченных границ, и его душа выплескивается далеко за его топографические пределы.
Ведь совсем недалеко от «Улья», рядом с книжным рынком, где несколько раз в неделю идет торговля драгоценными для библиофилов старыми и не очень изданиями, находится парк Жоржа Брассанса и места, где он жил и бедствовал, а потом, разбогатев, все равно продолжал жить спокойно, весело и просто. Но это уже иная тема, другая глава, иные «странствия души».
Словом, вероятно, прав был Кокто, утверждавший, что вся революция искусства происходила здесь, на камнях мостовой Монпарнаса.
Но даже он не знал, насколько драгоценными они, эти камни, станут для тех, кто будет ступать по ним многие годы спустя!
Htel du Nord
Погруженный в сон, Фобур-Сен-Мартен дарил тишину…
Робер Сабатье
«Htel du Nord» («Отель дю Нор») – название фильма Марселя Карне 1938 год по нашумевшему в свое время роману Эжена Даби. Поразительная актриса Арлетти (Леони Батиа) снялась в роли стареющей проститутки, подруги сутенера и бандита, которого сыграл знаменитый некогда Луи Жуве. По изысканно сентиментальному, тонко стилизованному трагизму картину можно сравнить с фильмом Рене Клера «Под крышами Парижа» («Sous les toits de Paris»).
Вот как писал об этой гостинице в своем романе Даби, так мало известный у нас, почти не переводившийся на русский язык писатель:
Из окон «Отеля дю Нор» виден канал Сен-Мартен, шлюз, где стоит в ожидании баржа, заводы и фабрики, доходные дома. Грузовики направляются вверх к бассейну «Ла-Виллет», а спускаются к предместью Тампль. Неподалеку Восточный, Северный вокзалы. Вечерами слышен монотонный шум воды, что бьется о стены шлюза. Это мрачные места: сонная вода, пустынные набережные, где бродили Леон Фарг и Жюль Ромен.
«Отель дю Нор» стоит рядом с улицей Гранж-о-Белль. Это старое здание из гипсовых плит на скверной основе, где живут водители грузовиков, моряки, каменщики, служащие, молодые рабочие[88]. Шесть десятков людей, которые уходят утром, около семи, и возвращаются лишь вечером, чтобы заснуть. Они обитают в комнатах, холодных зимой и душных летом; сырые коридоры, крутые лестницы.
Дни и недели монотонно следуют одни за другими. Пятьдесят четыре раза в год – воскресенья. В эти дни выходят на улицу, не бегут за трамваями, не толкаются в метро. В полдень спокойно завтракают; вечером ходят в кино. И затем – вновь начинается неделя… <…> В отеле есть кафе. Туда заходят, играют в занзи или в манилью[89]; говорят о политике; приходят служащие шлюзов, кучера, шоферы такси. Сидят тесно, пьют, плюют, смеются; и если патрон в хорошем настроении, поют. По субботам устраивают долгие партии в манилью, завтра воскресенье – праздник.
Двери хлопают, раздается шум шагов. На лестнице и в коридорах гостиницы встречаются с мужчинами девицы, задевают друг друга, прикасаются друг к другу. Любовная связь. И все комнаты похожи одна на другую. Мужчины подстерегают добычу, девицы терпят, иногда мстят. Никто не удивляется таким вещам, привыкли; а потом девиц утешают.
Время течет. Приходит лето. Когда солнце опускается за дома на набережной Вальми, хорошо пропустить стаканчик на террасе. Урчание машин уступает место свежему шуму шлюзов. Зажигаются фонари, влюбленные идут в сквер, старые дамы прогуливают собак. Звезды отражаются в черной воде канала. Свежеет воздух, порыв ветра приносит с внешних бульваров бормотание города. Легче дышится, наконец видно, как зазеленели на набережных деревья. И хочется уже думать о поездке за город.
В «Отель дю Нор» живут по нескольку месяцев. Однажды утром его покидают. Уезжают с чемоданом в руке, не обернувшись. Здесь, на канале, был воздух; сквер, где ночью ласкали друг друга влюбленные; шлюзы, по которым проходили груженные песком, камнями и/или углем баржи; летом нередко вылавливали утопленников. Все это позади. Бог знает, куда теперь мы попадем. В какие-нибудь сумрачные меблированные комнаты, в другой «Отель дю Нор», рядом с заводом, на котором станем работать.
Фарг, друживший с автором романа, добавляет свои подробности к этой картине:
А еще случаются драки между командами речных барж – и бокалы белого на оцинкованных стойках, сверкающих, словно рельсы. Бывают скороспелые любови в тихих нездоровых комнатах, невидимая жизнь консьержек, галоп лошадей, развозящих пивные бочки… <…> …шествия аккордеонистов, танцульки, банки, пакгаузы, лестницы, гудки, причудливые лабиринты чувств, встреч и разлук, их так замечательно ощутил мой дорогой Эжен Даби, с которым мы с одной улицы и из одного дома.
Судьба Эжена Даби заслуживает хотя бы краткого рассказа. В жизни его немало горечи: здесь и попытка самоубийства, и война – в конце войны Первой мировой он был на фронте. Потом пробовал учиться живописи, занимался даже в известной академии Гранд-Шомьер; смог заработать деньги продажей расписных шелковых тканей. Это помогло семье купить гостиницу – тот самый «Отель дю Нор», где Эжен исполнял обязанности ночного портье. Более богатые возможности для наблюдений трудно себе представить; в 1929 году Даби, которому едва исполнилось тридцать, опубликовал роман «Отель дю Нор», принесший ему успех и известность, а в 1931 году – премию «Народный роман».
Его поддерживали Андре Жид, Роже Мартен дю Гар. Жизнь ему улыбалась, он много писал.
А летом 1936 года по приглашению Андре Жида он вместе с ним и другими французскими писателями поехал в СССР. И еще совсем молодым умер в Севастополе от скарлатины.
Фильм «Отель дю Нор» с поразительной точностью резонирует ритмике прозы Даби, обстоятельной, краткой и горькой, и волшебному обаянию реального места: основное действие и происходит в маленькой гостинице на набережной канала Сен-Мартен, здание которой сохранилось по сию пору. Только сама набережная была иной: не было еще широких мостовых, запруженных автомобилями, и парочки сидели на скамейках, и гуляли, и даже танцевали, больше было лавок и кафе, меньше многоэтажных домов.
Уже после войны, когда здание гостиницы собирались сносить, парижане восстали и отстояли «главного героя» знаменитого и всеми любимого фильма (французы чрезвычайно привержены классическому кино, а картина того же Марселя Карне «Дети райка» вообще, как говорят, не сходит с экрана никогда). Тогда-то и возникла интрига: в пору борьбы за сохранение отеля нашлись достаточно аргументированные мнения и даже свидетельства касательно того, что снимали специально выстроенную декорацию, сам же отель в съемках «участия не принимал», а лишь пожинал лавры своего кинодвойника.
В ту пору действительно чаще всего снимали в павильонах. Известно, что съемки фильма и в самом деле происходили в декорациях знаменитого художника кино Александра (Шандора) Траунера на улице Сюлли, в студии «Булонь» в Булонь-Бийанкур – на окраине Парижа.
Сегодня гостиница выглядит совершенно такой же, как в фильме Карне, – достаточно сравнить черно-белую фотографию с кадром из фильма. Можно, конечно, снисходительно и даже саркастически улыбнуться восторгам тех, кто наивно и восхищенно любуется этой для многих сомнительной реликвией, заведением, где все достаточно дорого именно потому, что используется репутация места – «бренд», как сказали бы сейчас.
Впрочем, лучшее украшение ресторана – великолепный макет былого канала, его набережных, с кустарником, палисадником и скамейками, какими их описал Даби и снимал Карне.
Рене Клер говорил, что улицы Парижа делают интерпретацию жизни более настоящей, чем сама жизнь. Так и легенда знаменитого отеля куда реальнее, чем он сам – мнимый или настоящий!
Говорят, инспекторы с набережной Орфевр смеялись над комиссаром Мегрэ и его автором – Жоржем Сименоном, отыскивая нелепости в знаменитых романах. Охотно верю: профессионал всегда найдет в художественной литературе неточности по своему ведомству, и позубоскалить над ошибками прославленного литературного героя – единственный способ потешить уязвленное самолюбие. Какой сыщик из плоти и крови не завидовал славе никогда не существовавшего дивизионного комиссара! Впрочем, думаю, что полицейский значок и ключи от главных кабинетов, которые на той же набережной Орфевр преподнесли Жоржу Сименону, доказывает со всей несомненностью, что выдуманные герои – хорошо это или плохо, не знаю – остаются в истории и чтятся порой больше, чем подлинные персонажи…
Так и «Отель дю Нор». Что нам за дело, снимал Карне настоящую гостиницу или ее имитацию! Набережная канала Сен-Мартен – отличное место для подобных раздумий и воображаемых встреч. Конечно, весь Париж наполнен великими тенями, и повторю еще и еще: Эварист Гамлен Анатоля Франса или Жорж Дюруа Мопассана мерещатся среди прохожих ничуть не в меньшей степени, чем Стендаль или Поль Валери.
Но канал – тема особенная.
В мерцании света и теней Парижа он может показаться самым темным и опасным, и опять-таки не столько благодаря своей действительно невеселой репутации, сколько литературным или кинематографическим ассоциациям. Если уж говорить о книжных, вошедших в реальную жизнь героях, то, конечно же, он – это дивизионный комиссар Мегрэ, в тяжелом пальто с бархатным воротником, в котелке и с трубкой в зубах, грузный, с руками в карманах; вот он неторопливо шагает по набережной, он ведь и живет поблизости, по правой стороне (если подниматься от Бастилии) бульвара Ришар-Ленуар. Тем более бульвар этот – не что иное, как улица над спрятанным под землю каналом Сен-Мартен. Именно здесь, в канале, как докладывают каждое утро комиссару, находят утопленников, а то и брошенные тела убитых. Говорят, когда в одном из бесчисленных фильмов, снятых по романам Сименона, Мегрэ сыграл Жан Габен, писатель уже не представлял своего героя иначе. В самом деле, здесь есть нечто большее, чем совпадение, есть нечто киплинговское: «Мы одной крови, ты и я».
В фильме «Отель дю Нор» есть странные и несомненные ассоциативные и даже зрительные связи с романами о Мегрэ: именно он мог бы расследовать несостоявшееся самоубийство в гостинице на канале, именно он (скорее, чем циничный инспектор в фильме, блестяще сыгранный Арманом Люрвилем) мог бы понять трусливую робость не решившегося выстрелить в себя юноши, ведь это он, Мегрэ, говорил, что «никого не презирает». О Сименоне рассказано и написано очень много дурного. Не знаю, что сплетни, что соответствует действительности, но его книги, и особенно романы о Мегрэ, были для меня открытием Парижа, я и сейчас считаю их большой литературой, а автора и самого героя – достойнейшими проводниками и в обыденность города, и в сердца его обитателей.
Почти каждый роман о Мегрэ начинается описанием утренней погоды, и педантичный критик без труда усмотрит в этом шаблон. Думаю, дело обстоит не так просто.
Если человек живет в Париже – неделю, месяц или всю жизнь, – он всегда воспринимает утро как единство погоды и города, как особое состояние неба, уличных ритмов, оттенков Сены, как эпиграф наступающего дня, как некий камертон того, как проживет он все эти часы до ночи, когда темнота сделает едва ли заметными оттенки уходящего дня. Париж очень разный в разную погоду, и человек, чьи труды и дни связаны с запутанной и сложной жизнью города, входит в день, настроенный солнцем или дождем.
Парижане чрезвычайно остро воспринимают солнце, ненастье, тепло – это события, точки отсчета, это сродни их отношению к еде. Опять – Стайн: «Единственно важно что происходит сегодня». В этом смысле романы о Мегрэ наделены традиционной увертюрой, заданной тональностью утра, которое отчасти и предугадывает развитие действия.
Это придает романам некую «захватывающую монотонность», внутри которой трагедии маленьких людей подобны неслышным взрывам, масштаб которых понимает, пожалуй, лишь дивизионный комиссар, который «никого не презирает».
Днем дождь перестал. По крайней мере, он не был виден, но мостовые оставались мокрыми и становились все грязнее по мере того, как по ним шагали люди. Позднее, к четырем часам пополудни, незадолго до того, как стемнело, такая же, как утром, желтоватая мгла опустилась на Париж, затуманивая свет фонарей и витрин.
Эта картина города в начале романа «Мегрэ и человек на скамейке» – действительно камертон мрачной истории, разворачивающейся в ненастном Париже в середине октября.
Герой Сименона входит в чопорные особняки Сен-Жерменского предместья, в грязные меблированные комнаты за Монмартром, в стерильную квартиру дряхлой старушки на набережной Межиссери, в пыльный и пустой днем зал стрип-бара, в роскошную квартиру на авеню Фош, в магазин антиквара и кухню фешенебельного отеля у Елисейских Полей, повсюду оставаясь самим собою и позволяя читателю увидеть его глазами ничтожность границ, разделяющих эти разные миры. Его разговор с клошаром, бывшим врачом, – словно итог его опыта и размышлений:
– Никому жизнь не дается легко, – продолжал бродяга.
– Как и смерть…
– А вот судить – невозможно.
Они поняли друг друга.
О, как это много для постижения Парижа!
Настороженность и приветливость маленьких кабачков, приторная раздражительность немногих сохранившихся консьержек, любезная говорливость старушек, усталая надменность чиновников, странная таинственность монмартрских кафе, ожидающих вечера, чтобы стать притонами, горделивый демократизм бедняков, обилие чудаковатых персонажей, и эта наполненность, опять-таки «намоленность», лавочек, брассри, вокзалов, почтовых контор, это ощущение равенства неравных – это все в большой мере со страниц Сименона.
Да, говорят, он был снобом, стяжателем, развратником, коллаборационистом и еще невесть кем, но что мне за дело до этого, если его герой научил меня – хоть чуть-чуть – понимать в Париже то, что так и осталось бы навсегда мне невнятным.
Не помню, где в точности жил Сименон в бытность его в Париже, где-то на площади Вогезов (как одно время и Мегрэ). Но зато отлично знаю, где жил Мегрэ, – на правой стороне бульвара Ришар-Ленуар, если идти от Бастилии, хотя с номером дома и остались неясности. Но есть «пространство Мегрэ». Я понимаю, на каком автобусе ездил он до Шатле (на 96-м, вероятно) и почему на бульвар Пастер ему было проще доехать на метро, чем на такси: одна пересадка, а на машине через центр – долгая дорога.
Сен-Мартен мало похож на «Париж вообще», и в этом чудо Парижа: он складывается из мозаичных осколков, вроде бы чуждых ему, но только из этих непохожестей он и возникает во всем своем своеобразии.
Вероятно, в начале шестидесятых я видел фильм «Улица Прери» с Мари-Жозе Нат и Жаном Габеном, снятый в 1959 году режиссером Дени Ла Пательером, тем самым, который через несколько лет с тем же Габеном снял знаменитую картину «Гром небесный».
«Улица Прери» по настроению и стилистике несколько напоминала «Порт-де-Лила» («На окраине Парижа») Рене Клера, хотя была и легче, и мелодраматичнее. Но здесь было много настоящего Парижа, совершенно незнакомого даже по книгам: в этой картине город был скучноватым, бедным, лишенным особой романтики, но теплым и трогательным. Жан Габен играл старого рабочего, чуть смешного, но наделенного поразительным чувством собственного достоинства. В этом смысле фильм был очень парижским, да и вообще героев Габена в Париже я вспоминаю невольно и часто. Все они чуть-чуть похожи на Мегрэ, похожи прежде всего поразительной естественностью.
Но улица Прери – совершенно другой конец Парижа, двадцатый округ, неподалеку от Пер-Лашез и Гамбетта. Там нынче удобно снимать Париж тридцатых-сороковых годов: мало машин, нет новых домов, остановившееся время.
А канал Сен-Мартен, конечно, изменился, эти романтически-мрачные места нынче входят в моду, на набережных строят современные богатые дома, жилье там дорожает, квартал несколько, если можно так выразиться, «потерял свой жанр».
В новых домах поселились люди, прежде этим местам чужие, много стало машин тех марок, что раньше парковались в Нейи или на авеню Фош, а на набережных можно и сейчас встретить прежних их обитателей: любопытных фланеров, клошаров – старожилов этих мест, экзотического вида, косящих несколько под моряков служителей шлюзов и вполне сомнительного вида молодых людей, не столько опасных, сколько культивирующих стилистику квартала Сен-Мартен. И странно, трогательно и печально выглядит там, среди кустов и деревьев, и нелепый и изящный памятник гризетке работы Жана Бернара Декона (1911). Это был государственный заказ безымянной героине, неизвестной посыльной из цветочного магазина, кокетливой, застенчивой, свободной в чувствах и бедной. Из тех милых и работящих юных парижанок, которые, как полагал Бальзак, соединяли философию с эпикурейством, а трудолюбие – с покорностью судьбе. Трогательный памятник героине уходящих времен, персонажу многих страниц многих книг, может быть, и Фантине Виктора Гюго.
Часть канала – от улицы Фобур-дю-Тампль – в шестидесятые годы XIX века спрятали под землю, и только за площадью Бастилии вода снова открывается взгляду и канал соединяется с Сеной.
Станция метро «Бастилия» («Bastille») – над водой: за одной, прозрачной стеною виден водоем у Сены (Порт-де-л’Арсеналь), а напротив над платформой – нечто вроде мозаики, где с нарочито-трагической, лютой серьезностью, а в сущности, очень смешно (как во франсовском «Острове пингвинов») изображены сцены Великой революции. И так, что сознание словно бы освобождается от гнета действительно трагических воспоминаний.
Там, где канал выходит вновь на поверхность – между Бастилией и Сеной, всегда просторно, светло, спокойно и безлюдно. Ведь именно там, на бульваре Бурдон (фактически это набережная канала) встретились Бувар и Пекюше, герои последнего саркастического и трагического и, к несчастью, незавершенного романа Флобера: «…бульвар Бурдон был совершенно пуст. <…> Показались двое прохожих. Один шел от Бастилии, другой – от Ботанического сада…» (Гюстав Флобер. Бувар и Пекюше).
Странные это места: здесь и в самом деле сплетаются времена, даже может показаться, один пейзаж просвечивает сквозь другой, как при «наплывах» в кино, что-то мерещится, что-то вспоминается, что-то настойчиво и материально пробивается в старый образ Парижа: и сохраненные на мостовой очертания грозной крепости, и легкая колонна, возносящая к небу Гения свободы, и громада Опера-Бастий, и шумная толпа тинейджеров на роликах, и кафе, кафе…
Вообще, реальный Париж куда больше того, о котором можно прочитать в самом серьезном путеводителе. Речь даже не о том, что называется «Большой Париж» или «Собственно Париж» и включает в себя бывшие пригороды – banlieues. Нет, я говорю о том городе, что ограничен двадцатью округами, по которому ходят обычные автобусы, о городе первой и второй «транспортной зоны», – словом, о старом Париже.
Повсюду возникают нежданные сооружения, вокруг них вырастают то случайно, то согласно продуманному плану некие пространства «нового парижского оживления», и парижане радостно устремляются туда в ожидании новизны, но непременно преисполненные скепсиса. Пале-Омниспор (Palais Omnisports – Дворец всех видов спорта) и разбитый рядом парк на набережной Берси, напротив Библиотеки Миттерана, стал новым центром притяжения, сюда приезжают охотно: здесь пусть искусственный, но с сохранением неких парижских старых интонаций уголок – ресторанчики, лавки, кафе не то чтобы стилизованы под старину, но подчинены ее неписаным законам, былое не навязывает свое присутствие, но обозначает его, стало быть, отважный Париж еще раз одержал маленькую победу.
Тем более совсем неподалеку не слишком веселая, но пленительная своей странной «окраинной величавостью» площадь Насьон (бывшая Тронная), которой заканчивается улица Фобур-Сент-Антуан с ее двумя торжественными колоннами и нестоличным печальным простором, и совсем странная, из романов о Мегрэ, улица Пикпюс, – словом, если и не старинный, то старый, привычный Париж.
Париж вряд ли кто-нибудь может узнать вполне. Иной раз в скверную погоду или не в силах более ходить пешком мы садимся в автобус неведомого еще маршрута и едем до самого terminus, до конца. За редким исключением конец маршрута довольно скучное место, из которого немедленно хочется уехать в милый и прекрасный «настоящий» Париж.
Но в ожидании следующего автобуса непременно начинается невольный диалог с неведомым и, казалось бы, безликим и угрюмым местом. И он, этот диалог, оказывается если и не слишком увлекательным, то поучительным, и странные эти окраины навсегда остаются в памяти.
Один раз поздним мартовским вечером автобус № 42 доехал до terminus близ парка Ситроен. Из автобусного репродуктора прозвучали ритуальные слова: «Конечная станция, все пассажиры приглашаются к выходу». Жилых домов, тем более кафе или магазинов не было вовсе, вокруг застыли тускло, но эффектно и торжественно подсвеченные безмолвные, уходящие в туманное небо бесконечно высокие дома: офисы, учреждения, страховые компании – неведомо что, кипящее днем и совершенно омертвелое ночью. Все это было призрачно, мрачно, но необыкновенно красиво и торжественно: открылся Париж, отчасти, вероятно, напоминающий Дефанс, но странно оторванный от города, незнакомый, великолепный.
Другой terminus – 39-го автобуса – оказался в Исси-Валь-де-Сен, на краю пятнадцатого округа. Был конец осеннего воскресного дня, большие дома, безликие, но респектабельные и, несомненно, дорогие и удобные, стояли вдоль широких прямых проспектов. Редкие магазины и совсем уже редкие кафе были по случаю выходного закрыты. В Париже по воскресеньям закрытое кафе не редкость, но ни одного открытого – сенсация. Город показался мертвым – несправедливо, конечно, люди живут как хотят, и, судя по спокойным лицам, одежде, дорогим машинам, ухоженным скверам, живут комфортабельно и в достатке. И это тоже – Париж, самый натуральный Париж, естественная и привычная обитель многих горожан. И не понять старый город, не зная новых его окраин: малость и значение древнего центра ощутить можно именно здесь, рядом с конечной остановкой автобуса, в новом, удобном, богатом – тоже Париже.
Дальние районы или кварталы Парижа, каким в свое время был и канал Сен-Мартен, чаще всего в прошлом городки или пригороды, banlieues, где прежде был свой центр: церковь, ратуша, главная площадь. Эхо тех времен угадывается, когда на перекрестке скучных, пустынных, почти безликих, почти «непарижских» улиц вдруг замелькают разноцветные тенты кафе и ресторанов, зеркально блеснут небольшие, но неожиданно богатые и очень дорогие магазины. Состоятельные люди, «буржуа», как часто говорят в Париже, рантье, издавна здесь селившиеся, любят свои неподалеку от дома расположенные давно знакомые фешенебельные рестораны, и покупки делают поблизости, и аперитивы пьют в привычных местах. Chez-soi.
Сен-Мартен, пожалуй, лишен этих качеств былого предместья, он при всей своей недавней, да и не изжитой еще провинциальной брутальности сохранил мрачный шик подлинного Парижа – Парижа апашей, клошаров, проституток (хотя здесь их встретить труднее, чем в иных местах), бродяг.
Но этот «мрачный шик» отчасти все же порождение нашего знания и литературных ассоциаций. Странные и мрачные фигуры здесь действительно не редкость, но и повсюду в Париже их немало. Однако главное – редкое и единственное сочетание урбанистической суровости железных высоких мостов для пешеходов, разводных переездов, по которым пересекают канал машины, шлюзов с их старинными таинственными механизмами и этой совершенно особенной, сумрачно-зеленоватой, тускло-блестящей воды, то совершенно неподвижной, то пенистой, густой и тяжелой, когда она гулко падает в шлюз, ожидающий очередное судно, баржу или прогулочный кораблик «бато-муш».
Старые деревья нависают над водой канала, погружая его в вечные и несколько романтические сумерки, вдоль воды по низкому берегу бредут редкие фланеры, а машины на проезжей части, словно они из другой, поспешной обыденной жизни, с обычной быстротою проносятся мимо. Порой можно поверить, что здесь навсегда поселилась тревожная печаль.
На солнце (стоит ему пригреть, хоть в декабре, и лето вспыхивает на несколько мгновений) набережные канала обретают сонную безмятежность, тишина повисает над ними, нагретый металл мостов, ограждения, шлюзы, потеплевшая вдруг неподвижная вода погружаются в сиесту, дремлют над своими бокалами, рюмками и чашками задумчивые завсегдатаи пока еще дешевых, очень старых кафе, Сен-Мартен нежится, дремлет, жизнь с удовольствием останавливается, даже машин словно бы делается меньше, даже кораблик, названный «Арлетти» в честь игравшей в фильме «Отель дю Нор» актрисы, кажется навсегда остановившимся в шлюзе.
На канале чаще, чем в других местах, встречаешь странных людей, чудаков, которыми богат Париж. Именно здесь милый, нескладный молодой человек, прогуливавший забавного пса, в ответ на наши улыбки улыбнулся с непритворной радостью и сказал: «Правда мы похожи, он такой же смешной, как я!»
Сколько достоинства в том, кто может сам над собой смеяться и быть счастливым!
А дождь, или сумерки, или холодный ветер, что сметает сухие листья с тротуаров и хлопает калитками, ставнями, рябит тяжелую зеленую воду, гудит в конструкциях железных мостов, – это все мгновенно делает набережные канала пустыми и зловещими, хочется свернуть в боковую улицу, в обычный, мигающий теплыми огнями город, не замечающий ни ветра, ни дождя, ни даже самой темноты…
«Comment ne pas perdre la tte…»[90]
Сегодня бал достойных людей.
Сальвадоре Адамо
У Парижа, конечно же, не только своя палитра, не только свой цвет, но и свой голос. Сегодня бы сказали: «soundtrack» – звуковая дорожка. Музыка – ее важнейшая составляющая, важнейшая, но не самая заметная. Есть пища для всех пяти чувств.
В Париже давно уже не слышно автомобильных клаксонов, только иногда в мучительных пробках нервные водители начинают сигналить, даже переругиваться, но изящество галльских оборотов вкупе с самим звуком языка Буало и Мериме русское ухо не режет. «Приведи ко мне свою мамашу, чтобы я тебя переделал!» – кричал один таксист другому. Для России это почти Версаль…
Липкий шелест шин, приглушенный гул моторов, резкий, тревожный треск опасно быстрых мотоциклов и мотороллеров, грохот роликовых коньков по асфальту тротуаров, тоскливый звук тревоги – сирены полицейских машин, пожарных автомобилей или лощеных мрачноватых фургонов с гербами полицейских отрядов особого назначения CRS (Companies rpublicaines de scurit). Эти сирены часто раздаются и ночами: не так уж спокоен город Париж, да и охраняют его настойчиво, внимательно, скрупулезно.
Парижский полицейский, будь то обычный ажан или налитый мускулами слегка угрюмый «сэ-эр-эс», всегда глянцево выбритый, в свежей униформе, блестящих ботинках, с гербом Парижа на рукаве, встречает (не всегда, разумеется; Париж – не волшебная сказка) взгляд прохожего с улыбкой, а на пустой улице или в поздний час на безлюдной набережной еще и любезным «добрый вечер!», и за этой улыбкой не просто парижская традиция, но еще и безмолвная поддержка: «мы здесь». Почти все они рядовые, скромные нашивки сержантов редки, а увидеть полицейского в форме с лейтенантским серебряным галуном – большая редкость. Капитан с тремя шевронами – это очень большая редкость и очень большой начальник. Выше и задумываться страшно.
Вообще, офицеры в форме по Парижу не ходят и не ездят. За все мои поездки в Париж я давно и только один-единственный раз видел на автобусной остановке армейского подполковника – пять шевронов, два серебряных, три золотых[91]. Он явно был смущен, французы объяснили: военная форма не для улицы и показывать свой чин, тем более высокий, неприлично и смешно. Даже из ворот Военной школы (академии) – cole militaire – на Марсовом поле выезжали в машинах, судя по стати и лицам, офицеры высших рангов в цивильных костюмах, оставив мундиры на службе. Лишь 14 Июля или во время каких-либо особых церемоний можно видеть блестящих военных в парадной форме – grande tenue, слегка не то чтобы смешной, но какой-то весело великолепной, чуть театральной и в высшей степени элегантной. И только тогда идущие во главе своих отрядов большие полицейские начальники красуются в синей униформе с погонами, украшенными серебряными дубовыми ветками.
Ну а о республиканской конной гвардии в синих мундирах, золотых касках и с палашами мне, выросшему на любви к мушкетерам, что сказать! Быть может, лишь то, что их лица (случается и близко увидеть этих великолепных всадников, когда они возвращаются в казармы после очередной церемонии) всегда в высшей степени серьезны и значительны. Как у детей, играющих в рыцарей.
Свистят полицейские редко; свистят громко и много только те, кто служит по ведомству уличного движения, – они размахивают руками и вообще ведут себя так, будто продают что-то. При этом пробки как-то рассасываются: полицейские расправляются с ними стремительно и умело.
Как бы французы ни смеялись над собственной леностью и плохой организованностью, Франция – страна профессионалов.
Не знаю, есть ли другое государство, где с таким восторженным уважением относятся к пожарным – даже во время парада 14 июля им аплодируют больше, чем любой иной части. Эти молодые сильные спокойные люди, в синей, строго сшитой из какого-то блестящего иссиня-черного материала форме с красным значком на груди, первыми приходят на помощь. Не только тушат пожары: спасают людей в любой беде – могут вытащить их из-под завалов, оказать медицинскую помощь, принять роды, наконец, просто взять на себя ответственность в сложной ситуации и найти системное логическое решение. При этом, насколько мне приходилось – и не раз – видеть, они приучены к служебной деликатности. Если помогают старику, которому стало плохо на улице, они не только внимательны и умелы, но непременно приветливы и ласковы, это тоже обязательное качество их работы. Их ореол и репутация – следствие не патетического героизма, но блестящей выучки и профессиональной точности. Так и гарсон в кафе не прольет пива, метельщик улицы не запачкает вас пылью. Это профессионализм, а профессиональное умение спасать важнее, чем героические порывы дилетантов.
Естественно, запахи, цвета и звуки – разные в разных концах Парижа, в разных его округах и даже кварталах.
«Мой квартал» – в Париже понятие многозначное и очень важное. В совершенно официальном смысле это четвертая часть (quartier) и, значит, «четверть» округа (arrondissement). Такое деление произошло в 1795 году и окончательно установилось в 1860-м, когда в Париже количество округов дошло до нынешнего – двадцати. Однако, если спросить у прохожего (обычно именно так начинают разговор, желая узнать дорогу): «Vous tes du quartier?» (дословно – «Вы из этого квартала?»), это подразумевает, что вы интересуетесь, здесь ли обитает ваш возможный собеседник, знает ли он эти места. И разумеется, речь не об официальной топографии, а о некоем неопределенном пространстве, среде обитания, ограниченной привычкой, знанием и, конечно, любовью, если ее не сменила раздраженная усталость или неудовольствие местом, где пришлось жить.
В отличие от итальянцев, грузин, латиноамериканцев, французы (если только они не профессионалы) хором поют редко и не очень искусно. В кафе и брассри (нынче это почти одно и то же), даже в китайских закусочных часто звучат – всегда негромко – известные песенки Пиаф, Греко, Брассанса, Монтана, Дассена. Не слышал, чтобы им подпевали, но слушают с удовольствием, иначе бы хозяева их не включали.
Музыкальный фон Парижа вздрагивает и балансирует на невидимой границе между туристскими банальностями и застенчивым консерватизмом, привычкой к знакомому и давно любимому, между обаятельной фальсификацией и строгим профессионализмом. Ленивый музыкант, наигрывающий на концертино в вагоне метро мелодию Леграна, Лемарка или Ульмера, вызывает усталое раздражение, ему платят неохотно, но на лицах иных парижан мелькает отблеск радости – все же это ритуал, маргиналии парижской музыки и ее вульгаризированное эхо.
На угол бульвара Сен-Мишель и улицы Гей-Люссака, что рядом с фонтаном Ростана у Люксембургского сада, иногда привозят рояль, собирается несколько музыкантов. Играют современную музыку, рок, регтаймы, иногда все те же вечные песенки. Свист шин, шум улицы не мешают ощущению концерта, люди стоят как в зале, деньги не собирают и не бросают – их почтительно кладут в раскрытый скрипичный футляр, спрашивают, когда следующий концерт. Серьезные музыканты летом около кафе – особенно на Левом берегу – не редкость. Их сразу отличают, говорят как с артистами – видимо, знают.
В ресторанчике на улочке Грегуар-де-Тур, неподалеку от Сен-Жермен-де-Пре, седой человек, сам себе аккомпанируя, поет песни Монтана. Похоже, не настоящий профессионал, но поет хорошо и серьезно, рассказывает, что был с Монтаном знаком, наверное лукавит, но и сам он как-то не слишком настаивает на достоверности сказанного.
И на улицах уже не поют хором, как в фильме Клера «Под крышами Парижа».
Когда-то в тридцатые годы песенку Рауля Мретти на слова Рене Назеля, давшую название фильму, знали и напевали во всем мире:
- «Sous les toits de Paris
- Tu vois ma p’tit’ Nini
- On peut vivre heureux et bien uni!»[92]
Фильм прославлен и почти забыт, а мелодия и само это словосочетание – «под крышами Парижа» – еще живет на окраинах нашей памяти. И вызывает смутные черно-белые картины бедной парижской улицы (скорее всего, декорации, тогда натурные съемки были редкостью), на ней прохожие, которым продают листки с текстом песни, и они поют ее под аккомпанемент шарманки или аккордеона. Кепки, широкие брюки, шейные платки, распахнутые воротники, ножи в карманах, песенки, гренадин, вино, абсент, танцы, любовь, смерть…
Кажется, канувший в прошлое мир апашей, наивной любви и нехитрых страстей забыт, как и фильм Клера. О нем напоминают – и трогательно, и банально – лишь уличные музыканты, лениво наигрывающие на концертино мотивы тридцатых годов где-нибудь на монмартрских улицах. И конечно, едва ли не в каждом брассри слышны всем знакомые мелодии парижских песенок – от Шевалье и Пиаф до Брассанса и Азнавура.
Чаще всего – Греко, Дассен, Монтан, Брассанс.
Для человека из России, тем более из России советской, именно Монтан стал первым после давно забытого и тогда не вспоминавшегося никем фильма Клера музыкальным символом таинственного и недосягаемого Парижа.
В середине пятидесятых у нас было повальное увлечение Монтаном – еще бы! У нас пели «Сормовскую лирическую», «Провожают гармониста в институт…». А тут… Других французских певцов мы не знали, в Монтане сконцентрировалось все, а главное – Париж, Париж. Еще почти не понимая слов, я ощущал прельстительность потаенных интонаций города:
- Au printemps
- Sur les toits les girouettes
- Tournent et font les coquettes
- Avec le premier vent
- Qui passe indifferent
- Nonchalant…
И это знаменитое:
- J’aime flner sur les grands boulevards
- Y a tant de choses, tant de choses
- Tant de choses а voir
- On n’a qu’а choisir au hazard
- On s’fait des ampoules
- A zigzaguer parmi la foule
- . . . . . . . . . . . .
- a fait passer l’temps
- Et l’on oublie son cafard[93]
Я писал, что видел Брассанса в фильме Клера «Порт-де-Лила» примерно тогда же, в пятидесятые. Фильм был мрачным, щемящим, значительным, но для меня тогда не вполне внятным. «Артиста» – так звали героя Брассанса, у него не было имени – я тем не менее запомнил, он словно бы был из иного, чем фильм, мира. Целую жизнь спустя я прочел превосходное определение литератора и кинокритика Леонардини: роль Артиста была «сшита вручную по его мерке».
Потом «Шербурские зонтики» с музыкой Мишеля Леграна, с этими речитативами, с этой горькой, щемящей французской интонацией, где слово и музыка едины, словно порождая друг друга. Все больше становилось пластинок, и даже на фоне пандемии «Битлз», утверждающегося рока и всего того, что куда важнее было для нашей протестной культуры, вкус и нежность к французскому шансону росли как часть вечной и неутолимой ностальгии по недосягаемой Франции. В конце семидесятых душами владели Дассен, Далида, и даже просто короткие музыкальные фразы Косма или Лея в фильмах, казалось, обладают особой французской интонацией, грациозной и чуть печальной.
Все же ничего не меняется в Париже.
Да, День взятия Бастилии едва ли отмечен танцами на площадях под аккордеон. Только в казармах пожарных устраиваются многолюдные, но скучноватые дискотеки. А ведь еще совсем недавно Ив Монтан пел песенку Франсиса Лемарка:
- …Depuis qu’а Paris
- On a pris la Bastille
- Dans chaque faubourg
- Et chaque carrefour
- Il y a des gars
- Et il y a des filles
- Qui sur les pavs
- Sans arrt nuit et jour
- Font des tours et des tours
- А Paris[94].
Просто что-то начинает происходить иначе, не так и не там, но остается непременно.
В февральский, холодный для Парижа полдень – градусов пять выше ноля – на улице Муффтар, точнее, на площади у собора Св. Медара, где берет начало знаменитая «Муф», когда уже шумел традиционный рынок, начала собираться по-особенному оживленная, сосредоточенно радостная маленькая толпа.
Там были юные барышни со светло распахнутыми веселыми глазами, одетые не то чтобы нарядно, но старательно и празднично, как сейчас едва ли принято одеваться. Корректно накрашенные дамы от двадцати и до неопределенно преклонных лет, подтянутые, до шелковистого глянца выбритые господа – люди в том возрасте, который во Франции определяется деликатным выражением «entre deux ges» (дословно: «между двумя возрастами»), чтобы избежать более печального – «troisime ge» («третий возраст»).
Звуки «Муф» были самыми обычными воскресными звуками: рынок имеет свою оркестровку – крики продавцов, их веками срежиссированная веселая перебранка – фарсовый театральный вариант колоритно описанных Золя ссор торговок на Центральном рынке.
Но вот – живой аккордеон, веселые голоса, и очевидно, что здесь не просто слушатели и зрители, с одной стороны, и музыканты – с другой, но что происходит некое общее событие, встреча, праздник, свидание друзей.
В самом деле. Это было нечто вроде того, что прежде называлось «le bal musette» или просто «la (le) musette», иными словами, своего рода импровизированный бал, танцевальная площадка – мюзет, то самое место, где, как в песенке Монтана, «font des tours et des tours а Paris…».
Всем желающим – совершенно как в фильме Рене Клера – раздавали отпечатанные на ксероксе тексты песенок. Заиграл аккордеон, и не юная, но прелестная своей открытой веселостью, страстной музыкальностью, звонким, с хрипотцой голосом и ясными глазами дама громко запела.
Она пела «Mon amant de Saint-Jean», старую песенку, еще в годы войны сделавшую знаменитой двадцатипятилетнюю Люсьен Делиль.
- Je ne sais pourquoi j’allais danser
- А Saint-Jean, au musette,
- Mais il m’a suffi d’un seul baiser
- Pour que mon cur soit prisonnier.
- Comment ne pas perdre la tte,
- Serre par des bras audacieux
- Car l’on croit toujours
- Aux doux mots d’amour
- Quand ils sont dits avec les yeux
- Moi qui l’aimais tant,
- Je le trouvais le plus beau de Saint-Jean,
- Je restais grise
- Sans volont
- Sous ses baisers.
- Mais hlas, а Saint-Jean comme ailleurs
- Un serment n’est qu’un leurre;
- J’tais folle de croire au bonheur
- Et de vouloir garder son cur.
И все подпевали ей, как полвека назад. И грустили при последних словах:
- Il ne m’aime plus,
- C’est du pass, n’en parlons plus[95].
Пусть придут в воскресный полдень сюда те, кто утверждает, что в Париже нет красивых женщин, и, как писал Булгаков: «Да отрежут лгуну его гнусный язык»!
Столько красавиц я не видывал нигде! И в самом деле – «сomment ne pas perdre la tte», и не только даже от них, от ошеломляющего легкого и чистого веселья, от этого совершенно французского «la vie est belle!», ощущения, секрет которого, наверное, известен только в этой стране! Сколько прелестных лиц! И озаренные утраченной юностью почти старушечьи личики, и зрелые, трогательные и смешные в детском своем веселье дамы средних лет, и дети, и растерянные, но покоренные дивным зрелищем случайные прохожие, и музыканты, и все – рбвно счастливые: «La vie est belle!».
«Правил бал» господин в кепке, далеко уже не молодой, напоминавший героев-апашей, этих коварных charmeurs из фильмов тридцатых годов, с лицом сухим, надменным и опасно красивым, остававшимся бесстрастным во врея танцев. Танцевал он неустанно, непрерывно, совершенно профессионально, был занят только и исключительно танцем и никаких эмоций по отношению к своим партнершам не проявлял: его словно бы интересовало лишь то, как они танцуют. А удостоенные его внимания дамы, даже те, кто танцевал блистательно, робели, стеснялись и так старались, что порой путали фигуры.
Каждое воскресенье он приходил в другом наряде, но всегда в кепке, что увеличивало его сходство с персонажами старых кинокартин. Нельзя было поверить, что он может устать, хотя порой по лицу его в буквальном смысле слова стекали струи пота; казалось, это не пенсионер, а танцор на сцене – настолько он был серьезен и поглощен своим делом, настолько усталость его была усталостью профессионала. Одно время он ходил с изящной бородкой а la Генрих III и стал еще изысканнее, этот неутомимый и блистательный танцор по имени Мишель, с лицом героя классических фильмов «noir et blanc».
Возникало ощущение нерасторжимости времен, непрерывности традиции. Не в теории – в самой жизни.






