В поисках Парижа, или Вечное возвращение Герман Михаил
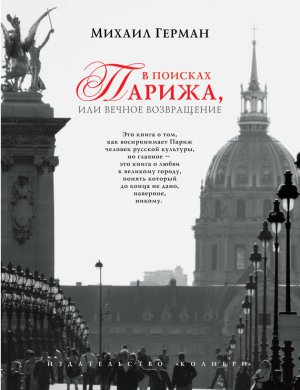
Лестница и вестибюль были отделаны с кричащей роскошью. Внизу женская фигура в костюме неаполитанки, вся вызолоченная, держала на голове амфору, из которой выходили три газовых рожка с матовыми шарами. Вместе с лестницей до самого верха спиралью поднимались стенные панели под белый мрамор, окаймленные розовым бордюром, а литые чугунные перила цвета старинного серебра с поручнями красного дерева были украшены узорами из золотых листьев. Красная ковровая дорожка, придерживаемая медными прутьями, устилала ступеньки. Но больше всего поразило Октава то, что на лестнице было жарко, как в теплице; струя нагретого воздуха из отдушин калориферов пахнула ему прямо в лицо (Эмиль Золя. Накипь).
Любопытно, что Золя употребляет по отношению к роскоши необычное прилагательное «violent», происходящее от глагола «насиловать».
Париж – город балконов.
Окна жилых этажей, как правило, до пола и либо выходят на узкие балконы, либо просто забраны снизу легкими решетками (так называемые французские); дом прозрачен, наряден, кое-где над окнами – яркие, чаще всего красные тенты, аккуратно поливаемые цветы. А выше – эти закругленные, «лобастые» крыши, непременные мансарды, высокие, тонкие ржаво-алые трубы, тянущиеся к небу.
О них с такой нежностью, как о примете уходящего века, писал Аполлинер еще в начале минувшего столетия:
- О старина XIX век мир полный высоких
- каминных труб столь прекрасных
- и столь безупречных[42].
Париж хорош тем, что подобного рода зданий в нем очень много, даже в районах, от центра достаточно удаленных. «Великолепный Париж» бульваров, площадей, торговых улиц – он возникал еще до Османа. Гоголь писал о «широких бульварах, царственно проходящих поперек весь тесный Париж» (отрывок из незавершенного романа «Рим»). Как никто, увидел он эту великолепную столицу времен романтических щеголей, Дюма и графа Монте-Кристо:
Он ждал с нетерпением Парижа, населял его башнями, дворцами, составил себе по-своему образ его и с сердечным трепетом увидел, наконец, близкие признаки столицы: наклеенные афиши, исполинские буквы, умножавшиеся дилижансы, омнибусы… наконец, понеслись домы предместья. И вот он в Париже, бессвязно обнятый его чудовищною наружностью, пораженный движением, блеском улиц, беспорядком крыш, гущиной труб, безархитектурными сплоченными массами домов, облепленных тесной лоскутностью магазинов, безобразьем нагих неприслоненных боковых стен, бесчисленной смешанной толпой золотых букв, которые лезли на стены, на окна, на крыши и даже на трубы, светлой прозрачностью нижних этажей, состоявших только из одних зеркальных стекол. Вот он, Париж, это вечное, волнующееся жерло, водомет, мечущий искры новостей, просвещенья, мод, изысканного вкуса и мелких, но сильных законов, от которых не властны оторваться и сами порицатели их, великая выставка всего, что производит мастерство, художество и всякий талант, скрытый в невидных углах Европы, трепет и любимая мечта двадцатилетнего человека, размен и ярмарка Европы! Как ошеломленный, не в силах собрать себя, пошел он по улицам, пересыпавшимся всяким народом, исчерченным путями движущихся омнибусов, поражаясь то видом кафе, блиставшего неслыханным царским убранством, то знаменитыми крытыми переходами, где оглушал его глухой шум нескольких тысяч шумевших шагов сплошно двигавшейся толпы, которая вся почти состояла из молодых людей, и где ослеплял его трепещущий блеск магазинов, озаряемых светом, падавшим сквозь стеклянный потолок в галерею; то останавливаясь перед афишами, которые миллионами пестрели и толпились в глаза, крича о 24-х ежедневных представлениях и бесчисленном множестве всяких музыкальных концертов; то растерявшись, наконец, совсем, когда вся эта волшебная куча вспыхнула ввечеру при волшебном освещении газа – все домы вдруг стали прозрачными, сильно засиявши снизу; окна и стекла в магазинах, казалось, исчезли, пропали вовсе, и все, что лежало внутри их, осталось прямо среди улицы нехранимо, блистая и отражаясь в углубленьи зеркалами.
Столь чуткий к архитектуре писатель заметил в Париже эту искристую тревогу, этот зыбкий блеск – город, а не памятники его, не колоннады, не шпили, не старые камни.
Париж именно в ту пору, когда писал эти строчки Гоголь, готовился стать тем Парижем, которым он видится сейчас, но писатель будто почувствовал дыхание близящихся перемен, заложенных в самой природе Парижа. Близилась эпоха Османа.
Еще сравнительно недавно – лет полтораста назад – Париж был не просто романтически-средневековым, он был городом, где жить было плохо и трудно. Прекрасные площади украшали, но не спасали его. И изменился он так стремительно и бурно, именно преображенный «сабельными ударами» Османа.
В начале XIX века путешественники передвигались верхом или в каретах с той же скоростью, что и Александр Македонский, пароход на Сене казался курьезом, и даже воздушные шары – монгольфьеры – воспринимались скорее развлечением в духе версальских празднеств, нежели предтечей технического прогресса. А в тридцатые годы по Европе уже мчались поезда, пароходы стали обыденностью, снимались дагеротипы – начиналась фотография. Еще позднее, в конце столетия, в мопассановском Париже зазвонили телефоны, строилось метро, горели электрические фонари, вскоре братья Люмьер показали кино. Изменилось то главное, что в принципе меняло художественные коды, – представление о пространстве и времени.
Романтический Париж, город старых, как он сам, зданий, узких, кривых улиц, средневековых воспоминаний и легенд, словно бы вырастая из самого себя, ожидал перемен, изнутри взламывая не только свою архитектуру, топографию, планировку, но сами неписаные установления давно сложившегося существования, того, что французы называют le petit train-train de la vie.
Куда проще представить себе средневековый, мушкетерский Париж (я видел его на иллюстрациях Лелуара к Дюма и вдохновенно рисовал его сам!), чем город середины XIX века.
Если и не самые красивые, но самые «парижские», очаровательные и роскошные здания сравнительно молоды и не имеют ничего общего с классической архитектурой, с «древними камнями Европы». Не было в классическом Париже ни Гранд-Опера, ни площади Звезды, почти не было широких авеню, диковинкой оставались описанные Золя в «Добыче» особняки, вереницы экипажей, катившиеся в сумерках от Булонского леса к новым особнякам у бульвара Курсель и парка Монсо:
Сверкание сбруи и колес, лакированной обшивки карет, отражавшей зарево заката, яркие тона ливрей на лакеях, чьи фигуры вырисовывались на фоне неба, и богатые туалеты, в изобилии наполнявшие экипажи, – все это уносилось в мерном движении…
Но достаточно бросить взгляд на парижские пейзажи импрессионистов шестидесятых годов, чтобы почувствовать пустынность тогдашней столицы: низкие старые дома, спускающиеся с холмов в долину Сены, тесные улицы, пустыри, город почти без садов, скверов и парков, без Эйфелевой башни и купола Сакре-Кёр, где над Парижем одиноко царит Пантеон на холме Св. Женевьевы. Даже авеню Елисейских Полей еще не стала центральной улицей, «блистательный Париж» ограничивался в середине XIX века западной частью Больших бульваров (восточная их часть была более демократической, театральной), богатыми кварталами на север от Пале-Руаяля; особняки знати и богатых буржуа теснились около улиц Шоссе-д’Антен, Эльдер, на Левом берегу – в Сен-Жерменском предместье – это уже почти пригород, как Нейи или Отё. Прежде аристократические кварталы вокруг Королевской площади опустели, Париж дряхлел, величественные ансамбли Вандомской площади, площади Согласия или Пале-Руаяля казались островками гармонической стройности в хаосе неопрятной старины.
Я люблю пирамиды у Лувра. Своей отважной неожиданностью они в отдаленном родстве с перестройками времен Османа, хотя художественное их качество мало с чем сравнимо.
Еще в шестидесятые годы перед музеем был милый, но скучный садик. Ныне же музей распахнут времени и миру. Когда я смотрю на эти полупрозрачные конструкции, словно отлитые из матовых цельных кристаллов, сквозь которые мерцает резной камень ренессансных фасадов, я ощущаю странное умиротворение, счастливое ощущение того, что почти тысячелетнее строительство Лувра и всей этой единственной в мире перспективы – от Тюильри до Дефанса – наконец-то завершилось. На моем веку. И почти на моих глазах.
Пирамиды! Фантомы будущего перед величием прошлого, они кажутся мне не просто уместными – необходимыми, словно творение Лево и Лемерсье век за веком ожидало гениального китайского (американского) зодчего Юй Мин Пея, чтобы обрести свой окончательный, вписанный в минувшее и грядущее облик. Они уже стали обыденностью, к ним привыкли даже те, кто не принимает их. Их тщательно и буднично моют специальным шампунем рабочие, которых поднимает на подвесных скамеечках огромный кран.
И сколько бы я ни читал, сколько бы ни видел старых гравюр, не могу представить себе, что до османовской перестройки даже здесь, где теперь пирамиды, между крыльями, что соединяли Лувр с не сожженным еще коммунарами Тюильри, на площади Карузель, рядом с Триумфальной аркой, сохранялись старые особняки (в одном из них жил Жерар де Нерваль), лишая великолепные здания королевских резиденций цельности и величия.
Всякий новоприезжий, попавший в Париж хотя бы на несколько дней, прогуливаясь по городу, заметит, что между калиткой Лувра, ведущей к мосту Карузель, и Музейной улицей стоит десяток домов с полуразрушенными фасадами, о восстановлении которых не заботятся оставшиеся владельцы, ибо дома эти представляют руины старого квартала, обреченного на снос с того самого дня, когда Наполеон решил завершить постройку Лувра. Улица и тупик Дуайене – вот единственные пути сообщения в этом мрачном и пустынном квартале, населенном, вероятно, призраками, ибо там не увидишь ни одной живой души. <…> Дома, и без того заслоненные подъемом со стороны площади, вечно погружены в тень, которую отбрасывают стены высоких луврских галерей, почерневших от северных ветров. Мрак, тишина, леденящий холод, пещерная глубина улицы соревнуются между собой, чтобы придать этим домам сходство со склепами, с гробницами живых существ. <…> Зрелище, уже само по себе страшное, становится жутким, когда видишь, что эти развалины, именуемые домами, опоясаны со стороны улицы Ришелье настоящим болотом, со стороны Тюильри – океаном булыжников ухабистой мостовой, чахлыми садиками и зловещими бараками – со стороны галерей и целыми залежами тесаного камня и щебня – со стороны старого Лувра. <…> Вероятно, признано полезным оставить в неприкосновенности этот вертеп как своего рода средство символически изобразить в самом сердце Парижа то сочетание великолепия и нищеты, которое отличает королеву столиц (Оноре де Бальзак. Кузина Бетта).
Какая же была нужна благородная, но и варварская отвага, чтобы так изменить Париж в пору, которой история Франции вряд ли может гордиться, в годы, опошленные знаменитым призывом Гизо «обогащайтесь», Париж нуворишей, Париж Аристида Саккара!
Французская столица превращалась в решительно иной город, наделенный невиданными ритмами, новыми пространственными эффектами, стремительностью движения. Здесь мало что напоминало город из «Картин Парижа» Себастьяна Мерсье или из «Отверженных» Гюго.
Но каким-то чудом остался там и Париж Мерсье, и Париж Гюго. Скорее всего, наверное, потому, что история и само былое означено в Париже не только архитектурой, но и многим другим.
Пале-Руаяль едва ли изменился за последние двести лет – те же статуи, те же аркады. Но иная течет в нем жизнь. Когда-то, в начале XIX века, там было множество лавок, трактиров, игорных заведений, ныне же магазины и дорогие кафе в сумраке аркад; великолепные цветники тщаниями искусных садовников восхищают посетителей (сочетания растений, их цвета и оттенки – настоящая школа высокого вкуса в парижских садах), на скамейках и металлических стульчиках, как и сто, и пятьдесят лет назад, читают, вяжут, едят сэндвичи, мечтают или дремлют парижане и парижанки всех возрастов, и фонтаны плещут легкими зыбкими струями, нежно туманя воздух светлыми брызгами.
Однако забавные и дерзкие черно-белые колонны – инсталляция модного художника Даниэля Бюрена – не слишком заметны, похожи на пеньки, к ним привыкли, никто уже не думает о том, навсегда ли поселились они перед входом в аллеи парка. Но они настойчиво напоминают о дне сегодняшнем и предупреждают: все может здесь быть – любая выставка, любая неожиданность. И в самом деле, огромные и мощные создания известнейшего современного скульптора Арнальдо Помодоро, выставленные здесь в 2002 году, выглядели отлично: Пале-Руаяль – место утех, церемонных прогулок и революционных сборищ – остался самим собою!
Там, на парижских улицах, быть может, впервые я понял, почувствовал, увидел, что XIX век принес никак не меньше перемен и потрясений, чем даже наш, двадцатый. Хотя бы потому, что предшествующая история ничего подобного не знала, а сравнивать настоящее можно лишь с минувшим. Не говоря о кровавых войнах и революциях, сменах династий и правлений, так называемый обыкновенный мир переживал невиданные метаморфозы. А Париж – он с конца XVIII века пережил три революции, восстания, войны, две оккупации, перевороты, Коммуну.
Кто знает, вопреки потрясениям или благодаря им город обрел новые ритмы, открылись просторы непривычно широких улиц, явилась новая толпа, суетная, элегантная, мерцающая нарядами, жестами, особой столичной торопливостью. Менялся воодушевленный, перепуганный, усталый и полный надежд Париж, наполненный в полном смысле слова «блеском и нищетой».
В книжных магазинах Парижа – будь то огромный шестиэтажный «Жибер Жозеф» на бульваре Сен-Мишель или «либрери» небольшого музея – непременно найдутся две-три книги, посвященные барону Осману. Прежде почиталось хорошим тоном его бранить, теперь он в моде. В иных случаях мода небесполезна, появляется новая и обширная информация. Дело, разумеется, не в знаменитом префекте: преображение Парижа (почти угаданное Гоголем) было востребовано временем, оно назрело, было необходимо и неизбежно.
И не будь Османа, человека действительно в своей сфере выдающегося, его миссия была бы исполнена кем-то другим (или другими). Барон был, разумеется, не более чем точкой приложения множества исторических, социальных и эстетических сил, которым он (как и Наполеон III) сумел подчиниться умно и конструктивно. Тем более что идея перепланировки Парижа, превращения его в город с прямыми просторными улицами, город, приспособленный для подлинного прогресса, появилась еще в годы Великой революции, и Комиссия художников при Конвенте разработала отважный план обновления столицы. План, который в значительной мере был использован в годы Второй империи. Неизбежность перемен, необходимость преображения города и само это преображение связаны со становлением импрессионизма множеством запутанных нитей.
Говорили, император хотел избавиться от опасных кривых и узких улиц, где так удобно было строить баррикады и грабить обывателей, что, разбивая сады и парки, он хотел задобрить парижан etc. Но Наполеон III понимал и неизбежность прогресса, хотел, чтобы его столица была не музеем, но современным функциональным, эффективно развивающимся городом. Живя в изгнании, в Лондоне, будущий император оценил высокий уровень цивилизации британской столицы, ее комфорт, парки, удобство жизни. В отношении градостроительства он даже отдал дань идеям Сен-Симона. Каков бы ни был «Наполеон Малый» (Гюго), его политическая риторика во многом убедительна:
Париж – сердце Франции. Давайте приложим все наши усилия, чтобы благоустроить этот великий город, улучшить жизнь его обитателей, убедить их в необходимости соблюдать собственные интересы. Давайте откроем новые улицы, оздоровим народные кварталы…
И в самом сердце столицы – Средневековье.
Хотя квартал Дворца правосудия невелик и хорошо охраняется, он служит прибежищем и местом встреч всех парижских злоумышленников. <…> Обшарпанные дома смотрели на улицу своими немногими окнами в трухлявых рамах почти без стекол. Темные крытые проходы вели к еще более темным, вонючим лестницам, настолько крутым, что подниматься по ним можно было лишь с помощью веревки, прикрепленной железными скобами к сырым стенам. Первые этажи иных домов занимали лавчонки угольщиков, торговцев требухой или перекупщиков завалявшегося мяса (Эжен Сю. Парижские тайны).
Сите – торжественный центр старого Парижа, а здесь в ту пору иной раз в крошечной комнате могли жить двадцать человек: «…эти узкие, грязные улицы, обрамленные пятиэтажными домами, где нет привратников, переполнены самыми бесчестными и развращенными жителями столицы. Именно квартал Сите ужасающим образом контрастирует с набережными и памятниками, которые его окружают…» (официальная информация 1840 года). А о равнине Монсо, где ныне красивейший парк, полиция доносила: «самое темное место парижских предместий».
Все эти улицы, проходя по которым думаешь: вот он, настоящий Париж, – улица Ренн от Монпарнаса к набережной Сены, бульвары – Осман, Сен-Жермен, Распай, нынешний Сен-Мишель[43] с открытой на набережную площадью, украшенной помпезным, раскритикованным современниками, но великолепным фонтаном; отсюда до нынешнего Восточного вокзала, через бульвар дю Пале на острове Сите, бульвар Себастополь (севернее он превращается в бульвар Страсбург) – все это возникало лишь в османовском Париже, как и улица 4 Сентября, бульвар Мажента, парки Монсури, Бют-Шомон.
Начало шестидесятых – время строящихся вокзалов.
Их скоро начнут писать и Эдуар Мане, и Гюстав Кайботт, и Клод Моне. Едва оформленные дебаркадеры тогда открывались прямо в город, на месте нынешнего Восточного вокзала была еще просто станция Страсбургской железной дороги, Сен-Лазара – Руанской и Гаврской, вокзала Аустерлиц – Орлеанской, Монпарнаса – Восточной[44]. И хотя не было не только современных вокзалов, но даже их названий, но гудки паровозов, лязг буферов, запах дыма – все это становилось обыденностью Парижа.
Именно около будущего вокзала Сен-Лазар открылся в 1865 году универсальный магазин («большой магазин», как стали говорить во Франции), названный «Printemps» («Прентан» – «Весна»), построенный на только еще прокладываемом бульваре Осман, практически на пустыре. Огромный магазин, где продавалось все на свете, – это было сенсацией, переворотом. Вскоре стали возникать и новые – «Галерея Лафайет» рядом с «Прентан», «Лувр» на Риволи, позже «Бон-Марше» на Левом берегу – гигантские торговые дома, прообразы знаменитого «Дамского счастья» из одноименного романа Золя, универмага, который фантазия писателя возвела на площади Гайон, рядом с авеню Опера.
Цитированный монолог Аристида Саккара, смотрящего с вершины Монмартра на Париж, еще не догадывающийся о грядущих потрясениях, – своего рода пролог к наступавшей эпохе.
У меня есть карта Парижа, изданная в начале 1860-х годов, я вспоминаю ее, глядя на город с Монмартра. Она вызывает ощущение причастности к действительно грандиозным и способным напугать и встревожить переменам. В ту пору принято было помечать на карте не только существующую планировку, но и намечаемые новые проспекты. Непреклонно прямые красные и синие штрихи действительно, как выразился Саккар, подобные «сабельным ударам», рассекают густые старинные кварталы. Очень редко, проходя по какой-нибудь из этих улиц, я замечал срезанный угол дома, искусственный (или он только казался таким?) перекресток – следы «ударов», следы той спасительной жестокости, что и портили, и спасали Париж, следы, которые можно сравнить с глубоким шрамом от операции, сохранившей жизнь.
У грандиозной перестройки Парижа времени Второй империи больше жестоких порицателей, нежели вдумчивых поклонников. И конечно, с точки зрения строгого вкуса и исторического такта деятельность императора и префекта воспринимается чуть ли не как варварство.
В самом деле, несть числа снесенным средневековым, не имеющим цены своей значимостью и красотой зданиям. Из поэтического города дворцов, соборов и средневековых улиц Париж стал – во всяком случае, в центральных своих районах – городом респектабельным, столичным, фешенебельным, неизбежно что-то теряя в своей легендарной поэтичности и обретая новый урбанистический комфорт и тот облик, который определяет и сегодняшнее от него впечатление.
…Отныне Париж стал городом XIX века. Такое простое и незначительное утверждение все еще вызывает скандал, но тем не менее мы вынуждены его придерживаться. Свой современный облик Париж приобрел при Османе и благодаря Осману. С этим можно не соглашаться, отказываясь смотреть в глаза якобы невыносимой правде. <…> Если города действительно представляют собой последовательные наслоения, то основным периодом создания архитектурного облика Парижа следует считать вторую половину XIX века, прошедшую под покровительством Османа. Отныне Париж неделимый город: он был, плохо это или хорошо, „османизирован“» (Б. Фукар).
В Париже – особенно в центре – стало легче двигаться, ездить, дышать, дома стали снабжать сносной системой водопроводов и сточных труб, появились ванные и вполне современные гигиенические устройства. Парижская канализация стала настолько совершенной для своего времени, что от Шатле до Мадлен по новым просторным подземным коллекторам – на специальных плотах – совершали экскурсии даже светские дамы! И формула нового комфорта – «Eau et gaz а tous les tages» («Вода и газ на всех этажах»)[45] – родилась именно тогда. Таблички с этими надписями еще сохранились на некоторых парижских домах – одна из них на стене дома неподалеку от гостиницы «Де Мин» («Htel des Mines») на бульваре Сен-Мишель, в комнатке которого обдумывалась эта книга.
Образ города, степень его представительности, столичности, лоска определяют не только (порой и не столько) благородные памятники старины, но именно внешний образ комфорта, элегантность, размах. В Париже возникали невиданные ритмы, уже в начале восьмидесятых говорили о новом транспорте:
Обсуждался грандиозный проект подземной железной дороги. Тема была исчерпана лишь к концу десерта – каждому нашлось что сказать о медленности способов сообщения в Париже, о неудобствах конок, о непорядках в омнибусах и грубости извозчиков (Ги де Мопассан. Милый друг).
Грохот колес наполнял город, заглушаясь в центре новым макадамовым покрытием улиц, стремительное мерцающее движение текло по проспектам, где еще не осела пыль недавних строек. Уже были омнибусы, обслуживающие пассажиров на железнодорожных вокзалах; «семейные», которые заказывали по часам для загородных прогулок, и другие; было уже и несколько маршрутов конок (они сначала назывались «американскими железными дорогами», потом – трамваями); у Биржи теснились шеренги фиакров, у застав появлялись станции почтовых карет. Все быстрее катились всевозможные экипажи, коляски, тильбюри, ландо, наемные фиакры и кареты. Стремительно множились маршруты омнибусов (ставших со времени Всемирной выставки 1855 года двухэтажными), к концу 1860-х их было уже более тридцати; кареты начали красить в различные для каждой линии цвета и снабжать разноцветными сигнальными фонарями. Так, пересекавший весь город от южной окраины до станции Северной железной дороги омнибус «V» был светло-коричневым с красным и белым фонарями, а ходивший по Большим бульварам на Монмартр омнибус линии «H», который видели изкафе «Риш» жена Аристида Саккара и ее пасынок Максим, – желтым с двумя красными фонарями: «Каждые пять минут проезжал батиньольский омнибус с красными фонарями и желтым кузовом и, заворачивая на улицу Лепелетье, сотрясал своим грохотом дом». Именно здесь, в Белом кабинете знаменитого кафе «Риш» (в ту пору это уже был один из первых парижских ресторанов) на углу Итальянского бульвара и улицы Лепелетье, происходит преступное свидание Максима с Рене – женой его отца.
Мраморная лестница, мраморные стены, перила из бронзы, персидские жардиньерки. <…> Мебель работы Ру, достойная самого Буля, бронзы Барбедьена[46], панели из оникса, бархатные портьеры, обюссонские ковры, искусно сделанные стулья, скатерти и салфетки, достойные короля, великолепное серебро, очаровательная нежность свечей (Путеводитель по Парижу времен Второй империи).
Это та роскошь, которой отличается особняк Саккара и подобных ему нуворишей.
Те, кто хотел видеть истинный и новый лик Парижа, менявшегося с оглушающей и ослепляющей стремительностью, должны были, если так можно выразиться, «переводить зрительное восприятие в другой регистр», учиться видеть метаморфозы города сквозь тысячи подвижных, мерцающих, слепящих мелочей, минуя «сверкание сбруи и колес» (Золя), тяжелую пыль от сносимых зданий и новых строек, безобразную роскошь новых ресторанов (как упомянутый «Риш») и особняков, эклектичных, лишенных вкуса, подобных дому Саккара, описанному в той же «Добыче»:
Большое здание под тяжелой шапкой черепицы, с золотыми перилами и обилием лепных украшений, новое и бесцветное, напоминало важный лик разбогатевшего выскочки. То был новый Лувр в миниатюре, один из характерных образцов стиля Наполеона III, пышной помеси всех стилей.
Приговор знаменитого зодчего и теоретика архитектуры Виолле-ле-Дюка подобного рода сооружениям вообще беспощаден:
Это анархия: Рим, Византия, романский стиль, своды, плафоны, железные конструкции, конструкции из камня и кирпичей, заостренные башенки, купола, высокие крыши, террасы и т. д. Все здесь соединено, но без единства мысли!
И все же только в Париже можно любоваться и радоваться не возвышенной красоте зданий, но их пышному великолепию. Удивительный город! Он обладает волшебной способностью эстетизировать роскошь.
Даже универмаги – генераторы того явления, которое много позже назовут «обществом потребления», – по-своему великолепны. Архитектор Бальтар, угодивший императору проектом нового здания Восточного вокзала, выстроил металлическую громаду Ле-Алль (Les Halles) – знаменитого Чрева Парижа – и церковь Сент-Огюстен (стилизованное под готику сооружение на сверхсовременном металлическом каркасе), ставшую центром нового модного квартала у бульвара Малерб, где на улице Генерала Фуа жила Мишель де Бюрн, героиня романа «Наше сердце» Мопассана.
Нет, Париж, обладавший всегда божественной способностью все перемены обращать на пользу собственному великолепию, не стал хуже от османовских перестроек. Именно тогда появилась эта поразительная особенность парижских пейзажей: ошеломляющий контраст широких эспланад и площадей, нежданно открывающихся в проемах узких средневековых улиц, особый синкопированный ритм величественного и миниатюрного, парадоксально синтезирующий грандиозность нового с грацией былого, – словом, многие качества, замеченные, опоэтизированные и оставленные на холстах импрессионистами.
«Эстетизация роскоши» сгущается в центре города, где не только универмаги, но и раззолоченные фасады магазинов и кафе сливались в зрелище если не утонченное, то великолепное благодаря магическому влиянию парижской атмосферы, которая саму пошлость способна была растворить во всеобщем поэтическом сияющем тумане. Никто не утверждает, что Гранд-Опера – архитектурный шедевр, и я – сколько бы раз ни проходил мимо – ощущал нечто вроде смущенного восторга: сердце мировой столицы, толпа вокруг, все с упоением любуются зданием, которое знакомо с детства по открыткам и гравюрам.
Знаменитый Оперный театр на улице Лепелетье, почти на углу Итальянского бульвара, с залом на 1800 зрителей (официально – Императорская академия музыки, а в просторечии – Опера-Лепелетье), сгорел осенью 1873 года. Но уже достраивалось гигантское здание нового оперного театра по проекту еще никому не известного Шарля Гарнье – теперь чаще всего его так и называют: Опера-Гарнье.
Почему эта гигантская бонбоньерка, это нагромождение статуй, лепнины, позолоты, лампионов, балюстрад, эта запредельная помпезность, этот триумф эклектики способен покорить всех и каждого!
Гарнье почти доказал, вопреки суждению древних («строит богато тот, кто не умеет построить красиво»), что богатство и роскошь могут если и не заменить, то лукаво и почти успешно подменить красоту, стать не худшей, просто совершенно иной эстетической категорией, способной не только льстить общественному сознанию, но и радовать глаз и душу. Архитектор сумел перевести гармонию на язык богатства, отнюдь не потеряв тяжелую, отчасти и наивную красоту.
И оказалось, что здание блестяще выдержало испытание временем, отлично вписалось и в пространство Парижа XXI века, смогло остаться его неоспоримым украшением.
И даже росписи Шагала, сделанные им по предложению Андре Мальро на плафоне зрительного зала (1963–1964), выглядят вполне уместно, ибо – кто б мог подумать – архитектура Гарнье не столько эклектична, сколь универсальна, способна побеждать само время и вступать в диалог с искусством новых веков.
Тем более что в пору окончания строительства Опера-Гарнье ее фасады становились не только произведениями зодчества, но более всего праздничной декорацией для прогулок парижских бульвардье, которые чувствовали в золоченых колоннах богатство, грезившееся героям Золя, как прежде бальзаковскому Растиньяку. И остались таковыми, с той разницей, что Бульвары, увы, перестали быть центром светского Парижа.
Именно в те времена и именно в Париже мог прославиться и великий Гюстав Доре, мощный, неутомимый талант: вот уж кто умел «эстетизировать роскошь»! Почти гений – или просто гений, как и Дюма, не вошедший в каноническую историю культуры, но, несомненно, эту культуру создававший.
Этот художник, сам весьма склонный к «пышной помеси всех стилей» (Золя) как в жизни, так и в собственном искусстве, становился вполне естественным посредником между публикой своего времени и терцинами Данте, мудростью Сервантеса, веселой глубиной Рабле. Его иллюстрации к классике – это, если угодно, перевод мудрых книг на пышный и нарядный, как фасады Опера-Гарнье, язык Второй империи.
Полузнание (чуть-чуть обо всем) было и тогда опорой для вкуса нуворишей. «Demi instruit – double sot» («Наполовину ученый – вдвойне дурак»), – говорят французы. Приблизительность знаний и самоуверенность заказчиков создавали определенную атмосферу и вкус времени.
Есть некая тревожная тайна в том, что славу и блеск Франции и Парижа во многом создали писатели и художники, никак не входящие в каноническую историю культуры: Гарнье, Доре, Дюма, Жюль Верн. Возможно, потому, что истинный вкус и темперамент нации выражают не гении, а те, кто ближе к земле, к обыденному представлению о красоте и мечте? Попробуйте представить себе Францию без Гранд-Опера, без иллюстраций Доре к Перро, без мушкетеров и Паганеля!
Нет, это не мастера «второго сорта», но мастера иного эстетического пространства, широкого и вольного, чье искусство, сохраняя собственные и высокие качества, помогает точнее ощутить художественную атмосферу страны и ее столицы во все царства и все времена!
Ничто здесь не чуждо друг другу.
Как в скромном брассри естественным образом встречаются важный чиновник в галстуке от Ланвена с маляром в комбинезоне, так божественный купол собора Инвалидов – черный в золоте гирлянд (это прекраснейшее, подобное парче, сочетание есть, кажется, в одном лишь Париже) – высится на Левом берегу, вовсе не мешая с удовольствием рассматривать смешной и по-своему многозначительный памятник де Голлю у Елисейских Полей. Паганель – смешной персонаж «не великого» Жюля Верна – родной брат славного академика Бонара, героя одного из лучших романов Анатоля Франса. И кто знает, какими чудесными нитями связаны мечтания Жюля Верна с грандиознейшим созданием французского гения – Эйфелевой башней, Tour Eiffel![47]
Вот где она в полном своем масштабе – отвага Парижа!
Построенная ко Всемирной выставке 1889 года как временное сооружение, долженствующее продемонстрировать достижения архитектурной мысли и новейших инженерных возможностей, башня стала памятником началу новейшей архитектуры, силе интеллекта и устремленности в будущее. В пору ее возведения кто бы рискнул подумать, что она останется в Париже навсегда?
Но она занимала и волновала парижан уже в процессе постройки, на излете XIX столетия. Сам феерический процесс ее возведения стал чем-то вроде (используя современную терминологию) художественной акции. Он длился два года, привлекал толпы любопытных: прогулки на Марсовом поле вошли в моду. О том, как возмущались ею, как негодовали «лучшие умы», как ее полюбили и любят, писали и пишут! Против ее постройки выступали Леконт де Лиль, Шарль Гарнье, Мопассан, Дюма-сын (глумились позднее и над гимаровскими входами в метро).
Сооружение трехсотметровой вертикали, к тому же лишенной реальной практической пользы и традиционных элементов «архитектурной красоты», башни, грозившей изменить сам образ столицы, взять на себя функцию ее «зрительной доминанты», приводило в смятение даже радетелей новизны.
Она стремительно и радикально меняла эмоциональное и эстетическое пространство Парижа. А после окончания постройки столица стала иной – Эйфелева башня, независимо от того, вызывала она хвалу или хулу, воздействовала на воображение: те, кто смог взглянуть на город с высоты 300 метров, переместились в совершенно иное измерение. Здесь «алгебра, поверенная гармонией» (Пушкин), явила синтез совершенного математического расчета со стилистикой ар-нуво. Любопытно при этом, что железные дороги и вокзалы были опоэтизированы Эдуаром Мане и импрессионистами, но Эйфелева башня вошла в искусство, когда живопись подходила к абстракции (из классиков XIX века ее писал, и то как часть дальнего фона, лишь Писсарро), а в литературе ее восславили Аполлинер и Кокто.
Открытость и логика конструкции, ощущение совершенной функциональности, соединенное со скромной «машинной» орнаментикой, ассоциирующейся сегодня с первыми иллюстрациями к Жюлю Верну, восхитительное единство стиля, ощутимое повсюду – от размаха устоев до лифтовых механизмов и заклепок, – все это придает сооружению некую вечную значительность. Небоскребы Дефанса и других окраин давно переросли ее, но, как известно, не высота определяет впечатление монументальности, а место и пропорции. И с Правого берега – от Трокадеро, и от Эколь Милитер – с Левого берега (это, так сказать, «канонические» точки зрения») она не перестает восхищать масштабом и тяжкой точностью, с которой она стоит на земле.
Но есть и иное.
Поразительно, что ее ничто не может «банализировать»: по-французски banaliser означает не просто «опошлить», но и лишить своеобразия, особенностей. Тысячи, если не миллионы ее изображений на сумках, блузках, каскетках, миниатюрные и гигантские китчевые модели, башня-часы, башня-барометр, башня-брошка, башня-брелок, башня-чернильница etc. – столь же непременные аксессуары туристического Парижа, как открытки с видом Триумфальной арки или шелковые фуляры с видами столицы. И все это не имеет никакого отношения к истинной ее эмоциональной роли.
Да и не стоит в Париже опасаться банальностей: избитые истины здесь лишь подтверждаются и не становятся трюизмами, любящий взгляд всегда найдет радость в этом ошеломительно смелом взлете башни на противоположном берегу, в высоких облаках над нею, или тумане, где прячется иногда ее верхушка, или в пыльной позолоте деревьев Марсова поля, рядом с которой ее конструкции кажутся еще грациознее и значительнее.
И до сих пор, подходя к ней близко, даже опытный путешественник, которого не удивишь и подъемом на нью-йоркский Эмпайр-стейт-билдинг, глядя снизу на эти металлические балки, арки, кронштейны, тросы, на алые коробочки лифтов, уже более ста двадцати лет возносящиеся на трехсотметровую высоту, на парижское небо, кажущееся совершенно феерическим и еще более парижским сквозь эти, простите за трюизм, «железные кружева», но иначе, право, и не скажешь, испытывает и почти религиозный восторг, и наивное удивление тем, что на исходе позапрошлого века сумели выстроить нечто подобное.
Вероятно, многое, что было выстроено в Париже, не стало архитектурными шедеврами, но город ничего не отверг.
Казалось бы, целый лес небоскребов, видимых совершенно отчетливо за Триумфальной аркой, столько лет завершавшей знаменитую на весь мир перспективу! Варварство, надругательство, святотатство!
Но эти грандиозные и легкие постройки, словно перекликающиеся с пирамидами перед Лувром, не дают городу остановиться. Они, право же, ничему не мешают – гигантские паркинги, километровые туннели дарят новое дыхание усталой старине. И гул ветра под сводами Большой арки, ее надменная холодность, ее горделивая стать так к лицу Парижу, умеющему все обращать себе на пользу, все добавлять к своей таинственной привлекательности.
Сколько опасений, сколько споров шумело вокруг возведения Центра Помпиду в семидесятые годы!
Я знал и слышал о нем, но впервые увидел случайно, просто проезжал мимо на автобусе, когда со стороны улицы Ренар (то есть со стороны, противоположной главному фасаду) появилось сооружение для Парижа, как мне показалось, просто противоестественное: зеленые и голубые трубы, желтые узкие вертикальные фермы, красные конструкции – словно в старом центре возникло нечто вроде химкомбината. В автобусе раздавалось злобно-насмешливое шипение – парижане негодовали.
Но Центр Помпиду так просто и уместно встал внутри старого города, был так смел, неназойлив и функционален, в нем было так интересно и весело. Позже я познакомился с коллегами, там работавшими. Они были влюблены в свой странный дом, говорили о нем так, будто сами его придумали (хотя сотрудникам-то как раз было там тесно и неудобно). Они заразили меня своей любовью, я почувствовал его естественную конструктивную открытость, естественность цвета: зеленый для водопроводных труб, голубой – для воздуха, желтый – для электричества, красный – для «динамических элементов» (лифтов и эскалаторов): функции здания были вынесены наружу, сохраняя пространство для собственно музейных и выставочных дел.
Зато как превосходно оборудовано все для выставок, какая царственная свобода фантазии – Париж так стар, что новизной его можно только порадовать! А главное, удалось не только само здание, но новая жизнь возникла рядом с ним, Париж принял его весело и просто. У торца на площади Стравинского – фантастический фонтан с динамическими скульптурами[48], разноцветными, страшными и смешными. Здесь все шевелится, вертится, брызгает переплетающимися струями: рука с растопыренными пальцами, огромные красные шевелящиеся губы – оживший кадр из эротического журнала, и череп, и масса всего. И вся эта механическая фарандола словно бы оттягивает на себя внутреннее смятение людей, им проще и забавнее жить, страшное становится веселым, все оборачивается карнавалом, мнимостью, забавой. И так всё перед Бобуром, фокусники, музыканты, певцы, шпагоглотатели, уличные художники, туристы и парижане. Это не похоже ни на Монмартр, ни на Латинский квартал, в этом карнавале – своя тревога, он принадлежит новейшему времени, но он уже стал частью Парижа.
Да, как говорил Гюго, Париж «дерзает».
Здесь даже очень старые дамы одеваются наряднее и смелее молодых.
Иной раз на восьмидесятилетней «коксинель» надет алый костюм, на подагрических ножках – изящнейшие туфли на высоком каблуке. И много украшений, дешевой, но шикарной бижутерии, а возможно, и настоящих драгоценностей, золота, серебра, и камней, на первый взгляд вовсе не гармонирующих друг с другом. Она идет с трудом, опираясь на палочку, и кажется – после такой прогулки ей придется несколько дней пролежать в постели.
Но на лице ее выражение счастья – «La vie est belle!» – она горда жизнью, она любит свои «бижу» и с простодушной радостью показывает их, не слишком заботясь, насколько они ей идут. А ей все к лицу, она, как и Париж, «дерзает», ей весело, и весело глядеть на нее.
Я, разумеется, далек от мысли сравнивать город со старой дамой. И все же и в городе, и в сердце дряхлеющей парижанки – вольный дух Парижа, божественное умение быть самим собою, не бояться насмешек, видеть радость во всем. А чистоте жанра и даже безупречности вкуса предпочитать удовольствие, простоту и приятие жизни, спокойно соединяя воспоминания и вот этот, уже исчезающий миг. Ведь «на сердце не бывает морщин» – «le coeur n’a pas de rides», как писала мудрая и блистательная Мадам де Севинье.
Может быть, поэтому Париж и остается всегда самим собою?
Автобус № 30: Трокадеро – Восточный вокзал
У наизусть затверженных прогулок
Соленый привкус – тоже не беда.
Анна Ахматова
Иные маршруты становятся заповедными случайно. Они сложились благодаря забытым уже обстоятельствам, но обрели странную значительность, превратились в ритуал и обросли воспоминаниями.
Как не приехать – еще и еще раз – взглянуть на Эйфелеву башню с высоты Трокадеро. Говорят, что вид, этот единственный в мире и всем знакомый вид, – банален. О нет. Он великолепен! «Не надо злословить по поводу общих мест. Нужны века, чтобы создать каждое» (Мадам де Сталь).
К тому же Париж повсюду – настолько густо населен он воспоминаниями. Так, глядя на Эйфелеву башню, я краем глаза вижу и золотистые бронзовые статуи дворца Шайо, построенного для Всемирной выставки 1937 года, но вспоминаю и гравюры с изображением стоявшего здесь некогда, тоже выставочного, дворца Трокадеро (1878). А Шайо – он за моей спиной, этот дворец, причудливо сочетающий сухой, надменный неоклассицизм и праздничное величие, напоминает о том имперском стиле, которым блистали расположившиеся тогда напротив, на Левом берегу, павильоны – СССР, со скульптурой Мухиной «Рабочий и колхозница», и его визави – павильон Германии, увенчанный орлом со свастикой. Через три года Гитлер смотрел отсюда на оккупированный Париж: 23 июня 1940-го. А теперь здесь беззаботные туристы, театр, музей.
Рядом с этим всемирно известным местом, на котором бывает каждый, кто приезжает в Париж, на углу площади Трокадеро и авеню Клебер, – конечная остановка (terminus) того самого, тридцатого автобуса. На остановке маленький, но очень подробный план маршрута, сведения об интервалах движения, конце и начале работы. А теперь повсюду и электронные табло, сообщающие, через сколько минут автобус пожалует на вашу остановку. И хотя табло нередко ломаются, скучающий пассажир уже не так нервно вглядывается вдаль, реже смотрит на часы и, вопреки парижской традиции, не так уж ворчит по поводу муниципального транспорта.
Автобусные маршруты Парижа заставляют верить в вечность. Они почти не меняются последние сто лет. Их, видимо, изобрел неведомый гений: они чрезвычайно удобны, раз служат так долго.
Сейчас трудно представить, что перед Второй мировой войной Париж был трамвайным городом, – в конце 1920-х там было 22 маршрута, а некоторые трамваи еще оставались паровыми! Но постепенно более легкие и маневренные автобусы вытесняли громоздкие, неповоротливые вагоны, исчезли провода и трамвайные столбы.
С начала 1990-х снова стали прокладывать трамвайные пути – в пригородах и сравнительно удаленных от центра кварталах столицы. Новые трамваи, похожие на сверхпоезда из научно-фантастических романов, бесшумно и быстро развозят пассажиров. Они оказались очень полезными – всегда полны. А изящные и простые павильоны остановок лишь украсили город.
Парижский автобус – маленький и гордый мир, занимающий в городской жизни важное место. Конечно, не такое, как кафе, но тоже имеющее свои ритуалы, коды, маленькие радости, обычаи, привычки. Вот он стоит – большой и вместе с тем легкий, раскрашенный, я бы даже сказал, изысканно, в геральдические цвета R. A. T. P.[49] – темно-серый на уровне рамы, корпус оттенка слоновой кости и выше – жемчужно-бирюзовый.
Все, что касается маршрута: номер над лобовым стеклом, сведения о пути следования и главных остановках, расположенные под окнами, – написано белым по лиловому фону. Французы любят информацию, выраженную цветом, свой опознавательный цвет имеет и каждый маршрут – голубой, темно-зеленый, алый, синий, зеленый, оранжевый etc. По этим «знакам различия», как по лампасам или выпушкам у военных, легко издали опознать нужный номер: цветов, конечно, меньше, чем автобусных линий, но они почти никогда не совпадают там, где пересекаются маршруты. Впрочем, французы, любя традиции, всегда поспешают за веком: ныне вся эта геральдика постепенно становится электронной, изящной и динамичной, но отличительные цвета маршрутов остаются неизменными.
За рулем – тот, кого даже люди постарше все реже называют «машинист», это устаревшее слово сменилось современным «водитель» (conducteur). Белая рубашка, форменный галстук R. A. T. P. «Bonjour, Monsieur!» – «Bonjour, Monsieur, merci!» Это тем, кто показал проездной билет, чаще называвшийся просто сarte orange, или, как теперь, провел электронной картой navigo по специальной машинке. Щелкает электрический компостер, пробивающий разовые сиреневые или белые билетики (прежде долгие десятилетия они были зелеными, и от этого с трудом отвыкаешь). Под потолком бегут электрические надписи, старательно – хотя иногда и сбивчиво – сообщающие, где находится автобус, когда он приедет на конечную остановку и даже который час.
Первая в моей жизни поездка в парижском автобусе окончилась позорно. По советской привычке я вошел в заднюю дверь, а вышел через переднюю. Машинист вежливо объяснил мне, что я дважды нарушил правила[50].
Парижский автобус – лучший, самый веселый транспорт на свете. Он жизнерадостно и смешно шипит пневматическими дверьми и тормозами, мягко и стремительно срывается с места и почти бесшумно несется по городу со скоростью легковой машины. Иногда в нем, хотя существует ведь и обычный клаксон, раздается и звонок – напоминание, что шествует сам автобус, а не просто автомобиль (отчасти, видимо, и в память тех, прежних автобусов, где кондуктор подавал колокольчиком сигнал к отправлению). Среди водителей – а среди них, кстати сказать, немало дам, и молодых и не очень, – еще случаются (увы, все реже) не то что виртуозы – ювелиры. Бывает, они рукой прижимают зеркальце заднего вида, чтобы на узкой улице обогнуть грузовик, совершают немыслимые виражи в крутых, узких переулках. А маленький «Монмартробюс», являя собою гибрид альпиниста, акробата и клоуна, беззаботно и быстро поднимается по извилистым улицам такой крутизны, по которым, чудится, можно взбираться лишь по канату.
Водители еще ухитряются, несмотря на мучительные парижские пробки, водить свои автобусы, придерживаясь расписания, и не злиться, а относиться к задержкам философически. Впрочем, автобус, как и такси, мчится по специальной полосе, иногда даже отделенной от остальной улицы низеньким барьером, и пробки ему мешают сравнительно мало.
Жизнь внутри автобуса, притом что парижане обычно спешат (самые торопливые, разумеется, предпочитают метро), отличается некоторой меланхоличностью и созерцательностью. Пассажиры не толкаются, не кричат «пройдите», они с задумчивой безмятежностью остаются стоять у входных дверей, мешая себе и другим. Изредка шофер произносит в микрофон сакраментальную фразу: «Avancez au fond, merci!» («Продвигайтесь вглубь, спасибо!)», но в голосе его обреченность – он знает: пассажиры не пошевельнутся. При этом все образуется само собою и к общему удовольствию. Если в автобусе возникает ссора, водитель ее улаживает, даже иногда выходит из кабины. Ссоры, впрочем, довольно безобидные. Самый ужасный из скандалистов, которых мне довелось видеть, ограничивался пылкими жалобами: «Он меня нервирует» («Il m’nerve!»), – громко повторял он, указывая на своего обидчика.
Автобус, конечно, хорош тем, что из его окон виден город, множество его подробностей и красот. Но – пассажиры! Это маленький сгусток парижской жизни, это, так сказать, «весь Париж», поскольку в автобусе ездят дети и старики, богатые и бедные, праздные и занятые, нарядные и одетые в лохмотья, красивые и уродливые, грустные и веселые. Не ездят только те, кто спешит: метро быстрее и автобусов, и такси, и тем более собственных машин. В Париже нет презрения к общественному транспорту как к транспорту бедных. Во-первых, потому, что презирать что-либо, а тем более бедность, неприлично и не принято, во-вторых, потому, что парижский общественный транспорт достаточно хорош (считают даже, лучший в мире, с чем вечно всем недовольный парижанин не согласится, разумеется, никогда).
Подобно гоголевскому Невскому проспекту, в зависимости от времени дня бывает автобус «педагогический», набитый громко болтающими лицеистами, или автобус – «движущаяся столица», или «прогулочный», но чаще всего он являет собою место случайной встречи нечаянных путешественников.
Здесь можно их разглядеть со всей отчетливостью – в кафе люди заняты беседой или собою, смотреть на них неловко, а дорога делает путешественников, хотят они того или нет, открытыми случайным взглядам, и глаза их то и дело встречаются помимо воли.
В ответ на взгляд – улыбка. Не обязательно, но почти всегда. Открытая и искренняя, усталая, вымученная, безразличная, порой даже отдаленная ее тень, порой просто легкий ее знак. Так привыкли, так принято, так веселее и легче жить.
Обмен взглядами лишен сословных преград. Собственно, их и нет на уровне обыденного общения. Богатый человек, высокопоставленный чиновник с ленточкой, а то и розеткой Почетного легиона, едва ли одет с заметной роскошью. Вещи не слишком модные, не слишком новые, хорошего тона, ни в коем случае не бросающиеся в глаза. И вообще, «цивильная» стилистика редка в нынешнем Париже, а человек при галстуке – если это не чиновник, не служащий банка или богатого офиса – вообще экзотика. «Куда деваются эти сотни ослепительно-роскошных галстуков от Ланвена, Кардена, Кензо etc., заполняющие витрины богатых магазинов и стоящие сто, а то и двести евро?» – спросил я как-то умного парижанина. Он ответил неподражаемо: «У каждого француза есть состоятельная тетушка!» Похоже, именно небедные родственники и составляют клиентуру такого рода магазинов. Галстук стал синонимом традиции, консервативного вкуса, реже – принадлежностью «снобинарства»; отсутствие же его – не только знаком открытости и свободы, но живым их переживанием: на службу галстук надевают чаще, чем в ресторан.
Ну и конечно же, галстук – прерогатива возраста.
Когда в автобус входит дряхлеющая супружеская пара – это могут быть скромные пенсионеры (многие из них совсем недурно живут во Франции) или респектабельные рантье, – чаще всего это праздник для глаз и для души.
Всякое бывает и в этой стране. И все же здесь жизнь длится столько, сколько живет человек: он не превращается в жалкое свое подобие.
Как много видел я древних и явно небогатых старцев в башмаках хоть и не новых, но ухоженных и явно из хорошего магазина, в бархатных пиджаках вовсе не тусклых оттенков с отличными галстуками или кокетливыми фулярами на шее, тщательно выбритых, готовых к улыбке, хотя почти потерявших способность двигаться, иначе как с видимой нежностью держась за руку своей дряхлой подруги, заставляя вспоминать «Песню старых любовников» Бреля:
- Oh, mon amour
- Mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour
- De l’aube claire jusqu’а la fin du jour
- Je t’aime encore, tu sais, je t’aime…[51]
В этом городе много нежности, особенно среди очень немолодых людей. Город лелеет любовь стариков – любовь, которую помогает им сохранять вкус к жизни, напоминая о миновавших страстях, давно превратившихся в глубокую и драгоценную привязанность.
А можно ли их не любить – парижских старушек. О, эти пленительные coccinelles – как не подходит им это прозвище, «божьи коровки»! Они не просто очаровательны или милы – прекрасны. Женственностью, энергией, вкусом, готовностью жить, не сдаваясь до самого конца. Они ведь и есть те самые молодые француженки, которых я видел сорок лет назад, когда советским поднадзорным туристом впервые приехал в Париж. И вот они теперь почти на излете жизни, но ни понятия такого, ни подобия самой мысли нет в их глазах, улыбках, жестах.
Именно они – самые красивые и элегантные дамы Парижа.
Они сохранили пристрастие к гармонии цветов, оттенков, фактур: палевый с темной зеленью платок на морщинистой шейке, золотисто-коричневая блузка, пепельно-ржавый твид жакета, юбка цвета старой бирюзы, каштановой кожи туфельки в тон сумки – mariage des couleures (гармония, «супружество» цветов). Эти дамы знают толк в галантной беседе, и обычный вопрос, переведенный в архаически вежливую форму третьего лица – «Мадам выходит?» («Madame descend-elle?») вместо нынешнего «Мадам, вы выходите?», доставляет ей искреннее наслаждение. Обмен любезностями с такой дамой – школа вкуса, веселой вежливости и хорошего тона, и нет пассажира, не любующегося ею.
Юные красавицы – а таких, вопреки расхожим суждениям, в Париже вовсе не мало – свою привлекательность если и не прячут, то уж во всяком случае не подчеркивают. Юбки, особенно короткие, каблуки, косметика, духи – все это у них в диковинку. Одежда унисекс, джинсы, кроссовки (случается, и с нарядным платьем), рюкзачок: говорят, одна из причин – слишком пылкий темперамент парижан из южных краев, но чаще – просто привычный и удобный код, усталая и равнодушная реакция на горячие годы сексуальной революции. А сущность жизни – она-то не меняется, только у нее теперь иной визуальный язык, невнятный приезжим; влюбленные ведут себя иначе, чем прежде, а может, и влюбляются теперь по-иному. Но если войти вечером в кафе, где юные парижане что-то празднуют, и девушки чуть накрашены, иные и в черных платьях или топах, с голыми трогательными плечами, – словно бы возвращается время незабываемых красавиц черно-белого кино, времени молодости Жанны Моро, Анни Жирардо, Анук Эме… И только айфоны и планшеты, в которые, случается, влюбленные смотрят чаще (как это грустно!), чем друг на друга, напоминают о жестокой дани, которую мы платим за прогресс.
Когда в автобус входят мать и дочь, невольно смотришь на мать, – как правило, она красивее или кажется красивее. Осанка, поступь, все то, что французы называют la tenue. Издали женщина пятидесяти лет может показаться тридцатилетней, не столько даже фигурой, сколько походкой, живостью, энергией. Эти дамы средних лет, entre deux ges, ухожены, закалены жизнью, но не утратили к ней вкуса, и апатию, нередкую на лицах дочерей, у матери едва ли заметишь: нельзя, стыдно, да и вообще, остановишься – упадешь…
А вот наряды зрелых дам – особый сюжет. Не стану говорить о дамах элегантных – старушки все равно элегантней. Речь не о нарядно или изысканно одетых, а об одетых нарочито смешно, вызывающе и независимо. Немыслимо короткая юбка, огромная шляпа, кроссовки, золотое шитье, расписное пончо, решительное отсутствие комплексов, игра в жизнь – мне так весело, пусть и вам будет смешно. Странно, не всегда красиво в привычном понимании слова, но сколько в этом свободы! Кого только не увидишь за полчаса в автобусе: пожилого господина в сомбреро и ковбойском наряде с двумя сотовыми телефонами в руках, дряхлого весельчака, развлекающего пассажиров кряканьем утки с помощью спрятанного в кармане «пищика», молодую маму, чей малыш доверчиво и неожиданно заснул прямо на полу, пожилую африканку, с горьким осуждением смотрящую на темнокожих подростков: «Мы сделали их французами, а они…» – слишком громко и развязно обсуждали они свои дела в лицее.
На иных остановах водитель зажигает специальные огни, включает звуковой предупредительный сигнал, выдвигается специальный металлический подиум, и все молча и почтительно ждут, когда человек на электрической инвалидной коляске неторопливо вкатится в автобус, чтобы ехать среди людей, улыбаться, чувствуя себя такими же, как и все они – парижские пассажиры. Никто не выражает сочувствия, напротив, вот какой-то юноша сказал, весело и уважительно, своему сверстнику в коляске: «Классная у тебя колымага!» И начал увлеченно обсуждать с колясочником достоинства и особенности его отличного самоходного кресла. Во Франции не разговаривают с инвалидами с жалостью, не глядят на них сочувственно. Невозможно, неприлично. Инвалид такой же человек, как другие. И поэтому их много на улицах, они могут передвигаться, на них смотрят как на равных, они не заперты в домах, не отделены от жизни. Их весело, без унижающего подчеркнутого внимания обслужат в кафе и магазине: они – как все.
У автобусов с пассажирами вечный и трогательный роман.
То R. A. T. P. затевает воспитательную кампанию, непременно в иронической форме, с наивным и трогательным юмором сообщая клиентам: «Улыбайтесь, вас снимают. Для вашего покоя и безопасности автобус оборудован телекамерами с записывающими устройствами», «Спасибо, что вы вошли в переднюю дверь». Или завлекает пассажиров афишей спектакля или выставки, расположенных по пути следования автобуса: «Нам это понравилось, мы отвезем вас туда». А то вывешивает наивные и смешные картинки, которые должны пристыдить невежливых путешественников.
Авеню Клебер, Елисейские Поля, площадь Звезды. В свое время ее переименовали в площадь Де Голля. Парижане не то чтобы воспротивились, но получилось как-то так, что название теперь звучит дипломатично: «Charle De Gaulle – toile».
«Ах, как это банально, какое туристическое место, французы, и тем более парижане, не гуляют по Елисейским Полям!» Ироничная француженка спросила меня: «Неужели же вам не противно гулять по Елисейским Полям? Туристы, зеваки, нувориши, витрины для нетребовательных богачей!» Смотря на что смотреть. Многие дома и кафе будят воспоминания, декабрьскими вечерами скромная, но милая иллюминация веселит глаза, много радостных улыбок, здесь праздник. Конечно, это витрина Парижа, но «поражен бывает мельком свет ее лица необщим выраженьем…» (Баратынский). Надобно лишь смотреть и видеть. А сколько грандиозных панорам распахивается с Елисейских Полей – ради одного лишь триумфального вида на эспланаду Инвалидов стоит прийти сюда!
Что за дело до мелкого туристического снобизма тем, у кого сердце полно любовью и неутоленным интересом к прекраснейшей в мире площади! Дух захватывает при взгляде на помпезное и грандиозное создание Шальгрена, на арку со знаменитой группой Рюда «Марсельеза» – арку, почти полтора века завершающую грандиозный Триумфальный путь. Что за город! Сама безвкусица и фараонский размах таинственным образом влиты здесь в окончательные и безусловные формы и, обрамленные площадью с ее нарядными зданиями, решетками, деревьями, круговертью разноцветных сверкающих машин, автобусов, блестящими вихрями мотоциклов, обретают царственную и безупречную значительность. Французский триколор, опущенный из-под свода арки, чуть вздрагивает над огнем Могилы Неизвестного Солдата, в сознании мгновенно – обвал ассоциаций: и воспоминания о первых, увиденных когда-то открытках, и роман Ремарка, и десятки фильмов, и собственные свидания с этой громадиной – прекрасной и нелепой, элегантной и претенциозной и все же несказанно прелестной, парижской, вечной, навсегда вонзившейся в память.
Я видел ее на первой в жизни экскурсии по Парижу 1965 года, выбеленную августовским зноем, видел в вечерних прожекторах в пору восторженно-тоскливых, бесконечных прогулок летом 1972-го, в одинокие вечера, когда возвращался в пышное безлюдье «Дю Буа», что в двух шагах от площади, и в счастливые мгновения, когда больше не был одинок, видел ее в туман и дождь, под ледяным февральским солнцем и в зимнем густом, как на картинах Марке, тумане. Я помню ее по страницам Ремарка:
Она раскинулась <…> в струящейся серой мгле, величественная и бесконечная. Туман сгустился, и улиц, лучами расходившихся во все стороны, не было видно. Видна была только огромная площадь с висящими тут и там тусклыми лунами фонарей и каменным сводом Триумфальной арки, огромной, терявшейся в тумане; она словно подпирала унылое небо и защищала собой бледное сиротливое пламя на могиле Неизвестного солдата, похожей на последнюю могилу человечества, затерянную в ночи и одиночестве (Э. М. Ремарк. Триумфальная арка).
Она поразительно найдена в соотношении с пространством: когда смотришь на нее от Лувра, сквозь маленькую, но гордую, розово-золотистую арку Карузель, когда она возникает за Обелиском, что на площади Согласия, когда видно, что она венчает высокий холм, на который, как прибой, накатывается, взлетает мостовая Елисейских Полей, окаймленная деревьями, можно оценить, как безошибочно и надменно поставлена она Шальгреном. Она возведена с таким расчетом, что целостность огромного пространства между ней и Обелиском ощущается как откровение. Подобно стреле пролетает взгляд от Этуаль к прекрасной Конкорд.
И когда обычный автобус тридцатого маршрута торопливо пересекает площадь, что-то сжимает на мгновение горло, будто горельеф Рюда «Марсельеза» на пилоне арки заставил впервые зазвучать эту прекрасную музыку, будто снова «пришел день славы» – «Le jour de gloire est arriv!».
А потом респектабельная авеню Ваграм, площадь Терн с огромным цветочным рынком – где-то здесь, рядом, в маленькой гостинице «Энтернасьональ» жил герой «Триумфальной арки» доктор Равик, – дальше фешенебельный простор бульвара Курсель, богатой улицы, где даже нет кафе, а только холеные османовские дорогие дома, а впереди направо – черно-золотое плетение пышной ограды парка Монсо.
Какой странный сгусток воспоминаний и ощущений!
В парк я попал впервые в июле 1972-го, попал, сам того не ожидая, хотя Монсо существовал в моих литературных ассоциациях и я имел в виду в нем побывать. Я снова, но уже не с группой приехал в советское консульство на улицу Прони, никак не связывая это неприятное, словно парижский филиал ОВИРа, учреждение со знакомым по книжкам и мечтаниям местом. Обязательная регистрация советских граждан в родимом консульстве (по приезде и перед отъездом) существовала до начала девяностых, и я не раз поневоле навещал это напитанное раздражением и невнятной опасностью помещение. В нем соединялись традиционное надменное советское хамство, отягченное совершенной безнаказанностью и чекистской ледяной безапелляционностью. Жаловаться здесь было некому. Пребывание в Париже делало советских чиновников странно злобными, заносчивыми и закомплексованными, и я выходил из стен консульства униженным и испуганным.
И, выйдя оттуда впервые, миновав дежурных ажанов со странно приветливыми (по контрасту с консульскими служащими) физиономиями, я увидел налево словно бы знакомые черно-золотые решетки.
Что могло быть лучшим лекарством от соприкосновения с советскими «дипломатами», а попросту говоря – конторщиками-гэбистами!
Опять это чисто парижское великолепное сочетание пышности, претенциозности и какого-то таинственного умения превращать любую, даже эклектичную и разнузданную, роскошь в истинное искусство. Может быть, и здесь дело в том простодушном удовольствии («La vie est belle!»), в беспечной неге, ощущении комфорта, даже некоторой снисходительности. Возможно, и в том, что сам парк растворяет в себе смешные излишества, смягчая их клумбами, дивными цветниками, ничуть не менее богатыми, чем узоры решеток, густыми тенями деревьев, нежными очертаниями холмов, пятнышками детских платьев, мелькающих здесь, как во времена Мопассана.
Еще в конце 1760–1770-х годов Луи-Филипп, герцог Шартрский, будущий герцог Орлеанский, приказал выстроить на месте равнины, известной отличной охотой на дичь, павильон, а затем заказал театральному художнику Луи Кармонтелю план сада Фоли де Шартр. Позднее, согласно вкусам времени, парк был азбит на английский и немецкий манер со всякого рода романтическими аксессуарами. Суровая ротонда, выстроенная Леду, была некогда одной из парижских таможенных застав и ныне странно и великолепно сочетается с пышной решеткой. Она была сделана уже в 1860-е годы по проекту Габриеля Давиу, знаменитого в свое время архитектора (автора театров и фонтана на площади Шатле, фонтана на площади Сен-Мишель, одного из участников создания выставочного дворца Трокадеро в 1878 году).
Осман в своих мемуарах писал, что Монсо – «самое роскошное и в то же время самое изысканное место для прогулок». Заметим, кстати, что префект разделял эти два понятия: luxe (роскошь) и lganсe (изящество).
По сути дела, парк Монсо скорее забавен: никакой «ландшафтной архитектуры» здесь, кажется, вовсе и нет, расположение мраморного мостика, искусственных руин, колоннады, статуй, кустарника, клумб появилось словно само собою. Монсо чудится игрушечным – декорацией для тех издававшихся Жерве Шарпантье любовных романов в желтых обложках, которыми зачитывались героини Мопассана.
И как наивная инкарнация этих мыслей и воспоминаний – бесконечно трогательный памятник Мопассану работы забытого скульптора Рауля Верле: бюст писателя, у основания постамента которого мечтательно задумавшаяся юная дама, полулежа на канапе, почти уже роняет открытую книжку.
По гамбургскому счету скульптура, конечно, так себе. Она забавна, трогательна и мила и, к сожалению, вполне совпадает с расхожим французским представлением о писателе, с которым я сталкивался нередко. Это несправедливое представление.
Оно отчасти связано с французскими иллюстрированными изданиями книг Мопассана начала XX века. Ловкие рисунки, обычно гривуазные, случалось – скабрезные. Издатели хотели продавать книги. Но дело и в ином.
Не раз я слышал от французов: «Мы самая стыдливая нация в мире». Им легче совершить поступок, нежели обсуждать и объяснять его. Как и темные тайны подсознания – французы предпочитают обсуждать их не между собой, а наедине с книгой.
У них иное, чем у нас, представление о смысле и сути любовных отношений. Не лучше или хуже. Другое. Я часто возвращаюсь к воспоминанию 1965 года, когда из окна туристического автобуса наблюдал за далеко не юной супружеской парой в стоящей рядом машине. Он был внимателен и пылок, как юный любовник, она реагировала на это весело и томно. Возможно, не более чем ритуал, но порой он с успехом заменяет сомнительное родство душ или даже супружескую верность. Я видел вкус и плоть самой жизни. И это куда лучше, чем сентиментальные романы или гнусные надписи на заборах, к которым привыкли мы. Если «люблю» и «хочу», стыдливо разделенные в душевной практике нефранцузских цивилизаций, для француза синонимичны, цинизма в том нет.
Мопассан в «Милом друге» незаметно дает урок терпимости и истинно французской снисходительности: люди, конечно, весьма далеки от совершенства, но кому их судить, а жизнь, им подаренная, хороша и прекрасна. И это знаменитое французское «La vie est belle!», которым веет со страниц романов о плохих людях – романов, написанных человеком, невыносимо и постоянно страдавшим, так страшно умершим в больнице доктора Бланша рядом с домом Бальзака в Пасси.
Да, он типично французский писатель, взыскующий не морали, но истины. И снисходительности.
Французы им восхищаются, восхищаются его тонким умом, стилем, блеском пера, отточенностью фраз, в которых холодная сухость Мериме соединяется с сочной живописью Флобера.
Когда-то интеллектуальные плебеи оплевывали «Олимпию» Мане: картина им казалась скабрезной, они не понимали, что не нагота, а непривычно простая, лишенная слащавости и чувственности живопись их раздражает и даже пугает. Так и с Мопассаном. Хотя кто, как не он, умел писать о нежной, глубокой, трагической любви – вспомните «Сильна как смерть»…
А что до парка Монсо, окруженного приторно-роскошными, но все же великолепными особняками, он со своими цветами, ручейками, дорожками, массой посредственных, но изящных скульптур остается вечной средой обитания мопассановских персонажей, с томной читательницей у ног писателя, уже который год так и стоящего под солнцем и дождем с отбитым носом.
К тому же парк исторически был обречен на претенциозность и роскошь. В конце «галантного века» обустроенный в англо-китайском стиле и перепланированный на английский манер в пору Луи-Наполеона, парк Монсо стал центром, вокруг которого стремительно строились особняки нуворишей. То, что в окружении обычных домов выглядело бы сентиментальной стилизацией, скорее романтической, нежели пышной, среди кричащего богатства новых построек словно стало их эманацией – «маленькой столицей денежных услад» (Жюль Ромен).
Таков был уже упоминавшийся особняк Аристида Саккара, хотя, как истый парижанин, Золя, понимая, насколько мало хорошего вкуса у его героев, но время от времени сам увлекаясь осуждаемой им помпезностью, не мог не восхищаться роскошью, ведь роскошь – тоже часть удовольствия.
Кстати сказать, и Мопассан описывал (сочиняя или вспоминая что-то?) будуар и ванную комнату уже упоминавшейся Мишель де Бюрн из романа «Наше сердце» с открытым восторгом, да и сам, как рассказывают современники и свидетельствуют рисунки, жил роскошно, но не безупречно в смысле вкуса, не говоря уже о Бальзаке, чья неудержимая любовь к пышной роскоши широко известна. Вкус к слову у великих французских литераторов отступал перед роскошью жизни, перед удовольствием: «La vie est belle!»
С южной стороны названия улиц посвящены знаменитым художникам мира: улица Веласкеса, улица Рейсдала, улица Мурильо, авеню Ван Дейка, – возможно, это связано с близостью музея Ниссим де Камондо, музея великолепного, с отблеском роскоши квартала Монсо, но богатого действительно мировыми шедеврами. Кстати сказать, в Париже улицы, названные именами знаменитых нефранцузов, – не редкость, и это делает честь объективности парижан. Улицы Делакруа, Гаварни или Домье куда скромнее, да и мало кто знает о них.
Впрочем, иные названия парижских улиц обладают странным парадоксальным качеством: они звучнее и известнее самих имен, которые они носят. О бульваре Распай знает каждый, кто хоть что-нибудь слышал о Париже, но о достойном ученом – враче и химике Франсуа Распае, самоотверженном политике, гуманисте и либерале, – едва ли и парижанам много известно…
Сколько было связано с парком Монсо – после первой встречи, после визита в родимое консульство в 1972 году!
И потом, в счастливые часы, уже не в одиночестве, видел я здесь разные чудеса.
Мартовский горячий день, на скамейке парка восседает торжественно и важно дама, несомненно принадлежащая к гордому племени парижских клошаров: кажется, ей под девяносто, она грузна, одета в обноски, закутана в плед или одеяло, рядом с нею на тележке дряхлый, как она сама, чемодан, – видимо, все ее имущество.
На лице ее блаженство – «Belle est la vie!»: она счастлива, что солнце, что она, судя по выражению ее лица, не голодна, что она не одна. На чемодане большая, с полметра, картонная коробка, в ней – с таким же чувством приятия жизни и наслаждения ею – возлежит огромная, древняя, кажущаяся доисторической, даже вечной, черепаха. Весь парк Монсо принадлежит этим подружкам, и время остановилось, они здесь – chez-soi!
Или печальная слепая утка, странно метавшаяся в пруду, одинокая, грустная, – сколок с чьей-то судьбы: чего не встретишь в этом парке…
От парка Монсо тридцатый автобус спешит вдоль чугунно-парчовых решеток Монсо в квартал Европы, где аристократический бульвар Курсель незаметно и внезапно переходит в бульвар Батиньоль, а это уже подножие Монмартра, другой мир, другой Париж.
Здесь автобус «вторгается» в другую главу: когда он проезжает через виадук над траншеей с железнодорожными путями, идущими от вокзала Сен-Лазар к Батиньольскому туннелю, слева мелькает узкая и неприветливая улочка Бурсо, где жил все тот же Жорж Дюруа, Милый друг, но об этом после, в главе «Сен-Лазар».
А теперь подножие Монмартра, еще совсем не того, о котором знают приезжие: булочные, лицеи, оптовые магазинчики, брасри, почтовая контора; посреди бульваров, сменяющих один другой (Батиньоль, Клиши, Рошешуар), тянется аллея, многокилометровый, уже вполне благоустроенный палисадник с каруселями, киосками и многочисленными автоматическими туалетами – еще недавно новой гордостью Парижа.
Некогда уличные уборные, предназначенные исключительно для мужчин, поражали воображение путешественников: еще в 1839 году префект Рамбюто, известный своим тщанием в гигиенических проблемах столицы, подписал указ о создании «уринуаров», прозванных «Vespassiennes»[52], – одноместных отхожих мест для мужчин, внешне похожих на афишные тумбы и отчасти сохраняющих их функции.
Позднее появились еще более курьезные сооружения, закрывающие фигуру клиента примерно от груди до колен, скорее всего, чтобы избежать использования закрытых «веспасианок» для безнравственных и скоротечных свиданий.
В семидесятые годы появились похожие на межпланетные аппараты сооружения из благородно матового металла. За франк или два жаждущий уединения прохожий попадал в душистый, сверхсовременного дизайна, поразительно удобный и функциональный интерьер, автоматически очищаемый после каждого визита, стерильный, благоуханный, и мог совершить свои дела под веселую музыку.
Благоухание и музыка ушли в прошлое, но комфорт и чистота остались, хотя на Монмартре эти полезные заведения нередко ломают – кто по невежеству, а кто и просто так. Говорят, парочки используют их с удовольствием – где еще найдешь убежище за один евро!
Я люблю зимний, дневной, свободный от туристов Монмартр, просторный и тихий, где сохранилось нечто провинциальное, полно простеньких кафе, смешных магазинчиков с очень дешевыми и еще более сомнительными товарами, к которым, в отсутствие туристов, должно быть, и сами хозяева их относятся насмешливо.
Здесь так много неведомых приезжим тихих и уютных улиц, за которыми открываются и вовсе неведомые приезжим уголки. Можно пройти вдоль длинной улицы де Дам (когда-то шедшей от обители монмартрских монахинь – des Dames de Montmartre) – от Клиши в сторону Монсо – и не встретить приезжих: провинциальный покой, свои – порой весьма изысканные – ресторанчики, осколки истории (здесь в доме 5–7 открылся полтораста с лишним лет назад один из первых «магазинов новинок» (универмагов) «Влюбленный дьявол»…
Леон-Поль Фарг и в самом деле считал Монмартр уголком настоящей французской провинции. Наверное, именно в такие дни – не летние и не солнечные будни – Монмартр напоминает времена импрессионистов, когда склоны холма еще были покрыты огородами, а крылья настоящих мельниц вращали настоящие жернова. Даже насквозь туристический фуникулер зимой – парижский, на лестнице у Сакре-Кёр только дети, и говорят вокруг только по-французски.
Зимой можно опять и опять смотреть на этот каменный простор, пепельные стены, шпили, графитные (действительно графитного цвета!) крыши, угадывать знакомые здания, и не надоедает это никогда, а только горло сжимается от этой вечной, неутолимой даже в самом Париже ностальгии по нему!
Зимой туристами на площади Тертр кажутся художники.
Зимой Монмартр немножко похож на театральную сцену при дневном свете, когда нет декораций и актеры без грима, когда мнящееся становится реальным. Это как на картине Эдуара Мане «Лола де Валанс», где актриса показана в беспощадном обыденном свете на фоне пыльных кулис, но ее отважная и небанальная красота становится оттого особенно значительной: «неожиданное очарование розово-черной драгоценности», как писал Бодлер.
Это вовсе не значит, что Монмартр днем – приют разгримированных актеров. Просто это усталый, но полный особой, внятной не всякому даже парижанину, запутанной и многосложной жизни мир, в котором ночной порочный сияющий блеск – лишь внешняя оболочка бытия и приманка для приезжих.
Не стану произносить сакраментальные фразы касательно того, что, мол, ночной Монмартр – это для туристов, это пушло, дурновкусно и не имеет ничего общего с настоящим Парижем. Попробуйте представить себе Париж без ночного Монмартра! Куда будут ходить наивные туристы, а главное – куда нарочито и декларативно не будут ходить парижане?
Розово-голубые парижские пейзажи и слащавые портреты, что рисуют здесь художники-тротуаристы, не лучше и не хуже того, что делают во всем мире, в том числе и в российских городах. Скажу больше. Природный французский вкус настолько высок и отточен веками, что вряд ли в других городах мира найдется столь же высокая планка: навес кафе, платочек на шее парижанки, раскраска автобусов, логотипы и вывески – все это даже в бедных кварталах чаще всего красиво, почти безупречно.
Но нигде я не видел и такого дремучего, лютого безвкусия, как во Франции. Пошлейшие кошечки и собачки, стеклянные шарики, фарфоровые раскрашенные скульптуры, розово-голубые бантики на нарисованных котятах, фаянсовые ангелочки, бессмысленные и жалкие пустяки, рядом с которыми открытый и наглый китч, равно как и мещанские фамильные мелочи, становится свидетелем истории и торжеством вкуса. Витрины тех странных коммерсантов (их называют brocanteurs), которые предлагают нечто среднее между антиквариатом и товарами старьевщиков, занимая при этом помещения на улице Сены или Бонапарта, повергают в изумление – перед ними никто не останавливается, их никто не покупает, но они зачем-то есть, кому-то нужны, без них и Париж не Париж – еще одна его великая загадка.
Впрочем, об умении «эстетизировать» банальность речь уже шла.
Сколько раз я брезгливо отворачивался, жалея наивных американцев, трепетно позирующих бородатым, жадным и неумелым дилетантам, чаще всего просто шарлатанам (справедливости ради надо признаться, что встречаются среди них и бойкие полупрофессионалы, знающие ремесло), которые за десять минут изготовляли вроде бы и похожий, но совершенно бездарный, не имеющий никакого отношения к искусству портрет!
И все же не так все ясно и очевидно.
Как бы ни был наивен и прост, ну, скажем, согласно расхожим ассоциациям, скотовод из Небраски, приехавший в этот странный Париж, он ведь счастлив в такие минуты. Он сидит на площади Тертр, о которой слышал, читал, о которой, быть может, несколько минут назад ему рассказал гид, его рисует парижский художник, рисует быстро, весело, похоже, а главное, рисует в Париже. Какое дело ему до пластических достоинств и легкости карандаша, этот разноцветный листок напомнит ему и через десять лет о вкусе и запахе так, наверное, и не понятого им, но навсегда удивившего его города, он вспомнит, как его рисовали, и аромат парижского кофе, и невнятный ему трескучий говор, и еду, так мало похожую на американскую, этот рисунок привяжет память к Парижу – и пусть его. Тут ведь дело не в искусстве, а в той подлинности события, хоть и маленького, но все же случившегося с путешественником в Париже, живым и волнующим свидетельством которого стал плохонький, но настоящий парижский рисунок…
Сколько видено здесь, у подножия Монмартра, на бульваре, по которому катит тридцатый автобус, с первого приезда в 1965-м до последних встреч уже в новом столетии!
Первая растерянность от неосвещенных, полускрытых, но все же заметных жадному советскому взгляду афиш, диапозитивов, зазывных снимков за лукаво приоткрытыми (всегда пропыленно-алыми, кроваво-красными, багровыми, рубиновыми, малиновыми) портьерами еще не освещенных витрин секс-шопов, плакатов стриптизов (вход всего пять франков, а что за бокал кока-колы возьмут все сорок, кто же знал!) и порнофильмов (главным образом шведских, поскольку во Франции еще не рисковали их снимать, даже кажущаяся сейчас едва ли не пресной «Эмманюэль» появилась много позже).
Не сомневаюсь, что ночные клубы Лас-Вегаса или нынешней Москвы – богаче, дороже и шикарнее, но здесь, в Париже, есть история, есть тени персонажей Тулуз-Лотрека, есть наша собственная память, населяющая эти почти целомудренные по нынешним меркам заведения легендами, именами, сюжетами, как старые парижские кафе. Слишком много хмельных, дурманных и пышных, серьезных и грустных, вовсе не простых ассоциаций живут здесь со времен «Мулен де ла Галетт», Аристида Бриана, Дега, импрессионистов, не говоря о том же Тулуз-Лотреке. И никакой пышностью, дороговизной или степенью эротической откровенности этого не заменишь.
Но главное-то в том, что ночной Монмартр в банально-запретном своем варианте – тончайший слой этих мест, и подлинные его обитатели даже не замечают сомнительных баров для свиданий, сутенеров, проституток (они честно зарабатывают свой хлеб, их вовсе не презирают), секс-шопов и стриптизов, они живут здесь – чуть поодаль от площади Пигаль, в бесчисленных респектабельных домах и старых небогатых домиках, да и над самой площадью Тертр сушатся в окнах кальсоны и носки, старички и старушки совершенно по-деревенски смотрят на прохожих, скорее с усталой иронией, чем с любопытством.
Не побоюсь повторений, дневной Монмартр – насколько он поэтичней и многообразней и сколько всего перевидено и перечувствовано там было!
Одинокие прогулки по раскаленным августовским полупустым бульварам у подножия Монмартрского холма в 1972-м, когда впервые разыскивал я адреса парижских живописцев – и кафе «Гербуа» и «Новые Афины» и «Кабаре» папаши Лятюиля. Тот же тридцатый автобус проезжает по площади Клиши, и налево, за помпезной, но и великолепной (как многое в Париже!) статуей, уходит в гору улица, известная во времена Мане как Гранд-рю-де-Батиньоль, а ныне, как и площадь, носящая имя Клиши.
Тогда, в 1972-м, я впервые – с действительно бьющимся сердцем! – отыскал дом семь по авеню Клиши. В ту пору там все еще находился магазин красок. Под другой вывеской, вовсе не тот, куда захаживал Эдуар Мане, но все же! В том, прежнем, Мане нередко покупал материалы, а со временем стал завсегдатаем кафе, что находилось в соседнем доме под номером одиннадцать, – в кафе «Гербуа». Со временем там обосновались магазины, по сию пору сменяющие друг друга.
Как и весь город, эти места сильно изменились, авеню Клиши – вполне респектабельный и малоинтересный проспект, в нем уже нет атмосферы Монмартра, там царит дух унылого достатка и тщательно скрываемой нужды – конторы, скучноватые магазины, лишенные и богатого шика, и романтической приветливой бедности (в Париже такая бывает).
Кафе «Гербуа» современные авторы порой сравнивают со знаменитыми кафе Левого берега в шестидесятые годы ХХ века. Сравнение вряд ли удачное. Иные времена, вкусы, сам стиль жизни, иные, хочется сказать, и нравы.
Тогда, впервые, и много раз годы и годы спустя я стоял на этой неинтересной улице, пытаясь вообразить (хочется даже написать «вспомнить» – так много я читал, думал и писал об импрессионистах) те ушедшие времена, то кафе, оставшееся лишь в воспоминаниях тех, кого давно уже нет на этой земле.
Кафе «Гербуа» было заведением сравнительно пышным для окраины Монмартра, где было еще много огородов, стояла тишина, и только желтый омнибус «H» иногда с дребезжанием подвозил пассажиров из центра столицы.
Заведение носило имя своего владельца Огюста Гербуа, господина энергичного и деятельного. Художники ценили его познания касательно берегов Сены: он давал живописцам бесценные практические советы, и многие местечки открыты ими именно благодаря содержателю кабачка. Были там и бильярдные столы – во втором зале, и проход в сад с беседкой, где обедали в погожие дни: тогда террасы кафе, выходившие на тротуар, были редкостью. Импрессионисты предпочитали более фешенебельный первый зал, убранный с претензией на шик Больших бульваров, там занимали они обычно столики слева у входа. Мане бывал там начиная с 1866-го почти каждый вечер и – непременно – по пятницам.
Дега – друг, соперник и главный оппонент Мане; приятель Дега, итальянский художник Де Ниттис; все герои импрессионистского эпоса: Ренуар, Писсарро, Моне, Сислей, Сезанн, Фантен-Латур, Уистлер, Гийомен, Надар, известнейшие критики и литераторы – Бюрти, Золя, Астрюк, Арман Сильвестр, Антонен Пруст – всех не перечесть.






