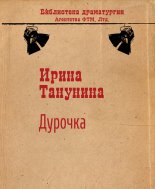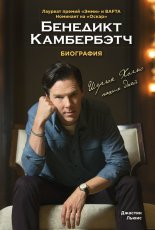Время ноль (сборник) Аксёнов Василий
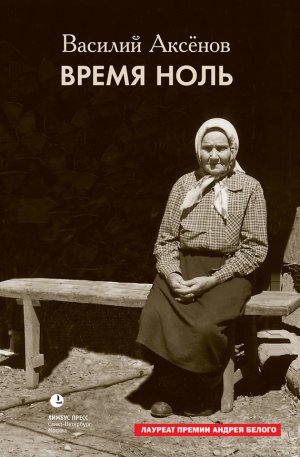
Во всём доме горит свет – как вспыхнул.
Вошла в сени Катерина – как омертвела.
Темно. И пахнет крепко затхлым.
«Стёпа сказал, что сени будет переделывать… Полы тут сгнили».
Взялась за дверную скобу – холодная.
А дверь открыть – и духу не хватает – ладонь немеет.
Что говорится в доме, слышит.
И слышит то:
Как сердце в груди бьётся – места себе там не находит.
Ill
7
Степан Досифеев
Прихватив тряпкой, Степан снял крышку с кастрюли, ткнул вилкой в картошину.
– Ага. Ну, скоро сварится, Васюха. Тебе-то ладно, ты уж сытый. Вон сколько смеси этой съел. С ложки и я попробовал – вкуснятина. Тебе-то – ладно, ты накормленный. И Борьзя – тоже не обижен… носил ему, наелся каши… А ты ещё и титьку пососёшь… проснёшься ночью.
Кот вокруг ног у него вышагивает. Трётся. Рыжий. Подхалимый.
– Хвост тебе дал селёдочный… Не хочешь? Зажрался, значит. Промышляй… Мышей в ограде вон – как на току.
Закрыл кастрюлю, положил вилку на стол.
Из кухни вышел.
– А сколько время?.. Скоро девять.
Часы на стене – ходики. Ходят.
Сидит на кровати среди подушек ребёнок, колотит пластмассовым разноцветным попугаем себе по коленям. Улыбается.
– Гу-гу, гы-гы, – говорит. И: – Ма-ма, па-па, – продолжает.
Сел Степан рядом, погладил ребёнка по голове и говорит:
– Папа твой здесь, никуда, слава Богу, не запропастился, никуда, Васька, не делся. А мама – придёт скоро. Она – у бабушки. Полы помоет в избах… и вернётся.
– Гы-гы, гу-гу, – говорит ребёнок.
– А ты как думал, – говорит Степан. И говорит: Где-то сетушка, на амбаре, у твоей бабушки, валялась. В Ялани. Надо достать её и починить. Потом – поставим. Ты ж рыбу любишь… Сеть-то не бабушкина – дедова. Тот всё рыбачил. Брал и меня с собой частенько. Хороший был у тебя дедушка… какой уж дедушка… прадедушка. До ста немного не дожил.
– Ма-ма, па-па.
– Ты по подушке бей – не по ногам, ногам-то больно.
– Ды-ды.
– Чё так смеёшься, казачонок?.. Мама у нас хорошая, Васюха. Красивая. Добрая. Постарет, будет нужна только нам с тобой, а больше… никому. Кому же?.. Жить-то со старыми – попробуй-ка.
– Па-па, па-па.
– Да, Васюха. Кто же другой-то… Кто?.. Это – и ты-то если старый… И то – не знаю… От их и пахнет… и капризные… Это уж так… любить их шибко надо. А про себя забыть немного следует… тогда – уж как-то.
Встал Степан с кровати. Пошёл на кухню.
– Себя-то меньше подмечаешь. В себе-то всё вроде нормально…
Картошку проверил на готовность. Слил воду. Несёт кастрюлю, замотанную в белое вафельное полотенце, к кровати. Поставил её в угол постели, накрыл подушкой.
– Мама придёт – чтобы горячая ещё была… картошка. Селёдка есть у нас – мы и поужинам. Ты-то вон… сытый. Сытый, Васька?
– Гы-гы, гу-гу.
– Ну дак, конечно. Столько вон стрескать… Вырастешь, милый, пойдём с тобой на рыбалку, ш-шуку поймам – ого какую. Или – тайменя… ещё лучше. Тот-то уж, парень… это – рыба.
Взял с дужки кровати розовое махровое полотенце, вытер им рот ребёнку.
– Я и не вижу, что испачкался. Вишь, вон иконы-то… ещё от Иванихи… А мы сидим тут, с грязной рожей.
Колотит Васюха попугаем по подушке.
– Вот так-то правильно… не по ногам же.
– Гы-гы, га-га.
Пошёл к двери. Покурил, в приоткрытую. Закрыл дверь.
– Зимой нам холодно – дверь обошью. Войлок… у матери был где-то припасён. Моль, может, только источила.
Пришёл, сел снова на кровать.
– У твоей бабушки, короче… Гы-гы, га-га… И я о том же. Брат бы приехал – матери помог бы, мне одному там с крышей не управиться – шифер подать да придержать бы… Ну, там жена – всему хозяин. Скажет ему: мол, не поедешь – и не ослушатса, и не поедет. Ну… это как там… все мы разные. Я – без обиды. Просто… как-то…
Бросил Васюха попугая, трёт глаза себе обеими руками.
– Сразу и спать вон, вижу, захотел – поел-то плотно. Давай-ка спать. Давай-ка, милый.
Положил Степан ребёнка себе на колени. Тот не противится, не плачет.
– Па-па, па-па.
– Да, да, сынок, давай-ка спать. Бежит серенький волчок, тебя хватит за бочок… И самому бы не уснуть… То раньше мама… Ещё тебя вдруг испугаю. В башке моей теперь другая колыбельная… Тебе б её вовек не слышать.
– Ма-ма, ма-ма.
– Да, Васюха, да. Кто тебе скажет, ты не верь… Правда – не в слове, правда – в сердце. Спроси у баушки, та тебе скажет… А она, мама, у тебя красавица. Мама у тебя хорошая. Бесценная. Это ведь так пока… А после-то… Тело ведь не роднит… и не сближат. Душа роднит, душа сближат. С таким-то телом, как у мамы, изжить нескоро – то, что требует… Как растопить дрова сырые. Если растопишь уж – надолго жару.
– Папа, папа, – говорит ребёнок.
– Да, да, Васюха, – говорит Степан. – Да, да, сыночек.
– Мама, мама, – говорит ребёнок.
– Да, да… и мама.
– Гу-гу.
– Мама твоя вернётся скоро. Полы помоет, и назад. Она хорошая у нас. Это вот я… я такой трудный…
– У-у.
– Я как к ней лягу, парень, спать, так почему-то всё и вижу… Он, Витя Чесноков, из Боготола… шибко сшибал на нашего учителя… этот – по физике который… ну дак – высовыватса Витя в выбитое взрывом, без рам, без косяков, окно, а ему выстрелом из пулемёта разносит голову, как тыкву, и мне глаза его мозгами забиват… Во сне-то всё и протираю – так залепило… до сих пор… Ты понимать?
Молчит Васюха – понимает.
– А мама наша – молодая и красивая… какой ж понравится такое… Скажи, Васюха? Себя поставь-ка в это положение, на её месте-то побудь… В мире таких – раз и обчёлся… Это с такой-то красотой…
Спит Васюха.
– Ну, так оно… Да и Флакон вон… Лес вырубают?.. Вырубают… Человека не будет, и лес нарастёт. Природа-то – она своё возьмёт. Бох поругаем не быват… как баб Дуся говорит. Кто-то пришёл?.. В сенях-то шорох.
Глядит на дверь – та сильно привлекает. Как что-то… Как киноэкран.
Открылась дверь – не распахнулась.
Она вошла.
В руке её буханка.
В глазах её…
Глядит на мужа.
На сына взгляд перевела.
Портрет так смотрит со стены.
Как лунатик – поворачивается и уходит на кухню – в прихожей будто опустело.
Возвращается. Без хлеба.
Стоит. Смотрит. Не моргает.
Руки вдоль тела – словно приросли.
– Ты, Катя, чё?.. Чё там стоишь-то?
Подходит Катя к кровати – как к пропасти, к обрыву.
Стоит. Рослая. Не по избёнке. Потолок низкий – как небо в ненастье.
– Катя, ты чё?.. Чё-то случилось?
Падает в ноги Степану Катерина и, глухо зарыдав, целует ему ноги.
– Катенька, Катя, да ты чё? Сына разбудишь. Катя, чё ты?
Молчит Катя, трясётся телом. Как земля. Содрогается.
– Я Ваську отнесу в его кроватку, – говорит Степан. – Дай мне подняться. Отнимись.
Не отпускает его ноги Катерина – играет будто. Но по глазам её – так не подумаешь. Как заболела. Или – умерла.
Переложил Степан Ваську с колен на кровать. Гладит жену по голове.
Волосы у той разметались – как от ветра.
Взял Степан жену за плечи.
– Ну, поднимайся.
Встала Катерина.
Смотрит.
На мужа.
– Я схожу в баню, сполоснусь, – сказала так – как никому.
Ушла.
Долго нет её – заждался.
Спит Васюха – в кроватке. Луна – по носу его гладит.
И тут – на улице – луна.
Вышла Катерина из бани.
Вошла в избу. Иначе, чем раньше – как в свою.
Снаружи можно увидать:
Погасли окна.
Сразу на одном из них луна разместилась – её как будто не впускают, – но она стёкол не ломает.
Со стороны можно услышать:
Не кричал этой ночью в доме никто, никто не плакал.
Была такая тишина – как на Красавице когда-то. Так замирает полнота. Пустое так не затихает.
Ни слов, ни циферь.
Бог нам в помощь.
Только в одном доме пылают окна.
Лежит в нём Василий Серафимович. Вчера ещё – яланский. Теперь – ветхий. Уничижённый. Бездыханный. Сущий уже во гробу, но не на глиняной пока ещё заимке – не добрался, никто его не подторопит. В доме, в котором родился и прожил. Прибирать будут завтра – скоро портится. Лежит – приобретает. Внимательный – познаёт. Никто к нему не обратился, не воззвал: «Старик, встань». И не встаёт. Тлеет, чтобы когда-нибудь в нетление облечься. Когда кости его взойдут, как трава, возведётся на них плоть и прострётся по ней кожа. После придёт от четырёх ветров дух и одушевит – обещано. Как древо жизни, станут дни его. Пока лежит. Свидетельствует. Зовёт нас, живых ещё, чтобы пришли взглянуть, как красота его телесная чернеет. Придут многие. Да не все. Кто-то по уважительной причине. Учитель физики, Иван Сергеевич, поедет в школу, в Полоусно. Хоть и не очень он там завтра будет нужен – так, может, кто-то полагает. Линейка в школе – дело важное. Не то, что смерть. Та – лишь тогда, когда приходит за тобой. Или за кем-то очень тебе близким.
Сидит на стуле около гроба овдовевшая. Имя её Таисья Алексеевна Плетикова, в девках Белозёрова. Яланская. Чалдонка.
Теперь:
В чёрном. Грузная. Скорбит. Никак узнать не может мужа. Замуж-то выходила вроде за другого.
По дому смерть-хозяйка ходит – значительная, ко всем присматривается – как к своим.
Ноль-два. Два-ноль. Два, или – несколько…
Пьеса заканчивается. Но все остаются на своих местах. Зрители вяло, приличия ради, требуют автора – вроде положено – или поаплодировать ему, или освистать.
Автор выходит, неловкий, неуклюжий, с любовью низко кланяется актёрам, давно ему, похоже, знакомым, отдельно и ещё более почтительно – исполнителю главной роли, лежащему в домовине. Затем поворачивается застенчиво к публике и произносит в зал косноязыко:
– Помолитесь за нас, немощных и грешных, за живых ещё и отошедших.
– Господи! Господи! Господи! Господи! – кто-то из зрителей, наверное, так помолился.
Санкт-ПетербургРождественский пост, 2008
Таха
(зарисовка в полутонах)
Памяти Виктора Карманова
Аспожинки.
Унылая пора! очей очарованье. Приятна мне твоя прощальная краса.
Увы, увы! и мы пристрастны. Привязан к миру я, словно язычник, на пуповине у него верчусь, болтаюсь, так что и голова иной раз даже кружится, как сильно. Но, по Григорию-то Богослову, «я – земля и потому привязан к земной жизни…». А что там у него дальше следует, пока, пожалуй, и не доскажу. Сейчас не вспомню.
Печаль небесная, сквозная, проникающая, её, как бабочку, сачком, ладошкою ли не поймаешь, щепоткою из воздуху не выхватишь, как паутину, в горсть не возьмёшь, в карман её не спрячешь, сердце снуёт в ней, словно ласточка перед отлётом над деревней; душа, как лист осиновый, трепещет, будто зовёт, зовёт её подспудно кто-то, она, сиротская, и откликается.
Или вот из другой уже, что называется, оперы: концерт № 3 из «Времён года» Антонио Вивальди – тот тоже, разумеется концерт, глянешь ли на притихший, будто очарованный кетской богиней Бангсель, лес, на изнемогшую, припавшую на изгородь траву или на высоко-высоко развёрнутое над Сретенском голубое, с поволокой белой, небо, забредёшь рассеянно ли в огород, в котором, до треску размордев и оттопырив зелёные, хрусткие уши, в ожидании своей очереди, осталась сиротеть уже одна только капуста, или, зачем-то выйдя за ворота, встретишься вдруг с отчуждённым, как у утопленника, взглядом шляющейся без дела и без цели угрюмой собаки с неизвестной тебе и ею, может быть, самой уже забытой кличкой, всё-то нынче и припоминается; будто звучит, звучит, но без аллегро, лишь адажио, и не назойливо, не пристаёт, как иногда прилипнет к языку какой-нибудь худой мотивчик, никак не отплеваться от которого, а, совпадая ладно с состоянием, в котором ты находишься и пребывает окружающее, – так же уместно, как и стих А. С. Пушкина; часто на ум теперь – и не зову, сама как будто по себе – наведывается из прошлого и девушка в венке из красно-жёлтых листьев, Артемида, зелёноглазая, в веснушках, стройная, как корабельный кедр, тихо придёт, побудет, плавная, как водоросль, и молчаливая – почти немая, и удалится своевольно, не удержишь; да только к теме данной это не относится; хоть и пощипывает сердце, как от скрипки; ну, значит, к теме; имя её на небе звёздном каждой ночью выявляется: Арина – колко – хоть головы не поднимай; когда за тучами не видно звёзд, тогда как будто кто-то произносит… но тоже больно.
Осень уже нагрянула, с низовки заявилась, как всегда, подкралась незаметно – всё ещё лето будто было, хотя уж небо ею и дышало, – но свою пегую кобылу оставила она, стреножив, в ельнике до сроку. Пусть пока там, ненастная, и постоит. И чем дольше, тем лучше. Мало кто по ней, поди, соскучился, земля разве да скворечники.
Сухо пока – и замечательно. Сверху сутки круглые не льёт, под ногами не чавкает вязко. А промозгло-то когда да грязь кругом, так скоро всем надоедает, собакам даже. День такой, другой, и все уже насытились и о вёдро заскучали. Сейчас вот ладно, любо-дорого. Помощь, ниспосланная свыше. Гулко. Дали ясны и проглядны – манят, влекут, хоть бросай всё, собирайся и беги в них без оглядки. Дым их ничуть не заслоняет – курится столбами прямо в небо, там, в синеве, и пропадает, растворяясь, – в огородах уже выкопавшие и убравшие в погреба или подполья картошку хозяева жгут ботву, успевают, пока дождём не намочило, или слякотью, а то и снегом до весны её не завалило, чтобы потом ещё с ней не возиться, перед пахотой. Ожидательно-тревожно: душа, как стрекоза-егоза из басни, лето красное пропрыгала беспечно, теперь всё чаще к небу обращается, чтобы печаль на Господа возверзить – Господь всемилостив, сам бы ты только подоспел к одиннадцатому часу, где не замешкался бы. По ночам уже и подстывает, иной раз к рассвету и до минус трёх столбик термометра, проверишь, снизится – в лывах низинных и в бочках поточная вода замерзает, ощутимо, чуть не до звона, ядренеет воздух – выйдешь на улицу, вдохнёшь его в себя из полумрака глубоко, будто взволнован чем-то или озабочен, выдохнешь, взглядом читая что-то в звёздах, – густо отпыхнется, прочитанное паром затуманя. Не протопи печь в избе к ночи, поленись да пронадейся на авось, то к утру она, изба, так выстынет, ещё и ветер крепкий если «взъерится» да «дух жилой», мамины слова, из неё, из избы, выдует, что околеешь и под одеялом. Но к полудню отпускает и стоит до вечера ещё чудно и ласково, почти по-летнему, солнце как может ещё греет, хоть и низкое уже, конечно, – почти скользом Сретенск опекает, а любит оно, солнце, Сретенск, иной день от восхода да заката глаз с него не сводит, а ему, Сретенску, это нравится. Ни утки, ни гуси с Севера пока что не летели, значит, тепло ещё подержится, подождут морозы лютые – колотуны, как говорят тут. Лиственный лес вокруг Сретенска оголился, стал прозористым, мало его здесь, поблизости, всё больше хвойный, а тот что летом, что зимою – одним цветом – подпирает небо над селом тёмно-зелёным чесноком острожным – бережёт Сретенск от сквозняков полуночных – устройно. Только и вздохнёшь, только и произнесёшь: Господи.
Я жду – томлюсь, как каша гречневая в горшке за заслонкой, – поджидаю из Елисейска своих брата Николая и сына Ивана, обыдёнкой у него, у дяди, отгостившего, которые давно уже, как мы заранее-то договоривались, должны были приехать на «Ниве» с Кармановым Виктором, старым приятелем моим и бывшим нашим односельчанином, имеющим теперь квартиру в городе, а живущим больше всё-таки в лесу, на пасеке, но что-то вот задерживаются. Не нравится мне это, нетерпелив я по натуре. Мы вчетвером намереваемся отправиться на Таху. А ждать и догонять хуже всего, как говорится. Оно и правда. Слоняюсь я по ограде неприкаянно, заглядываю то и дело, как наблюдающий, за ворота: не подъехали, не едут ли? Мама – в калошах, испачканных говном коровьим, в джинсах синих, в «модном», коротеньком сиреневом пуховике, отношенном, наверное, в своё время и оставленном здесь одной из её внучек, в шерстяном платке коричневом, завязанном под морщинистым подбородком, глаза живые, молодые, – подоив во дворе корову, процедив в подсобке молоко, выходит она оттуда в обнимку с полной трёхлитровой банкой, прикрытой марлей, – видит это – что я маюсь – и спрашивает меня:
– А ты червей-то накопал? Ещё нет ли?
– Накопал, – отвечаю.
– То-то. А хватит?
– Да как клевать будет… Поди, что хватит.
– Надо уж так, чтобы надёжно. Нехват – не брат, а злой прохожий… Всё к своей рыбалке подготовил? – интересуется она.
– Да вроде, – говорю.
– А то опять, как прошлый раз, уедете без вёсел… грести-то палками придётся.
– Нет, не уедем. Вон… возле лодки… положил уже их.
– Тогда сходи, я чё надумала, пока за мохом, – говорит мама, снимая около крыльца калоши. – То после, мало ли, и не удастся… Тут далеко ли… Скоро обернёшься… Бычок пришёл, а тёлки чё-то ещё нету, вот уж где блудня, так уж блудня, – беспокоится.
– Придёт, – успокаиваю я её. – Вся, – говорю, – в свою мамашу. И как так утелилась?
– Мамаша гольная, ещё и чище… Не загоняй её – и одичат… Сёдни ещё сама вот как-то заявилась… Придё-ё-от, – говорит мама. – Придёт, конечно… Жива-то-здорова, кто если не задрал, куда, пожалуй, денется… заявится, гулёна.
Мох ей нужен, чтобы положить его на зиму между оконными рамами. Мох туда лучше класть, чем вату или поролон. Естественно. Те впитывают в себя, как губка, влагу, сохраняя её долго, и подоконники от мокрети сгнивают быстро, коробится и шелушится на них краска, а мох – тот сушит: живёт-то долго, хоть и от земли вроде оторванный, отнятый, есть не ест, так только пьёт – и осушает всё возле себя до хаянки он. Да и «с мохом-то оно красивше». Не поспоришь, и вправду, красиво. А если на мох ещё и гроздья рябины, спелые ягоды клюквы, шишки кедровые, еловые или сосновые пристроишь – так и вовсе одно загляденье. «Как-то к душе оно, когда с ним, с мохом-то», – говорит мама. «Это уж точно», – соглашаюсь.
– Ладно, – говорю. – Без меня не уедут. – И продолжаю, зная, что оставаться, пусть и ненадолго, ей тут одной совсем не хочется – «в таком дому без никого-то так тоскли-иво… как забытому»: – Ох, – говорю, – мама, не пошёл бы я на эту Таху, честное слово, ни за что бы, ни за какие деньги не пошёл бы, да ведь он, Витька, соблазнил, злодей такой он.
– Конечно, – говорит мама. – Знамо дело, кто из вас кого сомустил, кто закопёрщик-то, известно.
Смеёмся оба.
Маме восемьдесят пять лет. Исполнилось в августе. Она ещё «в могуте» – «держит коровёнку», сама с ней управляется, возделывает свой «огородишко», на покос ещё со мной ходила этим летом – гребла, ворочала, «давая форы» своим внучкам, и помогала мне метать – «кака уж помощь тут, ну, на зароде, как кокушка, посидела, и делов-то» – серёдку топтала и вершила. Не прольёт зародишко, надеюсь, – получился. Мы здесь – помилуй, Господи, нас – гости, и к прискорбию. «Тянет» огромный дом она, после смерти отца, в одиночку. Отважная женщина, если ещё и вспомнить, что зима тут почти девять месяцев, а морозы в декабре и в январе и ниже шестидесяти градусов по Цельсию случаются. Ни к кому из нас – ни к сыновьям, ни к дочерям – даже пожить она не едет. И не уговорить. Тут, дескать, буду помирать – так, мол, дети, полагаю, если, конечно, Бог – Тот как иначе не распорядится, но уж на то Его Святая воля. И на кого корову-то оставлю, мол!? А куриц?! Вот и гостим по очереди у неё, то кто-то из её детей, а то из внуков или внучек её кто-то. Но гость есть гость – дом не на гостях стоит, а до тех пор, пока хозяин его подпирает… и пока Бог, естественно, созыждет.
Подался я.
Солнце садится – красное, припухшее – не лопнуло бы, напоровшись на верхушки ёлок, чего доброго. Сочно обохрились поляны – словно обсыпаны кирпичной крошкой. Нежно вечереет. Подались вороны в ельник на ночёвку – молчком нынче что-то, в тугих раздумьях будто, – подозрительно. Монахи, не управились ещё, мирно, безмолвно хлопочут на своём поле с картошкой – уже маленько не у края – докапывают. Высокий деревянный крест в их, монастырском, огороде освещён со спины золотисто лучами закатными – к востоку смотрит. Крест из осины, свежий, лишь едва околенный, но не обструганный – и не бликует – вовнутрь себе как будто золотится. Монахи молодые, алолицые, как на подбор, все крупные, медлительные. «Мешкотные» – так говорят в Сретенске.
Я им, монахам, через изгородь:
– Бог в помощь, – говорю.
– Спаси Бог, – откликаются они разноголосо. От земли разогнулись. Стоят. Одеты кто во что горазд. Кто в кроссовках, кто в сапогах резиновых, кто в перчатках грязных, кто без них. Лбы и шеи в красных крапинах – мошка наела, вовсе уж к вечеру-то злая. Воловые и волоокие. И бороды у них, у монахов, на солнце рыжевеют – но не от зарева как будто, а от вечности – тысячелетие какое, забываешь.
Помолились бы, думаю, обо мне суетном. Пожалуй, помолились. Устроен мир Твой, Господи, устроен: есть кому о ком попечься; а обо мне когда – уж вовсе радостно.
Болото рядом, чуть – через пихтач – не на виду у Сретенска. Клюквенное. Карликовые на нём берёзки, лиственнки и сосенки – впроредь. Как в тундре. Корявые. Несколько кедров, тоже не шибко стройных, не могучих. Слетают, меня заслышав, громко рябчики – черёмуху на рёлке обклёвывали. Далеко не уносятся, садятся тут же, смотрят в мою сторону со сковывающим их любопытством; большой табунок – курочек сорок; слепнут они в сумерки – на звук пялятся. Ружьё с собой теперь я не ношу, убивать жалко стало. В прошлом году двух подстрелил, домой принёс, отдал их маме. Села та их теребить возле печки. «Это последний раз, охотиться не буду больше. Жалко», – сказал я ей. «Кого жалко?» – спросила она. «Да их, хоть этих рябчиков», – ответил я. «Ну и нашёл, кого жалеть, – сказала, вздохнув, мама. – Так Бог судил. Для чего вот и плодятся. Не ты, другой убьёт. Не человек, так птица хищная или зверок какой задавит. Мир стоит, милый, на этом. Чё их жалеть, зло разве в этом?» Да, может быть, подумал я, но пусть другой убьёт, только не я. И вот, на днях тут, вычитал я у Блаженного Августина: «Некоторые стараются распространить эту заповедь («не убий») даже на животных, считая непозволительным убивать никого из них. Но в таком случае, почему не распространять её и на травы, и на всё, что только питается и произрастает из земли?.. Неужели же, слыша заповедь “не убий", мы станем считать преступлением выкорчёвывание куста и согласимся с заблуждениями манихеев?» И Бог ведь Ною завещал: «Всё движущееся, что живёт, будет вам в пищу; как зелень травную даю вам всё». И Моисею это подтвердил. Уж не впадаю ли я в ересь? А долго ли, помилуй, Господи. Мирская мудрость – буйство перед Богом.
Надрал я мху – зелёно-бело-жёлто-розовый – легко с землёй тот расстаётся, будто с опостылевшей чужбиной, и та, земля, о нём как будто не жалеет, от себя спокойно отпускает, – наполнил им, мокрым, плотно холщовый мешок, домой направился – влажнит мешок мне спину стыло – не застудить бы, думаю, то вдруг прихватит на рыбалке поясницу. Из пихтача ещё не вышел, слышу, машина сигналит – громко и протяжно – звук разбегается по околотку беспрепятственно, единолично – село притихло в предвечерии. Уже смеркается, но вижу, стоит возле нашего дома оранжевая, как мандарин, «Нива». Меня из леса вызывают. Тут я. Хоть и нагруженный, но скоро добежал – ещё бы.
Лодку мою, двухместную, «резинку» – весь день, туго накачанная, на сквозняке она в ограде просыхала, – сдули, скрутили, в рюкзак её упаковали, положили к ней короткие весёлки, самодельные, удобные для сплава по быстринам, котелки – один под суп, другой под чай – поставили в машину. Банки с червями проверили, все снасти просмотрели – что основное – ничего как будто не забыли. Собрались. На крыльце рядком уселись – помолчать-то на дорожку – так у нас водится извеку. Мы – я, Николай, брат мой родной, и Виктор, общий наш приятель, – возбуждены заметно – как собаки промысловые перед охотой. Сын мой Иван, в отличие от нас, восторгов особых не проявляет, вряд ли их и испытывает – не очень-то ему, понимаю, хочется тащиться на какую-то там Таху, речку таёжную, глухую, он не рыбак, совсем уж «питерский» – ему тут «дико» – без асфальту; к бабушке только прикипелся. Просто моей, отцовской, воле покоряется: сказал ему: пойдём – он и послушался. Не пристрастить – о чём и не мечтаю даже, – хоть показать ему природу нашу, ещё, слава Богу, пока «дикую», намерен, когда ещё он побывает тут, и побывает ли? Кому и нет, а мне печально.
– Ну, чё, ребята, трогать надо, – встав и отряхнув рукой сзади штаны машинально, говорит Виктор. – Ночь не поезд – не задержится. А дорога там – не карта.
– Ну, с Богом, – говорит, с крыльца спускаясь, Николай и осеняет скоренько крестом наш дом. Он недавно только покрестился и теперь знаменует, как новообращённый, каждый угол и всякую тень. – Благослови, – просит он маму.
– С Богом, – говорит нам мама. – Осподи, бла-ослови. И как вы там на пустоплесье быть-то будете?..
– До свиданья, тётка Васса, – говорит Виктор.
– До свиданья, Виктор Васильевич, – отвечает ему мама. – Храни вас Ангел и Никола Чудотворец. Ты, Ваня, там приглядывай, на всякий случай-то, за ними, – просит она внука, – следи, чтобы они не баловались шибко… И не Ислень, но речка всё же… Чё и за Таха за такая?.. Чем там таким вкусным только и намазано? Тянет вас туда… магнитом будто.
– Ладно, бабушка, – обещает ей, улыбаясь во весь рот, Ваня. – Присмотрю.
– Уж присмотри ты, ради Бога. А вы ему там повинуйтесь… Ну и доброго вам, рыбаки, улову, – желает нам она.
– Соли, пожалуй, взяли маловато, – смеётся Виктор.
– Теперь не жарко – не испортится, – улыбается и мама. И говорит: – Ну, поезжайте. – Курица к ней подошла, клюёт её в калошу. Калоша с прозеленью от навоза, курица глупая – а как же.
Уселись мы в машину – и припала та сразу, будто вдруг чего-то испугавшись, на рессорах: мы-то с Иваном, ладно, килограммов сто пятьдесят всего лишь, может, и потянем вместе, ну а вот в Викторе и Николае – в тех на двоих пудов шестнадцать-то, пожалуй, будет?.. Будет. Не выболели, как говорится.
– Так. Всё взяли? – спрашиваю я.
Такого не было, чтобы мы что-нибудь да не забыли.
Я на переднем, рядом с Виктором, а Николай и Иван на заднем сидении устроились. За ними дыбом – рюкзаки.
– Пока что рано, мы ещё тут, чё если и оставили, дак там, на Тахе, и спохватимся, – говорит Виктор. – А жизневажное-то вроде с нами.
Мы с Николаем понимаем, что имеет он в виду выпивку, и смеёмся – дух наш бодрый, на подъёме – впереди четыре дня рыбалки. Николай купил, как и условливались мы, два литра водки – одну литровую бутылку «Петровича», какую выбрать именно, он сам решал, по этикетке, вероятно, две других, пол-литровых, «Для храбрости», есть и такая вот, оказывается, – Виктор взял литровую бутылку самогонки собственного производства. А вот о том, что в моём рюкзаке таится капроновая канистрочка с тремя литрами «ливизовского» спирту, по моему заказу привезённого Иваном мне из Петербурга, Николай и Виктор и не подозревают даже, я это скрыл от них коварно. Пьём мы все трое редко, но, как выражаются в Сретенске, метко, после долго и не пробуем.
Таха, прорезав поперёк хребётик безымянный, перекатисто впадает в Тыю, уловом вымыв в самом устье яму глубоченную, – ох и таймени в ней когда-то зимовали! – Тыя, круто извернувшись, чуть ли не встречь, втекает в Кемь, а та – в Ислень, ну а Ислень – куда – да в Океан – куда же ей ещё и впасть-то, в нём только места для неё и хватит. Нет на Тахе по всему её течению ни деревни, ни посёлочка, никогда, поди, и не было, были лишь стойбища остяцкие да охотничьи зимовья, а сейчас и этих совсем мало – остяки вывелись, а охотникам далеко и сложно туда добираться – пешком-то нынче редко кто куда отправится. Рыба в Тахе водится только четырёх видов – хариус, таймень, гольян и щука. Щук крупных нет – до пяти-шести килограммов, не больше, а таймени всякие бывают – килограммов до пятидесяти-то, это точно. Вода в Тахе и в июле, в самый жар, студёная, прозрачная, а после первых зазимков, к ледоставу, и вообще её как будто в русле нет – такая ясная – как чьё-то имя. Дно в ней, в Тахе, в основном, камешниковое, а глубина – обманчива, как мара. Пробудешь на Тахе трое или четверо суток и ни одного человека не увидишь. Но не соскучишься; того, скучаешь по кому смертельно, тут не встретишь. Только самолёты пролетают высоко над Тахой. Таху оттуда, сверху, может быть, и видно. Бежит, петляет, отражая небо, а с небом, может быть, и самолёт. «Как бык пописал», – говорит про её извороты Виктор. Уж так вихляет. До самого ближнего населённого пункта от Тахи не меньше сорока километров. Сейчас нам нужно по тракту проехать двадцать километров до сворота, там ещё двадцать до Подгоренской бригады, то есть до Лиственничного, а после ещё пять километров от Лиственничного до пасеки, на которой большее время года живёт и работает Карманов Василий, родной брат Виктора и мой друг детства. Переночуем на пасеке, а рано утром, пока ещё не рассветёт, Василий нас на «Ниве» довезёт до устья Тахи, угонит машину назад, на пасеку, а мы, перейдя по бревну Тыю, станем заходить до места на Тахе, откуда и будем спускаться обратно. Вечером через четыре дня там, в устье Тахи, если Бог даст и всё пройдёт так, как нами суетно замышлено, Василий встретит нас, и мы отправимся домой. Какое счастье для меня побывать перед отъездом в Петербург на Тахе – всю зиму после будет мне она блазниться. Буду идти, сидеть, читать или работать, а перед внутренним взором, независимо уже будто и от моей памяти, отчётливо как наяву, станут вдруг вспыхивать, чередуясь с чьими-то глазами и веснушками, но из другого уже вроде фильма, виды и сценки: какой-то омут или шивера, ночной костёр или поклёвка. Мы там, на Тахе, этим летом уже были с Виктором и с Николаем, один раз в июле и один раз в августе. В июле донимает гнус, конечно, – сил нет, нет никакого от него спасения ни днём, ни северной короткой ночью – «в кровь» изъедают комары и слепни. В августе хорошо – нет ни слепцов, ни паутов, ни комаров – мошка, мокрец, но тех уж терпим, – и ночи тёплые ещё – сравнительно – тащить с собой туда не надо ватники, по крайней мере.
Из Сретенска скоро выехали – не Москва, даже не Киев. Едем. Совсем уж отемняло – не июнь месяц. Фары выключи, и глаз тогда коли хоть. Совки проворные срываются с дороги, порхают невесомо сколько-то, как мотыли, перед машиной в лучах света – забавляются, – исчезают после, в сторону свернув, в потёмки; мышками-житничками промышляют – с поля на поле перешмыгивают те через дорогу, вероятно. Машин нет ни встречных, ни обгоняющих – бензин нынче дорогой – мало теперь, не то что раньше, ездят: не экономят, может, но «жалеют»; это раньше – в магазин за водкой или «паперёсами» – и то на тракторе, на самосвале ли катались. Худа-то без добра – и тут вот – не бывает.
– А чё вы, – спрашиваю, – запозднились так?
Молчат – чалдоны тугодумые – не отвечают сразу, «кумекают»; Иван безмолвствует – в разговор встревать тому раньше старших вроде как не по статье – нравы в Сибири не столичные – он понимает это; а к нему пока не обращаются.
– Хе-ге-хе, – произносит погодя сколько-то Виктор. И улыбается. От уха и до уха, будто вспоротый. Как очеловеченное солнце на детских рисунках. При этом будто и лучится. Щёки его под самые глаза в густой, пегой щетине, а та – «как тёрка», и гладко выбритым я никогда его не видел. Голубоокий. Круглолицый. «Широкомордый» – так говорят в Сретенске, но в похвалу, а не в обиду. Прозвище в детстве у него, у Виктора, было: «Варвара» – теперь никто его уже так не называет, кроме его родного брата разве, тот иногда ещё и вспомнит: ну, Витюха, скажет, ну, Варвара – любовно.
Молчим – приятно ехать нам всем вместе; да и куда ещё – на Таху.
Урчит мотор, машина мягко катится.
Закурил Виктор. Курит он с мундштуком – «тянуть вкуснее», в шутку объясняет, «сладко», через мундштук-то; до сидения и втягивает – так, когда слышишь это, кажется; шумит в нём, в Викторе, при затяжке – как в скважине. Канская «Прима» – вот его избранница. Если и изменяет ей, так только в крайних случаях. Мундштук сам выстругал. Из «куричьей слепоты» – говорит – из бузины значит. Всё-то он в лесу его, мундштук свой, и теряет, всё-то он его, вокруг себя руками шаря, и ищет – делать-то нечего когда, так и занятие, а когда ждёшь чего-то, так и время скоротаешь – вещица нужная, выходит. А почему из бузины-то вот и только, мол? – Да почему, да потому, что дырку в бузине проделать легче, дескать, нутро-то у неё, что у старой, что у молодой, не как у «деушки», не тугое, а трухлявое, по природе, мол, такое, шилишко, проволоку, гвоздь, а то и прутик крепкий сунул, вынул, дунул – и готово; если один посеял безвозвратно вдруг, другой – минута-две – и смастерил; где «слепота» бы только рядом оказалась, мол, но, слава Богу, не диковинка. Понятно.
– Чё запозднились, – продолжает наконец-то Виктор. – Чё запозднились, хе-ге-хе… Да то и запозднились, что твоего вон брата выручал… И запозднились.
– А чё такое там стряслось?
Молчим. Едем. В свете фар нетопыри ушатые мелькают – вроде как искры, только – чёрные.
– Баба вон мужика не отпускала ни в какую, на подмогу пришлось ехать.
– У-у, – говорю я. – Дело обычное. Тогда всё ясно.
– Кому ясно, – говорит Виктор, – а кому и пасмурно… Продай корову да купи бабе обнову.
Включает Виктор магнитолу. Поёт Кадышева – от сердца, – поёт про то, как напилася она пьяной, не дойдёт она до дому – мы её понимаем, живо ей сочувствуем, – после поёт она и про другое. Слушаем. Проникаемся. Моя душа машину обгоняет. Жаль вот, что время-то не подторопишь – я бы уже стоял сейчас на берегу со спиннингом, рыбачил бы.
Миновали деревеньку, но уже бывшую, Черкассы, черкесскими казаками на берегу Кеми в семнадцатом столетии основанную. Теперь пустырь тут, днём кое-где только вереи от ворот увидеть ещё можно – торчат среди бурьяна прямо – для «жисти» ставились, навечно – не так легко их покосить; такие толстые – руками не обхватишь. Девушки в Черкассах были рослые, статные, с густыми, чёрными бровями – это я помню, – в одну из них, Шуру Черкашину, даже влюблён был горько в одно время; училась она у нас, в Сретенской средней школе, на класс меня старше. И пострадал же я тогда – от безвзаимности. Встретил её недавно в Елисейске – красивая; поговорили с ней – несуетливая. Рядом с такой и постоять-то – радостно – как в церкви.
– Жалко, нет уже Черкассов-то, – говорит Виктор, пялясь слепо в темноту оконца бокового. И в который раз уже, слышу, жалеет. Как проезжаем, так и вспоминает. – Веселее с нею было.
Может, и он, Виктор, тайно был влюблён в какую-нибудь из черкасских девушек? Может, и в Шуру же Черкашину? Не знаю. Его дела амурные – потёмки; не афишировал, «тихушник».
– Да-а, хорошая была деревня, – и Николай вздыхает по Черкассам. – У реки и на сухом, высоком месте… Умели место люди выбирать.
Кемь внизу, под яром, в темноте – сейчас её не видно.
– Да-а, – говорит Виктор, – управились с деревней коммуняки – как мамай прошёл – поразорили.
– Ну и эти… демократы – как шакалы, – заключает Николай.
– Ну а эти уж и вовсе, – соглашается с ним Виктор. – Восстанавливать не станут.
Проехали ещё три километра. Проскочили по мосту через Тыю – флуоресцентно мимо нас промчались с двух сторон его перила. Достигли сворота – но не тут же, а минут через десять, – вырулили с тракта на просёлок.
Останавливает машину Виктор, мотор глушит. Тихо становится. В ушах шумит лишь – словно после взрыва.
– Гул… Как в космосе, – говорит Николай.
– Ага, – говорит Виктор. – А ты там был?
– Пока не доводилось, – говорит Николай.
– Ну а хотелось бы?