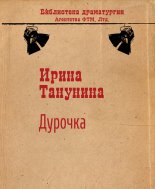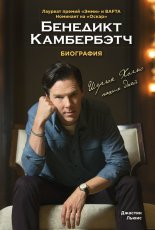Время ноль (сборник) Аксёнов Василий
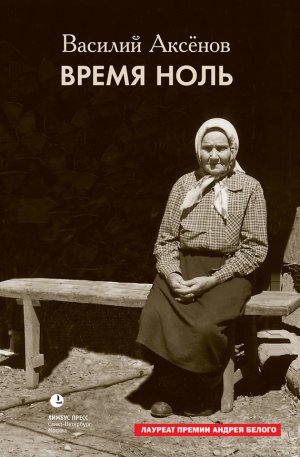
Кошка на подоконнике сидит, в окно на тучи смотрит.
Где-то собака воет заунывно.
Лежит.
Лежат.
Как неживые.
– Я ей, кобыле рыжей, все глаза повыцарапываю, – не поворачиваясь к мужу, произносит жена.
– Опять?..
– Опять… Нашла записочку… Штаны твои стирала.
Ветер на улице поднялся. Качать пихту за окном принялся. Тень от неё исчезла со стены – туча луну, наверное, закрыла – и в этом, временном, как будто вечность отразилась.
II
2
Нина Полуалтынных
Досмотрев очередную серию до конца, Нина, не проявляющая интереса к политическим, экономическим и культурно-спортивным событиям, а также, в целом, к только что начавшейся программе «Время», зная, что точного прогноза на погоду в Ялани там не скажут, выключила телевизор и, с пустым сердцем и с двумя красными бигуди на висках, отправилась на кухню. Не испытывая на этот раз никаких чувств и переживаний за героев сериала.
«Одно и то же всё мусолят… Можно давно уже родить… Треплют всем нервы. И себе-то. Муть голубая… не кино».
Достала из холодильника бутылёк с корвалолом. Накапала в стакан с кипячёной водой. Выпила.
«Ему и новости смотреть теперь не надо».
Поставила бутылёк на место, заглянула в холодильник.
«Есть на ночь не буду».
Дверцу захлопнула.
«Хоть и хочу… И почки целый день болят. Съездить, к врачу бы записаться… Потом уж. Завтра не получится. Как же там Ксюша-то устроилась?»
Стала готовить завтрак и обед. Мужу на завтра. Суп со свиной костью, уже проваренной, и котлеты из свинины, достав их, уже слеплённые, из морозилки.
Картошку чистит.
Вкусно пахнет.
«Я ей, гривастой…»
В углу, под столом, мышь чем-то шуршит, скребётся.
«И кошка в доме… Сейчас, к зиме-то, их полезет. Придёт, скажу – пусть ставит плашки… а то удумал».
Бульон кипит. Суп зарядила овощами. Котлеты поджарила.
«Ну, вроде всё. Дня на два хватит».
Накинув поверх халата куртку, пошла на улицу, чтобы собрать бельё, развешенное на верёвке.
Светло на улице.
Тепло.
И на угоре ельник – словно светится.
Звезда над ним – яркая.
Кузнечики стрекочут.
Туман над Куртюмкой. И там дальше – над Бобровкой. Есть и над Кемью, но не видно из ограды.
«В детстве так было хорошо».
Высоко в небе тучи редкие, над Красавицей – сгустились.
«И мама, жалко, умерла. Папка совсем уже состарился. А после мамки – так особенно. Сгорбленный. Завтра – не смогу, схожу к нему послезавтра. Возьму, что надо постирать – там накопилось. И не голодный ли?.. Хоть я ему и наготовила. Но он же это…».
Собрала в охапку всё бельё.
К крыльцу направилась.
«Голова болит – дождь, наверное, к утру начнётся. Да не наверное, а точно. Это давление ещё… уже измучило».
Вошла в дом. Бельё грудой на стол в передней положила.
«Гладить буду завтра вечером… когда кино буду смотреть».
Повесила куртку на крюк. Кастрюлю с супом на край плиты сдвинула – пусть напревает. Котлеты со сковороды убрала в чашку, другой чашкой, поменьше, их накрыла. Поставила на подоконник.
«Завтра найдёт… Пока горячие, не сунешь в холодильник… А не найдёт – ему же будет хуже».
Выключила на кухне и в прихожей свет.
Направилась в спальню.
Скрипит пол под ногами.
Вошла.
Включила свет в спальне. Сняла халат. Встала перед зеркалом. Приподняла рубашку, взглянула на ноги. Спереди оглядела их и сзади.
«Ну и ничё».
Выше не стала поднимать рубашку.
«На ночь не буду есть, может, и это…»
Свет выключила.
Откинула одеяло. Легла в кровать.
Луна. Пихта за окном. Молодая, небольшая. Островерхая. Подглядывает.
И на стене тень от неё – чётко отпечаталась, до иголочки. И тоже – смотрит.
«Плохо – когда луна… Уснуть трудно. Штора высохнет – повешу».
Достала с тумбочки флакончик с лаком. Ногти решила накрасить. Передумала.
«Накрашу утром».
Поставила флакончик обратно.
Торшер зажгла. Взяла с тумбочки альбом с фотографиями.
Раскрыла.
Фотография. Уже поблекла, пожелтела. На фотографии молоденький матрос в бескозырке. Улыбается. Во весь рот.
С обратной стороны надпись:
«Нине. На память. Радостный июнь».
Олег Истомин.
Не забывается.
Вернулся он тогда с флота. Отгулял с друзьями встретины.
А тут и День молодёжи.
Солнце. Хвоя. Кедр. Все на реке, кто в город не уехал. На яру. Вниз не спускаются. Большая вода в Кеми, после половодья ещё не схлынула, не в берегах, холодная – никто ещё не купается.
«А я тогда только закончила девятый класс. Идти или не идти в педучилище, думала. Пошла в десятый».
Он её помнил маленькой девчонкой. Так говорил, по крайней мере.
Часто взглядами встречаются, словно цепляются.
Он – только в брюках. Загорелый. Она в платье – без рукавов. Приталенное.
Его, Олега, девушка не дождалась.
«Да Танька, кто её не знает».
За другого вышла.
«Уж разошлись давно… Давно уже не замужем».
Все девчонки говорят об этом, шушукаются. А он, Олег, и виду не подаёт – будто весёлый. Он и весёлый.
«Интересный».
Вечером встретились возле клуба. Взял Олег у кого-то из друзей своих мотоцикл. И поехали они сначала за Ялань, на Лиственничную гору – вид оттуда классный, и она ни разу не была там. И на Красавицу. И на Ялань.
На Камень.
Полил тёплый дождь. Промокли.
Вернулись в Ялань. На яру кемском остановились.
Целовались до угара.
«Как ты мне глянешься».
«И ты мне».
Как ураган влетел он в её жизнь.
«Влетел и вылетел».
Уехал учиться. Не обещал.
«Но мне казалось…»
Приезжал сюда, к родителям, пока они живы были.
Больше, наверное, уже и не приедет.
«Тётка Елена. Дядя Коля».
И до сих пор, когда видит она его здесь, в Ялани, уже седеющего, сердце у неё заходится.
А внешне:
«Здравствуй».
«Здравствуй».
Всё на этом.
Спрятались они тогда от дождя на кемском яру под кедром. От его губ и рук голова кругом – впервые. А она ему сказала:
«Люблю. Но только после свадьбы».
Он не настаивал.
Не у него «впервые». У неё.
«Дура была. Сейчас бы по-другому поступила».
Закрыла альбом, положила его на тумбочку.
Погасила торшер.
Уснуть и не пытается.
На пихту смотрит – на ту, что на стене – тень её скоро будет на ковре.
Слышит:
Пришёл Иван.
«Крадётся всегда, как кошка».
К компьютеру подался.
Не задержался там. Теперь уж в спальне.
Разделся.
Лёг. И сразу – как уснул.
– Вчера штаны твои стирала…
– Ну?
– Нашла записочку…
– Какую?
– Я ей все волосы повыдеру, лахудре.
– Рано вставать… мне завтра в школу.
– Мне тоже рано – ехать в город… и поросят ещё кормить.
Спрыгнула кошка с подоконника – как лошадь. Пошла на кухню – не слышно.
Ветер начался за окном.
«Ну, хорошо, бельё-то убрала хоть».
– Я сдохну скоро.
– Не болтай.
– Сначала детям расскажу всё.
– Что это – всё?
– Молчи, кобель.
– Опять ты…
– Ладно.
– Нина.
– Ваня.
Качается в палисаднике пихта. Достаёт веткой до окна. В стекло скребётся.
Что-то тревожное есть в этом звуке.
Лежат люди в постели, под одним одеялом, бездвижные, молчат – как будто умерли.
Кто-то живой, похоже, – мёртвые не плачут.
3
Белозёров Григорий Павлович
Не раздеваясь и не разуваясь, в броднях, с загнутыми вверх носками – от многолетия, в дождевике, с куколем, полным листьев и хвои – нападало, когда шёл, не снимая вещмешка, только ружьё – старенькое, тридцать второго калибра, с отполированным от долгого служения прикладом – поставив в угол, вступил Григорий Павлович в свою избу, впервые в жизни – как в чужую, сел на скамейку около двери.
Сидит.
Давно уже. В пол, головой поникнув, смотрит. В руках шапку ондатровую держит – та из руки не выпадает.
Глядеть на него тошно – как в воду опущенный.
Тикают в избе ходики – им будто скучно: одним и тем же делом заниматься – лет, может, сорок или пятьдесят – не заскучай тут. Гири у них – подобие еловых шишек. На них, на ходиках, медведи нарисованы. Ещё и лес непроходимый – дебри.
Светит в три небольшие, улишные, оконца опускающееся в ельник – в ельник пока ещё, а не в пустыню – солнце. Обагряет лысеющее темя Григория Павловича, золотит и без того его соломенного цвета волосы, хоть и редкие, но не седые.
Смотрят, без нашей тошноты, сосредоточенно и строго с божницы тёмные лики Святых – пытают взглядами хозяина: что же такое с ним могло случиться вдруг? – на Них и взгляда не метнул – будто и нет Их – кто-то будто вынес.
Может быть. Утратил.
Весь в своё детство обратился он, Григорий Павлович, и пол не видит.
Вот, рано-рано утром, на Покров, будит отец его и говорит:
– Вставай, Гриша. Пойдём с тобой сегодня на охоту.
– Праздник же, – говорит мать. – Какая вам ещё охота? Не на добро.
– Ну а мы так, – говорит отец, – как на прогулку. А после – в церкву.
Вскакивает Гриша с постели. Одевается скоро, умывается.
– Надо позавтракать, не на голодный же жалуток.
Завтракает Гриша.
– Не торопись, не гневи Боженьку, – говорит Грише мать, гладя его по голове, кивая на божницу. – А то ещё вдруг поперхнёшься.
Пошёл отец в кладовку – так только дверь туда скрипит – как стонет. Возвращается из кладовки, улыбаясь. А в руках у него ружьишко. Тридцать второго калибру. Почти как новое.
– Вот тебе, сынок, подарок… Ко дню рождения. Ты наш старшенький.
Сам не свой от радости Гриша: не ожидал такого он подарка.
Мать стоит рядом. Подбородок рукой прикрыла. На глазах у неё слёзы. Уголком платка их смахивает.
– Ну а рука-то?
– Приловчится.
Вышли из дома. Ни свет ни заря. Ночи больше, чем утра. А ещё больше – звёзд на небе – то чёрное.
– Звёзды, – сказал отец.
– Звёзды, – повторил Гриша. Повторять за отцом – нравится. Не говорит он, отец, глупостей.
– Безлунье, – говорит отец.
– Безлунье, – повторяет Гриша.
Проводила их мать, благословив и перекрестив в дорогу:
– Ступайте. С Богом.
– С Богом оставайтесь.
Пошли, чтобы никто их не увидел, задами, – от сглазу.
Собака с ними – Соболь.
– Тятя, куда пойдём?
– Да тут вот, близко… На Красавицу.
Убежал вперёд Соболь – чтобы не мешать: толковый. Проведать только прибегает. Шерсть у него на загривке – всегда дыбом. И тогда – когда играет. Но старый – устал. Лежит больше в ограде. Бежит теперь вот только – на охоту.
Сразу в ельнике попались рябчики. Выводок. Штук сорок. Клевали костянику. Шумно разлетелись, расселись кто где. Фьюрикают. Соболь на них не лает – знает дело.
– Ну, – говорит отец. А сам стоит, не шевелится. Разомкнул ружьё Гриша, вставил патрон. Пальцы не повинуются. Но всё же справился.
Взвёл курок. Собачку чувствует, та – его палец.
Ружьё вскинул, стал, выглядев на берёзке одного рябчика, в него целиться.
– Долго не меться. Но не торопись, – шепчет ему отец. – И прижимай приклад к плечу плотнее.
Выстрелил Гриша. Сильно ударило его. Оглох – не слышит. Смотрит и ничего не видит – дымом вокруг всё затянуло.
В нос – крепкий запах: порох дымный.
И тятя – тот вроде слева был, а тут вдруг оказался справа и смотрит, кажется, в другую сторону – так его, Гришу, развернуло.
– Ого, – говорит.
– Ну так, – говорит отец. – Выстрел.
Опомнился Гриша. Побежал.
Отыскал в траве убитую им птицу. Тёплая ещё. И радостно, и жалко. Стал было снова заряжать ружьё.
– Пока не надо. Добыл одного, сынок, других не стреляй. Нам хватит.
В вещмешке птица, за спиной, – довлеет.
– Был раньше большим рябчик. Из птиц-то – самым, поди, крупным. Шёл наш Господь однажды по Раю, – говорит отец. – Вспорхнул рябчик и испугал Его. Разгневался Бог и сказал: «Не повторялось это чтобы, будешь отныне маленьким». И разделил мясо рябчика по всем птицам. Теперь в любой есть белого маленечко – оно от рябчика.
– От ря-ябчика.
Дошли они тогда до Красавицы. Красавица.
– А почему, тятя, Красавица?
– А ты смотри, – ответил тятя. – Какая красота тут.
– Да лес и сопки – чё особенного? Везде так.
– Да всё особенное – каждый кустик. Бог насадил и так украсил. Ты посмотри, деревья-то какие, вглядись-ка в каждое, и как по склонам-то ютятся. И место складное какое – как на картине. Живое только. Божий огород. На чё и нам бы, человеку-то, равняться – на природу.
Подстрелили они тогда ещё двух глухарей – одного на гальке, другого на сосне. Больше охотиться не стали.
– Гости придут, найдём теперь, чем их попотчевать. А то идь…