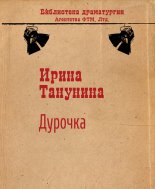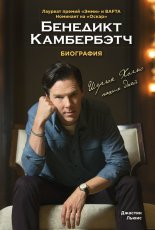Время ноль (сборник) Аксёнов Василий
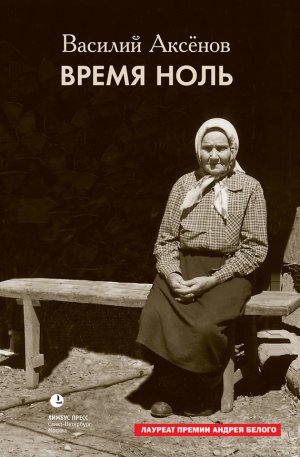
– Конечно.
– Какой ты, парень, любопытный, сладу на тебя никакого… Плохо будешь себя вести, отправим с Тахи, – говорит Виктор. – Правда, Иван?
– Не знаю, – говорит Иван.
– А кто тебе дрова-то станет на ночь заготавливать? – спрашивает Николай.
– Иван вон… Сами натаскаем, – отвечает Виктор. – Нас этим не испугаешь… Обойдёмся.
Иван тут встрял без разрешения:
– А мы и так ведь в космосе… Земля же в космосе вращается.
Мы промолчали.
Молчим и после. Слушаем. В машине полумрак, за окнами черно.
Включил Виктор в салоне лампочку и говорит:
– Стресс с Николая надо снять, однако.
– Не было у меня никакого стресса. Поехали, – говорит Николай.
– У тебя не было, так у меня из-за тебя был, – говорит Виктор. И говорит: – Бабу твою уговорить не просто оказалось… Как будто с танком побеседовал… через заряженное дуло… Ноги вон до сих пор ещё трясутся… как у продрогшего телёнка.
– Поехали, – говорит Николай. – Трясутся.
– Да, на педали вон не попадают, расплясались, – говорит Виктор. – Пошто такой-то ты… нетерпеливый? Куда торопишься?.. Как к полюбовнице. Беду догнать всегда успеешь.
– Заводи давай! Поехали!
– Поехали… Сёдня же, в ночь-то, заходить ведь всё равно не станем. Хотя тебе-то чё, ты запросто, конечно… Тебе что ночь, что день, что шло, что ехало… Ночью на мышь тайменя, может, вытащишь, и брату нос хоть раз утрёшь. Ступай… Только без нас, пешком, а мы – на пасеку, – говорит Виктор. И, оборачиваясь, говорит: – Иван, достань-ка там… тебе ловчее… в кармане рюкзака… бутылочку… а из другого – кружку… В моём. Ну, у тебя и дядька, парень… Суровый, как дратва. Боюсь его я. Только глянет – душа вянет.
Достал Иван бутылку и кружку, передал их Виктору.
– Николай пить не будет, – говорит Виктор, между колен зажав бутылку и протирая указательным, толстым, как толкушка, пальцем внутри кружку. – Чё-то там чёрное… Эмаль, поди, отбилась.
– Ага! – говорит Николай. – Не буду… Наливай!
– Смотри-ка, – говорит Виктор, с бутылки свинчивая пробку. – Какой нездержанный ты… Как парная медовуха.
Выпили мы самогонки по очереди из одной кружки – Николай, я и Виктор. Иван не пьёт – он «выбрал пепси». Отдаёт самогонка немного творогом. Салом с хлебом закусили. Закурил опять Виктор. В открытое окно дверцы дым деликатно выпускает.
– Крепкая, – говорит Николай.
– Ну так. Как солдат, – говорит Виктор. – Гомна не гоним.
– Коровой только пахнет, – говорит Николай. И говорит: – Но хорошо. Внутри как сразу затеплело.
– Да, – говорит Виктор. – Как у грешника от пламени пещного.
Постояли ещё немного. Поехали.
– Николай, – говорит Виктор.
– Чего тебе? – отзывается тот с заднего сиденья, судя по интонации, подвоха ожидая.
– Сколько у тебя женщин было?
– Нисколько, – говорит Николай. – Рули давай, а то куда-нибудь заедешь.
– Какой ты строгий, – говорит Виктор. – Поаккуратней мне, однако, надо с ним, Серёга, а то ещё утопит – плыть-то будем.
– Тебе с ним плыть, ты и решай, – говорю. – Я бы поостерёгся.
– Да уж решил… остерегусь, жизнь-то, наверное, дороже. Жизнь не бабочка – другую не поймаешь.
На Лиственничном, среди бескрайней темноты и тишины таёжной, гудит нутром огромный ток, светится, как замок, как дворец ли, трудятся на току люди – зерно, какое подвезли уже, веят и сушат. Повсюду техника разбросана, полуразобранная, нерабочая. Трактора, комбайны, сеялки, автомобили. Там и здесь стоят на тракторных санях болки, цистерны или бочки. Троса валяются, колёса, ступицы. Трава вокруг измазана мазутом, но не сплошь, а пятнами. Собака на обочине. Живая. Лежит на боку. Спиной к дороге. Мордой к нам лениво повернулась – и глаза её по-людоедски как-то загорелись.
– Ух, ты… Переключилась бы на ближний, – говорит про неё Виктор. – Меня-то чуть не ослепила.
– Угу, – говорит Николай. – Как лазером.
– Ага, Лазером Моисеичем, – говорит Виктор.
Сзади оставили мы и бригаду. Скрылись огни её за перелеском. Едем по выпуклому, как тарелка опрокинутая, полю. Клевер на нём. Густой. Полёг и перепутался. Вылетают из него, машиной вспугнутые, птички – крохотные – как моль.
– Много им ещё убирать, – говорит Виктор, имея в виду рожь, овёс и подгоренских колхозников. – До снега не успеют. Явно. А уже сеют-то… с кунчонку козью – малость. Заяц с маху перепрыгнет. Нет, – говорит, – у них ни техники, ни денег. Обнищали, как горькие пьяницы. Бедному вору у них нечем поживиться.
– И не пойдёшь сейчас по миру, – говорит Николай. – Кто где подаст-то?
– Ага, подаст… догонит и поддаст. Отберут ещё последнее… Не государство, так бандиты, – говорит Виктор. – Только и выручки у них теперь, что продавать налево и направо со своих земель, где уцелел ещё какой, лесишко.
– Да, – говорю я.
– Весь скоро спустят дядям из далёка, – говорит Виктор. – А тем там чё, у тех взгляд мутный – через доллар на всё смотрят, как девчонки через стёклышко, нас они тут в упор не различают…
– С травой сливаемся, – говорю я.
– Была бы прибыль… Есть, наверное, раз так нещадно сплошь всё валят, – говорит Николай. – А чё им мы?..
– Мы – блохи на собаке… В лесу-то плакать уже хочется… Ольху уж пилят, это надо же. Раньше такое и во сне бы страшном не приснилось.
– Да уж.
– Скоро, – говорит Виктор, – если и дальше так пойдёт, а оно на то похоже очень, и за мою куричью слепоту возьмутся. Без мундштуков останусь, ё-ка-лэ-мэ-нэ… Запастись, пожалуй, надо. Нынче за деньги всё – и задницу свою подставят и чужую расцелуют… Будто бы и детей ни у кого, зараза, нет. Ага. За бусы маму с папой проторгуют.
– Да-а, – говорю я. – Ситуация.
– Ещё какая. Ситуация… Раньше по берегам, вплотную к речкам, не валили хоть, – говорит Николай.
– Но, – говорит Виктор. – Было запрещено, маленько всё же соблюдали. Теперь без удержу, как колорадские жуки, везде сгрызают подчистую всё. Теперь дозволено… Пустыня скоро будет.
– Гоби.
– Рос бы лес на небе, добрались бы и туда. На трелёвочнике на небо прямо бы и въехали, а там спросили бы: Эй, Бог, где тут лесишко у Тебя находится? – говорит Виктор. И спрашивает: – А чё тут сделаешь? – И отвечает: – Да чё, ничё… Шальное время.
– Сами мы шальные, – говорит Николай. – Перед концом всё…
– Это-то понятно.
Грустно становится. Молчим. В уме отчаянье, как желваки, бессмысленно переминаем.
Едем.
Дорога здесь пошла совсем худая, лесовозами разбитая. Не на «Ниве» бы, и не проехать. Машина хорошая. Да и водитель неплохой – со стажем, ловко с баранкой управляется – «как с ложкой».
– Николай, – говорит Виктор. – Может, на Лиственничное вернёмся, далеко-то пока не отъехали, да повариху заберём с собой?.. Есть там такая, в твоём вкусе: обширная – как по горам, по ней охотиться с собакой можно…
– Ага, рули давай… Забрал он! Места в лодке ей не хватит, – отвечает ему Николай.
– Какой ты нравственный… мораль блядёшь, однако. По берегу бежать будет, – говорит Виктор. – Тоже мне, выдумал проблему. Сергей по левому, она по правому, по одному-то их пускать нельзя, конечно, – за первым же кривуном снюхаются, а нам с тобой потом чё делать?.. Зубами с голоду скрипеть. Суп-то она варить ему, Серёге, только станет. – И говорит: – Ох, у тебя и брат, Сергей… сердитый.
– Гроза, а не мужик, – говорю.
– Гро-озный, – говорит Виктор. – Как наместник.
– Два зубоскала, – говорит Николай.
Иван помалкивает.
Тепло в машине, табаком пахнет – вроде и вкусно. Кадышева ещё поёт – теперь про терем – задушевно и об этом.
Слышно: залаяли собаки – дружно, но не задорно. Видно: с разных сторон, из мрака выявляясь, сбегаются они неторопно к дороге – встречают. Приветливые. Ушки у них на макушке – как фанерные, хвосты качаются у них на спинах калачами, глаза – как угли раскалённые – но не от злобы, а от света. По сторонам держатся, под колёса бестолково не лезут – не курицы – те от машины убегают под машину же.
Свет фар, скользом, темноту как будто соскребая, выхватил из гущи соснового и берёзового леса стену избы бревенчатой, листвяжной, с небольшой дверью и одним на эту стену тоже небольшим окошком, а после – баню и сараишко.
Развернулись, под навес спятились, остановились. Пока сидим, не двигаемся.
– Приехали, – говорит Виктор.
– Да-а, – говорю я. – Приехали.
– Слава Богу, – говорит Николай.
– Сим-сим, откройся, – говорит Виктор.
Дверь в избушке отпахнулась – хозяин вышел. Стоит в дверном проёме. В свете фар, рукой глаза не закрывая, в нашу сторону жмурится. Босиком, в чёрном трико и в белой майке, та навыпуск.
– Красавец мужчина. Как петух перед атакой… брат-то, – говорит про Василия Виктор. – Панк… Явление народу.
Волосы на голове у Василия гребешком вздыблены. Борода всклокочена. Заспанный.
Выбрались мы из машины, разминаемся – полтора часа в дороге были, не меньше – ноги занемели. Иван стоит, собаку по загривку гладит, та только веками – жонглирует как будто ими.
– Здорово, брат, – приветствует Василия Виктор.
Здороваемся с ним, с Василием, и мы.
– А ты опять, однако, чуть не трезвый? – говорит ему Виктор. – Не просыхаешь, как ондатра.
Молчит сколько-то Василий. Вглядывается в нашу сторону, как в пустое. После того уже, как узнаёт нас, произносит:
– А-а, это вон кто… вы, – и улыбается. И продолжает: – Да как всегда… совсем немножко… только для живости, а так-то оно на хрен бы… Гости вот перед вами лишь уехали. А не попались вам навстречу? Их угощал, дак и… маленько.
– Нет, – говорит Виктор. – Никого нигде не видели. Разве по воздуху они, как утки, пролетели?.. На чём?
– На тракторе.
– Нет, не видали… След вроде есть, а трактора не видели.
– Да?.. Странно чё-то, – говорит Василий. – Недавно вроде и уехали… А я прилёг только и думаю, кого опять холера принесла тут – собаки брешут?.. Может, они, сломался трактор, дак вернулись? Ну, заходите, – приглашает.
Все мы уже – кроме собак, конечно, тем не дозволено бывать тут, даже заглядывать сюда заказано – в избушке. Кто сидит, а кто прохаживается.
В глазах у нас ещё дорога не угасла – виртуально набегает.
Засветил Василий лампу – фитиль укручен был в ней только – выкрутил, а дым пошёл – чуть-чуть убавил. Стекло у лампы сверху задымлённое, словно тонированное.
На столе полно посуды, беспорядочно приткнутой: вместительная деревянная кумка с зелёным незасахарившимся ещё мёдом, алюминиевая чашка с крупными кусками варёной лосятины, ножи различные, от охотничьего до кухонного, ложки, вилки с нормальными и изогнутыми то чуть, а то и до крючка зубцами – что же ими ковыряли? – эмалированные кружки, внутри рыжие от медовухи. Хлеб «домашний» на разделочной доске, толсто нарезанный – ломтями, блюдце с солью крупного помола – «каменкой», бочонок-перечница, лук, чеснок и огурцы солёные в тарелке. Тут же и несколько наполненных окурками до кромок «пепельниц» – жестяных консервных банок с напрочь вырезанными в них крышками. Падают от всего на столешницу тени – зыбкие, как тина, – даже от спичечного коробка.
Запах знакомый, ничего нового. В запечье стоит небольшой ларь с вощиной, на подоконнике лежит скатанный в шарик прополис – ещё и ими пахнет благовонно.
В углу, на маленькой косыне, икона закоптелая, средних размеров, старая – Святые воины Георгий и Димитрий. Тонкоколенные. Кудрявые. Стоят – вооружённые. С ними не страшно – под защитой.
Висят на стенах большие, цветные репродукции с фотографий – актрис, Алфёровой и Яковлевой, одна против другой, в пристойном обе виде, и девицы безымянной в узких трусиках, но с голой грудью – на нас, на всех одновременно, и на гостей, и на хозяина, лукаво щурится она, девица эта, но – не Саломея.
– Василий, – говорит Виктор.
– А? – откликается тот.
– Артистки пусть красуются – на добрые наводят мысли, а эту, девку-голотитьку, снять пока, наверное, придётся, – говорит Виктор. – Завтра – не будет нас, тогда – повесишь.
– А чё такое? – удивляется Василий. – Чем она тебе не угодила?.. Кровь с молоком, в прыску… Участки тела и… фигура вон… И глаза – согласие сплошное.
– А вот в этом и причина… Да и мне-то ладно, мне-то чё, – говорит Виктор, – я не греховодник, в похотях не тлею. По мне-то пусть она хоть и трусишки свои скинет. Бесполезно. Не откликаюсь на такое. Николая, парень, жалко.
– А-а, – говорит Василий. – Тогда понятно, – улыбается.
Молчит Николай, на икону смотрит.
– Да пусть, – говорит Василий.
– Не знаю, – говорит Виктор.
– Трепло, – говорит Николай.
– Ага, конечно… Я вот и трепло. Я ж о тебе пекусь, забочусь о твоём благоспокойствии… Смотри, – говорит Виктор, доставая из нагрудного кармана энцефалитки сигарету и мундштук. Размял. Неспешно зарядил. Прикуривает. Затянулся. Дым после в матицу протяжно выпахнул. И продолжает: – Спать надо будет лечь подальше от тебя, на всякий случай, то ещё приснится чё-нибудь тебе такое… пакость какая-нибудь… и поколотишь.
– Ложись на улице.
– Придётся.
Тихо бормочет с тумбочки, заваленной ружейными патронами, журналами и пачками «Беломора», переносной приёмник – он никогда здесь и не выключается – батареи под ним, в тумбочке, огромные – надолго их хватает – на полгода, то и на год. Трещит в нём больше что-то, щёлкает таинственно.
– Подслушивают, – говорит Василий.
– Но!.. Майор Пронин? – спрашивает Виктор.
– Инопланетяне.
– Кого, тебя?
– Меня.
– А-а, – вскинул брови Виктор. Говорит: – Это-то может быть, конечно. У них забот, наверное, тебя только подслушивать… Чё и летают тут, как галки. – Брови опустил. Окурок из мундштука в пепельницу спичкой выковырял молча. Продолжает: – И подслушивают, и подглядывают. Нос суют везде свой, шныры. Наказание и только. Еще на камеру, поди, снимают, одинокого-то, как ты с собаками да с петухом тут разговариваешь, им, любопытным, интересно: венец природы наставляет подопечных. – Мундштук продул, в карман его убрал. – А после про тебя кино там, на тарелке, смотрят, как порнуху ребятишки, уссываются. – К двери прошёл, к столу вернулся. И говорит: – Путнего много из тебя, наверное, извлечь надеются, раз наблюдают-то. Ты для них, брат, как находка – месяца два проквасить можешь, не закусывая, и ходить за пасекой при этом, как нормальный. Ты для них, для нас как – трезвенник… как чудо.
– Но, чудо-юдо, – соглашается Василий.
– Они, беспупые, на связь с тобой, трещат, пытаются всё выйти, а ты то пьяный, то весёлый – ни бе, ни ме им и не здрасте. Вот и добейся от тебя… И почему тебя-то они выбрали? – Не садится Виктор, пол ногами будто мерит. – Ну, жди теперь, брат, приземлятся тут на блюдце со сметаной… ульи-то, жалко, посшибают, потом ходи их расставляй, забота… перевезут тебя с собой куда-нибудь, где у них логово-то или база… а там ни водки и ни медовухи, и чем ты, парень, опохмелишься?..
Озадачился Василий.
– Да-а, – говорит. – Не знаю даже.
– Ну а чё, – увлёкся, видно, Виктор, – может, они, бродяжки злостные, как раз такой вот опыт несусветный и хотят проделать над тобой: выживешь ты или нет там, в невесомости, без алкоголя-то?.. От них, мутненьких, всего ожидать можно. Как от масонов.
– Да уж. А я и тут как в невесомости… мне чё масоны?
– Это понятно. Тебе сейчас все черти по боку…
– Ага. А чё мне?
– Ребята с рожками тебе ещё тут не являются?
– Да вроде нет ещё… тьпу-тьпу, – говорит Василий. – Хотя, кто знает, может, и являлись, да я их, может, не узнал… рожки-то если под фуражками у них скрывались… или под касками… не знаю.
– Это-то вот, поди, скорее… А кто тут был-то? – спрашивает Виктор.
– Я им, пришельцам-то, на кой, такой-то, сдался?.. Не на пельмени, не на студень, – говорит Василий, сам себя как будто успокаивая. – Шибко уж тощий – не обстрожешь… Только что на бульон… и то на постный. Едят они такое, нет ли?
– В порошок тебя помелят.
– Ага, как перец, – говорит Василий. – На приправу… А так-то чё, пусть приземляются, чем их попотчевать, найду уж.
– Без вопроса, – говорит Виктор.
– А увезут… Да пусть увозят. Может, со пчёлами чё надо делать, посоветуют… как их лечить-то… Они же вумные – всё знают. – И отвечает: – Да эти – Вебер с Бледнолицым.
– Кто всё знает, тот дома сидит, по пространству не мотается, – говорит Виктор. И говорит: – А-а, постоянные клиенты. Ну а они тебе не примерещились?
– Да это вряд ли, – говорит Василий. – Я ж ощущал их, не казались… Кружками часто, помню, чокались… болтали.
– Столько попей, не только кружкой чокнешься… так полагаю.
Володя Вебер – просто – потому что Вебер. Фамилия у него такая. Был бы он русским, назывался бы Ткачём или Ткачёвым. Из поволжских немцев, ссыльных. Сам-то не ссыльный он, конечно, здесь уже родился. Так обрусел и осибирился, так тут прижился и прирос к этим неласковым местам, что никуда его отсюда, ни в какой хвалёный-расхвалёный зазывалами-сиренами сладкоголосыми обетованный Фатерлянд не выманишь. «А я ничё не потерял там», – так отвечает он, Володя Вебер, на вопрос: а ты-то почему туда не съездишь, дескать, не скатаешься? Ваня Перунин – тут сложнее – он Бледнолицый потому, что лицо у него, как «советский флаг», постоянно красное, принял он, Ваня, уже сколько-то, не принял ли ещё ни капли – всегда как будто «остограммившись». «Тебе, Ванька, хорошо, – как-то сказал ему в шутку при мне, помню, Вебер, – на тебя машина не наедет, по спецразрешению только – у тебя морда как «кирпич» запретный… Или шофёр уж в сиську разве пьяный». Ваня ему тогда ответил смехом: «На тебя зато наедет – ты гестаповец. Ферштейн?». Ваня Перунин и Вебер Володя друзья с детсадовского возраста и, к тому же, закадычные: где один, ищи там и другого – пьют они, как близнецы, всегда на равных.
Улыбается Василий. Продолжает:
– Бледнолицый тока что вот из больницы… Вчерась или позавчерась, на днях тут, вышел… Дак, что выписался, обмывает.
– Ну и чё опять с ним приключилось? – Не стоит он, Виктор, не садится, по избушке, половицами скрипя, прохаживается. – Грибов поганых обожрался?
– Есть-то чё будете? – спрашивает Василий. – Суп, может, разогреть?.. Сварено у меня… Не суп, правда… Шерба с налима… Утром мордушку бегал проверял… Залез, паршивец… Не люблю я их пошто-то?.. Оттого, что склизкие, как пропастины, может… Одноглазый почему-то?.. Кто ему его в воде-то там и выткнул? С крутым ершом подрался, может? – улыбается.
Нет, отвечаем, дескать, сыты, не успели, мол, ещё проголодаться. Чаю с мёдом выпить соглашаемся.
– Мёд на столе… А чай, недолго, подогрею… Да чё, чё, – говорит Василий. Подхватил с полу, поставил на буржуйку примус, им занялся. – «Шмель» чё-то начал барахлить, зараза, хоть уж к зиме, к сезону-то, совсем бы не сломался… Ясно, чё. А ты не слышал?
– Нет, не слышал. Я – от кого?
– Дело обычное. – Запалил примус. Зашипел тот. Устроил на него чайник. – Сидели они втроём у Миши Орлова на пасеке – он, сам Миша, Бледнолицый и Володя Вебер; троица; Вебер спал уже, убайкался, концерт весь этот пропустил; ну и – естественно чё – выпивали: пчёлы последние у Миши сдохли – поминали. – Стоит Василий около буржуйки. Тень его над ним нависла. Пах почесал себе, и тень заколыхалась. – Ночь лунная. Светло, как днём. В окно-то чё-то кто-то из них глядь – ну, ё-моё – медведь возле избушки. Явился, но, не запылился. И за столом их будто не было. Вылетали они, как понос, из избушки на улицу и на него, на зверя, как на мужика… Ружьё с собой взять позабыли. Ну, конечно. Его, медведя, тапочком по морде. А он не любит – ать на дыбы и поломал маленько кости им… Посостязались, поборолись. – Снял Василий с чайника крышку, попялился сквозь пар в чайник. – Ничё не видно чё-то… Кипячёный, подогреть лишь… Ване-то ещё как-то повезло – легко – ушибами отделался, счастливый. А у Миши и рука, говорит, погрызена, прокушена, однако, и несколько рёбер опять сломано. Долго тому лежать ещё в больнице. Вебер ему туда и самогонки отвозил уже… Анестезия.
– Костоправ медведь, да самоучка… Мише всё мало почему-то, – говорит Виктор. – Его же раз уже помял один и вроде сильно… И тоже так же, в пьяной драке… Где неуёмный-то Есенин… Ну а собаки-то где были?
– Мало, наверное, – говорит Василий, – ещё-то если лезет. Дёрзкий.
– Что ты, – говорит Виктор. – Как Чапаев.
– Ничё, когда-нибудь нарвётся. Шею свернёт ему какой-нибудь, тогда угомонится, может. А медовухи-то вы будете?.. Собаки были на бригаде – летом же Миша их не кормит – сами себе, как волки, промышляют.
– Наскребёт кошка на свой хребёт, это уж неминуемо, конечно. Дурную голову и хмель-то не берёт… По кружке если, но не больше, – говорит Виктор. – А то заходить тяжело завтра будет. Ты-то пойдёшь с нами?.. Или ты тут себе наловишь… Николай вон разве – тот тебя поддержит.
– Ага! – говорит Николай. – Только попробую… а то поддержит.
– Нет, – говорит Василий. – Некогда.
– А-а, медовуху всю ещё не выпил?
– Да вроде есть ещё маленько, – улыбается Василий. – Мне на неделю, может, хватит… если кто только не заявится, а то тут… как на дискотеке… то рыбаки, а то колхозники… то леший так кого притащит.
– Как нас?
– Как вас таких вот… но, – и улыбается.
Совсем друг на друга не походят братья – будто и не родные они вовсе, а сводные. Как, впрочем, и мы с Николаем: он, Николай, светлый, как говорят в Сретенске чаще – белый, а я смуглый, «подкопчёный», – разные мы полярно с ним и по характеру. Ну и у них вот, у Кармановых. Виктор русоволосый, крупный, полный. Лицо у него русское – курносое и круглое. Жить долго без человеческого общения он не умеет – сутки-двое сам с собой в лесу побыл и надо ему к людям на минутку – побеседовать. Василий слегка рыжеватый, невысокого роста, сухой, горбоносый, узколицый – как германец. Может в лесу находиться один месяцами – и даже если пить не будет водки или медовухи – не соскучится. Василий с бородой, редко когда её снимает, а Виктор хоть и не ежедневно, но бреется. Оба пасечники и охотники хорошие, чем до этого и жили. И небедно. Туго теперь, конечно, им приходится – пчёлы больные, мёду собирают мало, и продать его нынче непросто: завались на базаре «узбекского», хоть и ненастоящего, но подешевле, заготовители пушнину принимают за бесценок, а народ её теперь не покупает вовсе – нет потому что денег у народа. Правда, кому сейчас не туго?.. Вопрос такой знакомый, риторический.
– Барыгам, – говорит Николай.
– И тем легко ли? – говорит Виктор. – Крутятся… Шибче, чем шарики в подшипниках. Так повращайся, парень, повертись-ка, и под теменем-то мало чё останется – всё до коробки голой выдует.
– Чиновникам, – говорит Василий. – Этим всегда у нас – когда не страшно им, дак, значит, хорошо… А побоятся если изредка, понервничают где маленечко, потрусят, то недолго – ко всему, как крысы, приспосабливаются… Не для себя, так для детей своих оставят, что натащут… Хоть и толку с этого не будет. Не добром нажито, не в добро и обернётся – так оно водится, не я придумал.
– И чё за гуси за такие – эти и чиновники? – говорит, посмеиваясь, Виктор. – Хочу, однако, быть чиновником, хочу и шибко, аж трясусь вот… Определи меня в них срочно, Николай.
– А что чиновники? – говорит Николай. – Никакие чиновники, хоть самые расчестные и расхорошие, никакие самые разумные реформы делу не помогут, пока Промысел Божий не увидит, что нам это, жизнь-то сытая и сладкая, пойдёт на пользу… Спаси, Господи, люди Твоя… Да и бывает ли она на пользу?
– Это-то так, конечно, чё там, – говорит Виктор. И говорит: – А всё равно хочу я стать чиновником. Хочу и всё тут, подайте эту должность мне. Перед бабой стыдно хоть не будет. Запиши меня в них, Николай, в чиновники.
– Сам записывайся, – говорит Николай. – И сядь!.. То мельтешишь… туда-сюда… как камерник, тут расходился.
– Какой ты строгий, – говорит Виктор. – Как царь… Я насиделся, – говорит. И продолжает: – А нам оно – хоть мы и не чиновники, да – лучше: иметь-то хлопотно, а не иметь легко. Да, Николай?
– Отстань!
– Ладно, шут с ним, не буду я чиновником. Кем есть теперь, останусь пчеловодом – спокойней как-то… Только вот баба?.. Э-э, да и пусть маленечко попилит, беда-то, раз у неё обязанность такая, на то она ведь и пила-то поперечная… Ещё бы пчёлы вот не гибли. Иван… Ива-ан!
– Что?
– Не женись.
– Не буду, – говорит Иван. Расположился он на койке, листает потрёпанный журнал «Охота».
– Сядь ближе к лампе, – говорю ему я.
– Да ничего, мне видно, – отвечает.
– Глаза испортишь.
– Не испорчу.
И потолкуй с ним.
Вышел Василий из избушки, вернулся вскоре с трёхлитровым алюминиевым бидончиком, на стол его поставил, улыбается.
– Эту, – говорит, – и я ещё не пробовал… Проверим, – и сияет – не то что лампа его – ярче.
Попробовали. Вкусная, парная. По кружке. Больше-то, хоть и хотелось, но не стали – идти завтра тяжело будет – испытано. Чаю попили с мёдом – удоволились. Мёд замечательный – «с осоту и с шишкарника». А медовухи, пепси изменив, и он, Иван, с полкружечки отведал. Заулыбался после. Как от радости.
– Это не водка, пей… полезно, – так сказал ему Василий. – На отца-то не поглядывай. Здесь не он, а я распоряжаюсь.
– Как не полезно-то, полезно, – отозвался тут же Виктор. – Из ушей бы не полезло… По тебе, парень, заметно – как спортсмен вон… лось поджарый.
– Но. Бегун на дальние дистанции, – сказал Василий. Улыбается.
– Ага, бегун!.. Ползун… до Фляги и обратно. Равного нет тут. Чемпиён.
В избушке натоплено.
– Как в Африке, – говорит Николай.
– Ага, – говорит Виктор. – К утру будет, как в Оймяконе.
Хозяин лёг на одну кровать, я – на другую, две их всего тут; обе с панцирными сетками; лежать неловко на такой мне без привычки – прогибается, у себя я сплю всегда на жёстком; Николай, Виктор и Иван, постелив матрасы, устроились прямо на полу. Пока ничем не накрываемся – жарко. Беседуем. О разном. Больше о внутренней политике, конечно, – нет уже никаких у нас благих надежд на будущее, жизнь всё худеет вроде и худеет, народ нищает и спивается, зато чиновники «мордеют и борзеют»; Москву легонечко покляли, дескать, устроилась удобно, на счёт всей страны «с жиру бесится», да, мол, добром-то это ведь не кончится, – везде её, столицу нашу «дорогую», клянут в полголоса, по всей России, и мы вот тоже. За президента, дескать, стыдно – пропил великую державу, отдал её жулью на откуп. Но жить-то надо – заключили.
– На всё воля Божья, – сказал Николай.
– Ну, это-то понятно, – ответил ему Виктор.
Мыши за печкой шебуршат сухим горохом.
– Вон, как чиновники, – говорит про них Виктор. Лежит он на боку, на взлокоточке, курит, пепел сбивает в пустую консервную банку, стоит та около его матраса. – Несуны.
– Ещё какие, – говорит Василий. Развалился он на спине, широко раскинув ноги, пускает дым от папиросы в потолок, туда же и смотрит неотрывно, потолок как будто подпирает. – Мне под постель тут натаскали… под подушку… Конфисковал я раз, другой, они по новой…
– Запасливые.
– А то.
Фитиль в лампе убавлен. Бормочет, потрескивая как костёрчик, транзистор – что-то про томских фермеров сначала, про их бесчисленные нужды, после про русских и украинских девчушек, скопом бегущих за границу на «тяжёлые» работы.
– Бедняжки, – говорит про них Виктор.
– Но, – соглашается Василий.
– Страдают, – говорит Николай.
– Что ты, – говорит Виктор. – Жалко?
– За Родину обидно.
– А Родина-то чё тебе?.. Наоборот, – говорит Виктор. И говорит: – Всяк хлопочет, добра себе хочет… Вам хорошо, а нам подавно. У них профессия такая – очень, говорят, древняя… Там, парень, жалость исключается… там, парень, бизнес. Сюда, на пасеку бы, лучше прибежали.
– Ага. На кой они мне тут сдались, – говорит Василий. – Без них тошно.
– Развеселили бы тебя.
– Да уж куда там… Моё веселье вон, в бидончике.