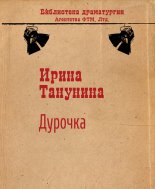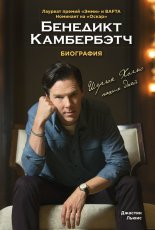Время ноль (сборник) Аксёнов Василий
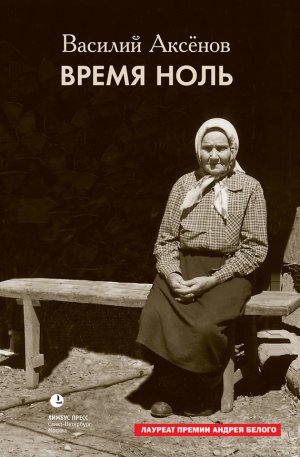
– А копалуху – чё её не стрелил, тятя? Сидела близко, – уже на обратном пути спросил Гриша.
– А копалуху лучше уж не бить… как-то стараться надо, себя сдерживать, – ответил ему отец. – Она потом на яйца сядет, потомство даст…
Сорвалась с лиственки копалуха – громко полетела.
– На то она, родной, и – самка. И деревцо, сынок, без надобности не заламывай, если уж что приметить только. Но. А то, идёшь, смотрю, ломаешь.
– Да я на прутик… постегать.
– Хоть и на прутик. Лучше уж сук вон палый подбери, и им тогда уж… постегать-то.
– Ладно.
– Да и стегать к чему?
– Не буду больше, тятя.
Вернулись домой.
Мать и нарадоваться не может – всё улыбается. Дичь-то, уселась у печи, теребит: ну и охотники, мол, ну, добытчики.
Пьют за столом чаёк они, добытчики, уже поели.
Гордость.
В церковь пошли потом. На службу.
Какое-то время спустя, ушёл отец, почти уже сорокалетним, на фронт, от брони отказавшись. Принесли вскоре на него похоронку – лучше бы сразу всех их, Белозёровых, и застрелили. Убит в бою, дескать, под Мценском.
Где этот Мценск-то?
Большей печали в жизни Гриша не испытывал – до онемения: несколько лет потом не разговаривал – как будто не с кем было. Да и не о чём. Не возникали в нём слова.
Мать, оставшись солдаткой, а потом и овдовев, чтобы спасти их, пятерых детей, от голодной кончины, сама себя лишала куска хлеба, высохла, как лучина, и померла от истощения.
Больше наверное – от горя.
Уже и плакать не могла. Глаза закрыли ей сухими. Он закрывал – рукой здоровой.
Столпились все возле неё.
– Будь им отцом.
И был отцом им.
Теперь кто где – разъехались по свету.
Каждый год осенью собирался Гриша, сначала с отцом, а потом уже и один, потом уже и не Гриша, а Григорий Павлович, по прозвищу Сухорукий, когда-то учитель труда в яланской средней школе, на охоту. Шёл на Красавицу – излюбленное место – не куда-то: мог в темноте туда дойти, а также и вернуться.
Намерился он, Григорий Павлович, и нынче. Всю зиму готовился. Ждал – отрывал листки у численника – легче. Дождался сезона. Пошёл попромышлять. Рябчиков. Самцов. Зоб у них чёрный. Разглядеть-то. Да заодно и на Бобровку заглянуть – начал уже спускаться хариус, ещё не начал ли? – проверить.
Дошёл.
И сердцем обомлел:
Её, Красавицы, не стало, её как ветром всю снесло. Землю-то там – раздели будто.
– Поизголялись и снасильничали.
Вернулся домой.
Сел на скамейку.
Сидит.
Дома ли?
Себя не узнаёт – так никогда себя не чувствовал.
Вылетела из часов кукушка. Назвала время:
Вечер.
– Уже?.. Или какушка очумела?
Встал с табуретки Григорий Павлович. Прошёл к кровати, аккуратно застеленной суконным серым одеялом. Лёг на неё, не раздеваясь.
В потолок смотрит. На матицу. В которую кольцо вбито. На кольце этом зыбка когда-то висела. Все они, дети Павла Ивановича и Лукерьи Игнатьевны Белозёровых, из казаков, в ней полежали. Многих из них на фронте вышибло – мужиков-то. У одного из них медаль была – за взятие Праги. Где-то.
И к нему, Григорию Павловичу, пришла недавно. «За отвагу». Но не ему, конечно.
– Тяте.
Тот её где-то заслужил. Ну, раз погиб-то. Так всё.
Кольцо есть. А люльку-то никто теперь уж не повесит – кого укачивать в ней? Память?
Так укачалась уж – что и подташнивает.
– Лучше бы я до этого не дожил, – вдруг произнёс Григорий Павлович. – Как Вася вон, ровесник мой – тот уж не дышит – молодчина.
Перестал видеть матицу Григорий Павлович – слеза мешает, накатившись. Трудно глядеть через слезу. В груди болит, щемит в ней, давит.
– Я в копалуху, тятя, так и не стрелял, – сказал Григорий Павлович. – Хотя и много раньше видел их… Теперь уж нет их… нет Красавицы.
– Хоть, Григорий, Римское царство и пало, – ответил ему тятя, – но много ещё веры и добра в роде человеческом. И ходит по земле ещё Слово Божие – убеждает.
– Да уж, – впервые возразил отцу Григорий.
Птица какая-то ударилась в окно.
Ушиблась.
Её уже не слышал Сухорукий – слух у него вдруг обострился.
4
Бродникова Прасковья Егоровна
– Ой-ой-ой-ой.
Так у неё болят ноги. Так их разламыват. В голенях.
И так ещё:
– Тошнёхоньки мои… И почему такие мне мучения? На самой старосте-то лет. Давно пора уж помереть… всё ещё ползаю пошто-то. Осподи, Осподи… ох, милосердый.
Не может сидеть Прасковья Егоровна. Не может лежать. И на одном месте стоять не может долго.
И жить ей тяжко – разучилась.
Взявшись за дужку, поднялась с кровати. Пошла по избе. Возле окошка снова оказалась.
Прямая. Как отвес. Когда ляжет – как уровень.
– Идёт, ли чё ли, кто ко мне?.. Маячит… Девка-то эта… Нюрина-то дочь… Как её, всё и забываю… Катерина. Дак поздно ей. Завтра должна же заявиться. Да показалось. Воды и дров в избу натаскат. Хлеба, скажу, чтоб много не брала. Буханки хватит. Чё-то так стали печь – черствет-то скоро. День полежал – уж заскорузлый.
Пошла к кровати.
– Ой-ой-ой-ой.
На кровать села. Носок с ноги сняла. Взяла с табуретки лопух. Обернула им ногу. Кость сплошную, а не ногу. Перевязала шнурком, чтобы не свалился. Сверху носок опять надела.
Посидела. Повздыхала. Привыкла. Как по-другому жить, уж и забыла.
– Ой-ой-ой-ой. За что мне это? Да боль-то – тычет прямо в сердце. Помилуй, Осподи, дай помереть… А то забыл уж… отдалился. Я ж идь на месте остаюсь.
Поднялась. Пошла.
Опять возле окошка. И как к нему всё попадает?
– Не Александра ли идёт?.. Его походка-то, однако.
Пришёл муж её Александр с фронта в сорок третьем, летом. Без левой руки. А зимой, в декабре того же года, простудился в ямщине, слёг и помер в мае. Похоронили. В избе лежать не оставили. В избе-то пусто стало без него, вдовой – переживала.
– И чё с войны-то возвращался?.. Раз ненадолго сюда прибыл… Да нет, не он… Опять, однако, помереш-шилось.
Пошла от окна. Добралась до кровати. Села.
Сняла носок с другой ноги, обернула её лопухом, шнурком обвязала, носок обратно натянула.
– О-ой-ой-ой. А эта, левая-то, пуш-шэ. Как кто иголками её там будто колет, вредный.
Посидела. Полежала. Поднялась.
В окно-то носом чуть не ткнулась. Так и стекло бы не разбила.
– Не Коськантин ли?.. Показалось. А он всегда так рысью к дому подбегал, всё как куда-то торопился. Поспел, милый, не опоздал.
Был у неё сын. Константин. Утонул в Кеми в половодье, семнадцатилетним пареньком, – спасал девчонок малолетних. Двух из воды вытащил и в лодку как-то затолкал, за третьей стал нырять, так и не вынырнул.
– Всё иш-шо иш-шэт.
Направилась на кухню.
Достала из стола корочку хлеба. Сосёт её. Вкусная.
К окошку подалась.
– Не Лиза ли?
Дочь у неё была. Вышла в пятьдесят третьем году замуж за пролётного офицера, уехала с ним на Украину. И с концами. Но поначалу письма хоть писала.
– После писать, ли чё ли, разучилась… Да нет, какая же там Лиза… Собака, может?.. Или – лошадь?.. Не Катерина ли – куда направилась?
Пошла в горенку. Опустилась на колени перед божницей. Помнит на ней все иконы. Глаза направила – один на Богоматерь, другой – на Параскеву. Сердцем – к обеим.
Шёпотом – не для кого-то.
Обо всех помолилась. И о Плетикове – как о живом – ей он племяником доводится. Ещё не знает, что тот помер.
Сердце разгладилось – конечно – от молитвы.
Кое-как поднялась.
– Ой-ой-ой-ой. Тошнёхоньки мои. Сколько же лет-то мне?.. Да уж как много… Как дереву. И спиливать пора… Ну раз не падаю сама-то.
Опять в окне. Стекло чуть носом не проткнула. Беды бы было.
Вглядывается – как будто видит.
Видит, наверное, коль смотрит.
– Не смерть ли вон ко мне идёт? Она, однако.
Пошла к кровати.
– Или опять почудилось, старухе.
Легла. Ноги вытянула.
– Да та такая – трудно обознаться.
Шумно дышит – чтобы себя узнавать.
Или – войдёт кто – чтоб услышал.
Открыла глаза.
– Не померла ещё. Помилуй, Осподи.
Поднялась. К окошку подалась.
– Ну, чё, живой в могилу не ляжешь.
Задела носом стекло. Холодное – чувствует.
– Доживать надо… уж как-то.
Смотрит. Пристально.
– Кто это в светлом-то там, Осподи?
Пошла к кровати.
На кровать села. В стену уставилась. Стена – знакомая до точки.
Помнит, что там висят портреты. Её детей. И её мужа. В памяти – как на дереве – вырезаны.
Слушает:
Кто-то войти к ней в избу будто должен.
– Боже, превыше сил моих такое одиночество.
Вздохнула сердцем – помолилась.
Ещё к живой, пришёл к ней вечер.
5
Василий Серафимович Плетиков
На позапрошлую ночь, плотно и сытно поужинав и просмотрев по телевизору с начала до конца концерт какой-то заунывный, сифонию, лёг спать Василий Серафимович. Утром рано, в пять часов, ещё и петух не прокукарекал, проснулся. Встал, как штык, помылся скоро, по-суворовски, попил аппетитно чаю шиповного с бруснишными шаньгами, только что настряпанными специально для яво женой его Ляксеевной, спать так ещё и не ложившейся. И хлопотал после весь день по хозяйству расторопно – как заведённый. А вечерком, изрядно потрудившись, направился, со спокойной, толковой, совесью, к другу своему закадычному, как все зовут его в Ялани, Винокуру – отметить праздник наступаюш-шый.
Так это было.
Теперь иначе:
Сутки уже доходят, не просыпается никак Василий Серафимович – не хочет. Хоть и заголосит вдруг рядом женщина, запричитает – даже на это несмотря. Не поднимается, как Лазарь.
Так не похоже на него.
6
Катерина Досифеева
Стремительно пробившись сквозь мелкий и густой, хоть и прорежаемый каждое лето ненасытными и непоседливыми бобрами, молодой тальник, прямками – так, заслышав человека или собак, пробегает по лесной чаще лось или лосиха, – к устью Бобровки вышла Катерина. Близко отсюда – по тропинке – до моста. Туда торопится. Сама не знает – почему. Кто-то несёт её – как будто. Тут и без спешки ходу минут десять. А она ног не чует под собой.
Быстро прошла тропинкой вдоль Бобровки, но на дорогу не выходит. Под большой старой елью, наклонившейся к речке, встала. Смотрит, отодвигая ветвь колючую рукой.
Кто-то бельё полощет на Бобровке. Двое. Войдя по колено в воду, полощет женщина. Мужчина стоит на берегу, на самой кромке. Примет он от неё выполосканную тряпицу, положит её в ванну, устроенную на тележке, возьмёт с травы другую и подаст её женщине – так это происходит.
«Скорей всего, что кержаки… Мерзляковы… дядя Артамон с тёткой Устиньей… Всегда на речку чуть не ночью ездят почему-то».
Шелестит речка шиверой. Камешник на дне различим – вода такая в ней прозрачная. Луна насквозь её просвечивает, словно воздух. Гольяны, в приплёске сбившись плотно в руну, из мелкой ямки на луну пялятся. Больших рыбин, хариуса, не видать – на глубине да под коряжинами дремлют.
«У тех глаза какие-то… кружочек с треугольником – такие. Как будто срелка – куда плыть. Стёпка показывал – глядела. Ловко он ловит их… умеет… Или – умел: забросил и рыбалку. Уже и рыбу – ту жалеет… Как его сильно, значит, садануло там. Раньше же не был он таким… какой-то… это… кто бы знал».
Волосы завязала на затылке, чтобы – идёт-то быстро… —
«…Не трепались… А то – как ведьма – раскосматилась… бегу тут».
И где за сук-то вдруг не зацепиться б ими.
«После распутывайся… мучься».
Лифчик и кофту застегнула.
«И правда, пахнет молоком… Ох и дурная».
Выполоскали бельё. На берегу ещё посуетились. Ухватившись за оглобли, впрягся мужчина в тележку. Согнулся. Потянул. Как коренная. Заскрежетали по гальке колёса тележки – кому-то звук такой противен. Идёт женщина сзади. Молчат. За жизнь совместную наговорились.
Как гробик – ванна на тележке, – прикрытый белым.
«Точно – они: Артамон Варфоломеич и Устинья Елиферьевна. Больше и некому. Они обычно. Чтобы никто не видел их, наверное. Идёт – согнулся. И – она… такая круглая – как шарик… Ещё одёжки наздевала».
Блестят в лунном свете железные колёса – не двигаются будто; мигают спицы. Луна на них, мелькающих, не может закрепиться, и им от этого веселье.
На асфальт выкатил мужчина тележку. Чуть вроде выравнялся – стал прямее. Дальше поехали, без передышки.
Шуршат колёса по асфальту – кого-то, может быть, и этот звук коробит.
Скрылись за поворотом. Чуть слыхать.
Нагнулась к речке Катерина. Зачерпнула в горсть воды. Вода студёная – как лёд. Ею себе в лицо плеснула.
«Ох и дурная, Катька, ты… ох и дурная».
Не пошла сразу домой. Завернула к матери.
Полы хотела у неё помыть. И обещала.
Вошла. Сказалась.
Но та, мать, Марина Николаевна, полуслепая, замахав на дочь руками, ей запретила строго-настрого: девка, какие, мол, полы – в такой-то праздник!.. Дескать, уж завтра приходи.
– Завтра, так завтра. Ладно, мама.
Расспросила Марина Николаевна о Степане и о внуке. О том, когда картошку думают начать копать. Нынче же все, мол, как с ума вдруг посходили: раным-рано ещё, уж и копают. А раньше – всё после десятого. Теперь, мол, так – всё кверхтормашками. А кто-то будто уж и выкопал, совсем рехнулись.
– Числа с десятого, – ответила.
– Дак и нормально.
Взяла у матери булку хлеба в долг – дома кончился.
Из избы вышла.
С крыльца смотрит:
Луна вползает на надвратицу.
С крыльца спустилась Катерина. Помедлив, вышла из ограды.
Сразу к себе теперь направилась. На Колесниковскую улицу, что за Бобровкой. Гора – на ней и улица расположилась – там уж совсем под самым небом.
Всё здесь знакомо и на сто рядов исхожено.
И не хотела бы, но вспоминается.
Как бегала она по этим стёжкам-дорожкам из Ялани в Колесникову – к Стёпке. Ноги несли.
«Шальная, и шальная».
Как он навстречу выходил. Как провожал после до дома.
И как расстаться было трудно.
«Глянулся».
Какой он был всегда хороший и весёлый. И как гонял на мотоцикле.
«Сдрешной».
Как дрался он из-за неё с ребятами.
«А приставали потому что».
Как никого и ничего он не боялся. Пошла бы с ним тогда и на край света.
«Он и теперь такой, конечно… только что это-то… после ранения… Как бы Васюшка – тот не напугался».
Как в последнюю ночь перед тем, как уйти ему в армию, они всю ночь просидели на кемском яру, около кедра.
Как утром плакала она. И как потом в Ялани стало пусто.
Как пришёл он, Стёпка, с армии. И зашёл сразу не домой, а к её матери. Заплакала та, его увидев, но не сказала ничего, только: «Живой. Вернулся, слава Богу». И не хотел с ней после долго разговаривать.
«Со мною».
А потом пришёл и предложил ей выйти за него замуж. А у неё уже и пузо на нос смотрит, и кто-то ножками уже колотится.
«Васюша».
И мать сказала: «Выходи».
Как они после поженились.
Не сразу спать в одной постели стали.
«Спали на разницу… Потом уж… как-то получилось».
Не долго и в одной они теснились.
«Так по ночам вдруг закричит… как сумашэдшый».
Подошла Катерина к дому. Постояла возле.
«Ещё и это-то… не может… но он такой… отзывчивый какой-то».
Берёза в палисаднике. Тихая – как будто ждёт кого-то – ветра.
На мураве уже лист палый лежит – пока реденько. Не втоптан.
Открыла ворота – не скрипят: петли Степан недавно смазал, – вступила в ограду.
Побыла около крыльца. Сколько-то. Мягко стоится на мураве.
Тело её – а как чужое.
«И сердце чё-то…». То – своё.
Щенок скулит в будке – что-то ему, наверное, приснилось.
«Или по Стёпке стосковался».
Кругом дома скворечники, которые он, Стёпка, когда они перебрались сюда жить, в Иванихинскую избу, наделал и наставил. Намастерил. Ладные. Как игрушки. Каждый год кедровые ветки на них обновляет. Одна из них луну сейчас закрыла. Высоко та поднялась – в ограду смотрит, тень от ворот на землю положив: то, что в тени, луна не видит; в лучах её мурава нежится.