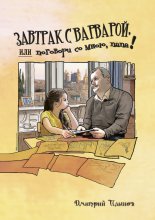Что я видел. Эссе и памфлеты Гюго Виктор
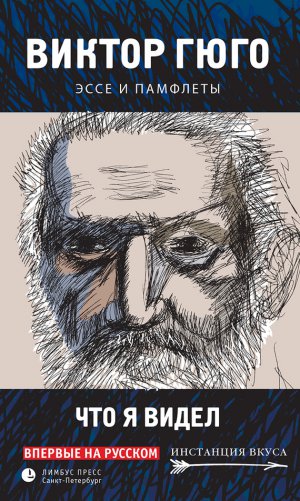
Таким образом, мы видим, что два единственных поэта нового времени, которые под стать Шекспиру, присоединяются к нему. Они вместе с ним придают драматический оттенок всей нашей поэзии; они, как и он, сочетают гротескное и возвышенное; и, ничуть не отходя от этого великого литературного целого, которое опирается на Шекспира, Данте и Мильтон становятся двумя аркбутанами здания, в котором он – центральная колонна, боковыми арками свода, замком которого является Шекспир.
Пусть нам позволят вернуться к некоторым уже высказанным ранее мыслям, на которых, однако, надо остановиться подробнее. Мы пришли к ним, теперь нужно из них исходить.
С того дня, как христианство сказало человеку: «Ты двойственен, ты состоишь из двух существ, одно из них – бренное, другое – бессмертное, одно – плотское, другое – возвышенное, одно – скованное желаниями, потребностями и страстями, другое – уносится на крыльях восторга и мечты, одно всегда склоняется к земле, своей матери, другое постоянно возносится к небу, своей родине»; с того дня была создана драма. Действительно, что такое драма, как не этот ежедневный контраст, эта ежеминутная борьба между двумя противоположными принципами, которые всегда противостоят друг другу в жизни и спорят за человека от колыбели до могилы?
Таким образом, поэзия, рожденная от христианства, поэзия нашего времени – это драма; характерная черта драмы – реальность; реальность проистекает из совершенно естественного сочетания двух форм: возвышенного и гротескного, которые соединяются в драме так же, как они соединяются в жизни и мироздании. Поскольку истинная поэзия, поэзия целостная, состоит в гармонии противоположностей. И затем пора сказать об этом громко, тем более что исключения именно здесь особенно подтверждают правило: все, что есть в природе, есть и в искусстве.
Принимая эту точку зрения, чтобы составить суждение о наших незначительных условных правилах, чтобы выбраться из всех этих схоластических лабиринтов, чтобы разрешить все эти мелочные проблемы, которые критики двух последних веков старательно выстроили вокруг искусства, мы поражаемся быстроте, с которой проясняется вопрос о современном театре. Драме нужно сделать лишь один шаг, чтобы порвать всю эту паутину, которой армия лилипутов хотела опутать ее во время сна.
Таким образом, пусть ветреные педанты (одно не исключает другого) утверждают, что безобразное, уродливое, гротескное никогда не должно быть предметом подражания в искусстве, мы отвечаем им, что гротеск – это комедия, и очевидно, что комедия – это часть искусства. Тартюф не красив, Пурсоньяк не благороден; однако Пурсоньяк и Тартюф – великолепные проявления искусства.
Что если, изгнанные со своих оборонительных укреплений, они возобновят запрет на соединение гротескного с возвышенным, сплав комедии с трагедией, мы покажем им, что в поэзии христианских народов первая из этих двух форм представляет звериное начало в человеке, вторая – душу. Эти два стержня искусства, если мешать их ветвям переплетаться, если систематически отделять их друг от друга, принесут в качестве плодов, с одной стороны – отвлеченные понятия пороков и преступлений; с другой – отвлеченные понятия героизма и добродетели. Две столь изолированные и предоставленные сами себе формы будут двигаться каждая в свою сторону, одна вправо, другая влево,[33] оставляя между собой реальность. Отсюда следует, что после этих абстракций останется изобразить еще кое-что – человека; а после этих трагедий и комедий останется написать еще кое-что – драму.
В драме, какой ее можно если не написать, то, по крайней мере, представить себе, все связано и следует одно из другого, так же как в реальности. Тело, как и душа, играет здесь свою роль; и люди и события, пущенные в ход этой двойной движущей силой, бывают попеременно то шутовскими, то страшными, иногда и страшными и шутовскими одновременно. Так, судья скажет: «Приговорить его к смерти – и пойдем обедать!»3 Так, римский сенат будет решать вопрос о тюрбо Домициана14. Так, Сократ, выпив цикуту и беседуя о бессмертной душе и едином боге, прервется, чтобы попросить принести в жертву Асклепию петуха. Так, Елизавета будет браниться и говорить на латыни. Так, Ришелье будет подчиняться капуцину Жозефу, а Людовик XI – своему цирюльнику, мэтру Оливье Дьяволу. Так, Кромвель скажет: «Парламент у меня в мешке, а король – в кармане»; или рукой, подписавшей смертный приговор Карлу I, испачкает чернилами лицо какого-нибудь цареубийцы, который, смеясь, отплатит ему тем же. Так, Цезарь будет бояться упасть с триумфальной колесницы. Потому что гениальные люди, какими бы великими они ни были, всегда содержат в себе животное, которое высмеивает их разум. Именно это сближает их с человечеством, благодаря этому они драматичны. «От великого до смешного один шаг», – сказал Наполеон, когда убедился, что и он человек; и эта вспышка, вырвавшаяся из приоткрывшейся пламенной души, озаряет одновременно искусство и историю, этот тревожный крик подводит итог драмы и жизни.
Поразительная вещь, все эти противоположности встречаются в самих поэтах, если рассматривать их как людей. Размышляя о жизни, заставляя проявиться ее душераздирающую иронию, выплескивая волны сарказма и насмешек на наши слабости, эти люди, которые так нас смешат, становятся глубоко печальными. Эти Демокриты оказываются также и Гераклитами15. Бомарше был угрюм, Мольер мрачен, Шекспир меланхоличен.
Таким образом, именно в гротеске заключается одна из величайших красот драмы. Он не только уместен, он часто ей необходим. Иногда он приходит в нее однородной массой, завершенными характерами: Данден, Прузий, Трисотен, Бридуазон, кормилица Джульетты; иногда он носит отпечаток страха: Ричард III, Бежар, Тартюф, Мефистофель; иногда он даже завуалирован грацией и изяществом: Фигаро, Озрик, Меркуцио, Дон Жуан. Он проникает повсюду, поскольку как у толпы часто бывают возвышенные порывы, так и самые возвышенные натуры нередко отдают дань пошлому и смешному. Поэтому часто неуловимый, неощутимый, но он всегда присутствует на сцене, даже когда молчит, даже когда скрывается. Благодаря ему впечатления никогда не бывают однообразными. Он вносит в трагедию то смех, то ужас. Он заставит Ромео встретиться с аптекарем, Макбета – с тремя ведьмами, Гамлета – с могильщиками. Иногда, наконец, он может, не нарушая гармонии, как в сцене короля Лира с его шутом, слить свой кричащий голос с самой возвышенной, самой скорбной, самой мечтательной музыкой души.
Вот что умел делать в своей собственной неподражаемой манере Шекспир, этот бог театра, в котором, кажется, слились воедино три основных гения нашей сцены: Корнель, Мольер, Бомарше.
Мы видим, как быстро рушится произвольное деление жанров под влиянием разума и вкуса. Не менее легко можно было бы разрушить и так называемое правило двух единств. Мы говорим двух, а не трех единств, поскольку единство действия, или целого, единственное истинное и обоснованное, уже давно всеми признано.
Наши выдающиеся современники, иностранные и французские, выступали уже и на практике и в теории против этого фундаментального закона псевдоаристотелевского кодекса16. Впрочем, битва не должна была быть долгой. При первом же ударе закон дал трещину, настолько была источена червями эта балка старой схоластической лачуги!
Странно то, что рутинеры пытаются обосновать свое правило двух единств правдоподобием, в то время как именно реальность убивает его. Действительно, что может быть более неправдоподобного и более абсурдного, чем этот вестибюль, этот перистиль, эта прихожая, банальное место, куда любезно приходят наши трагедии, чтобы развернуть свое действие, куда неизвестно зачем являются заговорщики, чтобы произносить речи против тирана, тиран – чтобы произносить речи против заговорщиков, поочередно, словно они сговорились заранее, как в буколике:
- Alternis cantemus; amant alterna Camenae.[34]
Где видели такие прихожие или перистили? Что больше противоречит, мы не скажем – правде, схоластики ее ни во что не ставят, но правдоподобию? Отсюда следует, что все то, что слишком характерно, слишком интимно, слишком локализовано для того, чтобы происходить в передней или на перекрестке, то есть вся драма, происходит за кулисами. Мы видим на сцене, так сказать, только локти действия; рук его здесь нет. Вместо действия мы имеем рассказы; вместо картин – описания. Серьезные люди, как античный хор, стоят между драмой и нами и рассказывают нам, что делается в храме, во дворце, на городской площади, так, что нам часто хочется им крикнуть: «Неужели? Так отведите же нас туда! Там, должно быть, очень интересно, как было бы прекрасно это увидеть!» На что они, вероятно, ответили бы: «Может быть, это вас развлекло бы и заинтересовало, но об этом не может быть и речи; мы стоим на страже достоинства французской Мельпомены». Вот так вот!
«Но, – скажут нам, – это правило, которое вы отвергаете, заимствовано из греческого театра». А чем греческий театр и драма похожи на нашу драму и наш театр? Впрочем, мы уже показали, что огромные размеры античной сцены позволяли ей охватить всю местность целиком, так что поэт мог, в соответствии с требованиями действия, переносить его по своей воле из одной точки театра в другую, что почти равноценно смене декораций. Странное противоречие! Греческий театр, как бы ни был он подчинен национальным и религиозным задачам, значительно более свободен, чем наш, единственная задача которого, однако, – это развлечение и, если угодно, поучение зрителя. Дело в том, что один подчиняется только своим собственным законам, тогда как другой следует условиям, совершенно чуждым его природе. В одном – искусство, в другом – искусственность.
В наши дни начинают понимать, что точное определение места действия – это одна из первых составных частей реальности. Не одни только говорящие или действующие персонажи запечатлевают в уме зрителя достоверный отпечаток событий. Место, где произошла такая-то катастрофа, становится ее страшным и неразлучным свидетелем; и отсутствие такого немого персонажа нарушило бы целостность самых великих исторических сцен в драме. Решился ли бы поэт убить Риччо в каком-то другом месте, а не в комнате Марии Стюарт? Заколоть кинжалом Генриха IV где-то помимо улицы де ля Ферронри, запруженной повозками и каретами? Сжечь Жанну д’Арк не на площади Старого Рынка? Отправить на тот свет герцога де Гиза не в замке Блуа, где его честолюбие вызывает возбуждение народного собрания? Обезглавить Карла I и Людовика XVI не в тех зловещих местах, откуда можно видеть Уайт-Холл и Тюильри, как если бы эти эшафоты служили дополнением к их дворцам?
Единство времени не более обоснованно, чем единство места. Действие, насильно загнанное в рамки двадцати четырех часов, столь же смешно, как и действие, ограниченное вестибюлем. Каждое действие имеет свою собственную продолжительность, так же как и свое особое место. Уделить одну и ту же дозу времени всем событиям! Применить одну и ту же меру ко всему! Смешон был бы сапожник, который захотел бы надевать один и тот же башмак на любую ногу. Переплести единство времени с единством места, как прутья клетки, и педантично посадить туда, именем Аристотеля, все эти действия, все эти народы, все эти образы, которые провидение в таком множестве создает в реальности! Это означает калечить людей и события, это значит искажать историю. Скажем лучше: все это умрет во время операции; и именно так догматические уродования приходят к своему обычному результату: то, что было живым в хронике, мертво в трагедии. Вот почему очень часто в клетке единств оказывается только скелет.
И затем, если двадцать четыре часа можно уложить в два, будет вполне логично, что в четыре часа уместится сорок восемь. Значит, единство Шекспира не будет единством Корнеля. Помилуйте!
Это, однако, те мелкие придирки, которыми вот уже два столетия посредственность, зависть и рутина донимают гения! Так, например, ограничили размах наших величайших поэтов. Им подрезали крылья ножницами единств. И что нам дали взамен этих орлиных перьев, срезанных у Корнеля и Расина? Кампистрона.
Мы понимаем, что можно было бы сказать: «В слишком частой смене декораций есть нечто такое, что сбивает с мысли и утомляет зрителя, рассеивает его внимание; может также случиться, что многократное перенесение действия из одного места в другое, из одного времени в другое, потребует дополнительной экспозиции, притупляющей восприятие; опасно также оставлять в действии пробелы, которые препятствуют частям драмы тесно соединиться друг с другом и, кроме того, приводят в замешательство зрителя, не отдающего себе отчета в том, что может содержаться в этих пустотах». Но именно в этом и состоят трудности искусства. Это здесь находятся препятствия, свойственные тому или иному сюжету, и придумать, как их обойти раз и навсегда, невозможно. Это задача гения – разрешать их, но не дело поэтик их обходить.
В конце концов, чтобы доказать абсурдность правила двух единств, было бы достаточно последнего довода, заложенного в самой сущности искусства. Это существование третьего единства, единства действия, которое одно только признано всеми, потому что оно вытекает из следующего факта: ни человеческий глаз, ни разум не могут охватить больше одного целого сразу. Оно настолько же необходимо, насколько два других бесполезны. Именно оно выражает точку зрения драмы: и тем самым оно исключает два других. В драме не может быть трех единств, как не может быть трех горизонтов в одной картине. Впрочем, не будем смешивать единство с простотой действия. Единство целого никоим образом не отвергает второстепенные действия, на которые должно опираться главное. Нужно только, чтобы эти части, искусно подчиненные общему, постоянно тяготели к центральному действию и группировались вокруг него разными этажами, или, скорее, в разных планах драмы. Единство целого – это закон театральной перспективы.
«Но, – воскликнут таможенники мысли, – великие гении, однако, подчинялись им, этим правилам, которые вы отвергаете!» Ну да, а что бы сделали эти удивительные люди, если бы им это позволили? По крайней мере, они не приняли ваши оковы без борьбы. Нужно было видеть, как Пьер Корнель, которого вначале терзали за его дивного «Сида», отбивается от Мере, Клавере, д’Обиньяка и Скюдери! Как он разоблачает перед потомством неистовство этих людей, которые, как оно говорит, обеляют себя Аристотелем. Нужно видеть, как ему говорят, – мы цитируем тексты того времени: «Молодой человек, нужно научиться, прежде чем поучать, да и если вы не Скалигер или Гейнзиус, это вообще неприемлемо!» Здесь Корнель возмущается и спрашивает, не хотят ли его поставить «много ниже Клавере»? Тут Скюдери приходит в негодование от такой гордыни и напоминает «этому трижды великому автору «Сида» <…> скромные слова, которыми Тассо, величайший человек своего века, начал апологию прекраснейшего из своих произведений против самой едкой и самой несправедливой критики, которая, возможно, когда-либо существовала. «Господин Корнель, – добавляет он, – свидетельствует своими «Ответами», что он столь же далек от скромности, как и от достоинств этого превосходного автора». Молодой человек, столь справедливо и столь мягко критикуемый, решается защищаться; тогда Скюдери возобновляет попытку; он призывает себе на помощь знаменитую академию: «Произнесите, о, судьи мои, достойный вас приговор, который покажет всей Европе, что «Сид» – вовсе не шедевр величайшего человека Франции, но, несомненно, наименее рассудительная из пьес самого господина Корнеля. Вы должны это сделать как ради вашей славы в частности, так и ради славы нашей нации в целом, которая заинтересована в этом; так как иностранцы могут увидеть этот прекрасный шедевр, и тогда они, у кого были Тассо и Гварини, подумают, что наши величайшие художники – не более чем ученики». В этих немногих назидательных строках содержится вся извечная тактика завистливой рутины против зарождающегося таланта, тактика, которой следуют еще в наши дни и которая, например, добавила такую любопытную страницу к юношеским опытам лорда Байрона. Скюдери дает нам ее квинтэссенцию. Так, предшествующие произведения гения всегда предпочтительнее его новых творений, чтобы доказать, что он падает, вместо того чтобы подниматься, «Мелита» и «Галерея Пале-Рояля» ставятся выше «Сида»; затем имена тех, кто уже умер, бросают в лицо живым: Корнеля, словно камнями, побивают именами Тассо и Гварини (Гварини!), как позднее будут побивать Расина Корнелем, Вольтера – Расином, как теперь побивают все, что возвышается, Корнелем, Расином и Вольтером. Тактика, как это видно, избитая, но, видимо, она хороша, поскольку ею постоянно пользуются. Однако несчастный гений все еще отдувался. Здесь следует восхититься тому, как Скюдери, капитан этой трагикомедии, выведенный из терпения, нападает на него, как безжалостно он использует свою классическую артиллерию, как он «показывает» автору «Сида», «какими должны быть эпизоды, согласно Аристотелю, который учит этому в главах 10-й и 16-й своей «Поэтики», как он громит Корнеля тем же Аристотелем – «в главе 11-й, в которой видно осуждение «Сида», Платоном – «в книге 10-й его «Республики», Марцеллином – «в книге 27-й можно это видеть», «трагедиями о Ниобее и Иевфае», «Аяксом» Софокла», «примером Еврипида», «Гейнзиусом в главе 6-й, о построении трагедии, и Скалигером-сыном в его стихах», наконец «канонистами и юрисконсультами в главе о браке». Первые аргументы были обращены к академии, последний – к кардиналу. После булавочных уколов – удар дубиной. Понадобился судья, чтобы разрешить вопрос. Шаплен сделал это17. Корнель был осужден, лев оказался в наморднике, или, как тогда говорили, «ворона была ощипана».[35] А вот теперь печальная сторона этой гротескной драмы: после того как его сломали при первой же попытке, этот совершенно новый и в то же время напитанный Средними веками и Испанией гений, вынужденный лгать самому себе и броситься в античность, дал нам этот кастильский Рим, великолепный, бесспорно, но где не найти ни подлинного Рима, ни настоящего Корнеля; за исключением, может быть, «Никомеда», столь высмеиваемого в прошлом веке за свой гордый и наивный колорит.
Расин испытал такое же разочарование, не оказав, впрочем, такого же сопротивления. Ни в его гении, ни в его характере не было возвышенного упорства Корнеля. Он молча покорился и отдал пренебрежению его времени и восхитительную элегию «Эсфири», и великолепную эпопею «Гофолии». Поэтому следует предположить, что, если бы он не был так парализован предрассудками своего века, если бы его не касался так часто электрический скат классицизма, он не упустил бы случая поставить в своей драме между Нарциссом и Нероном Локусту и тем более не убрал бы за кулисы эту дивную сцену пира, в которой ученик Сенеки отравляет Британика, поднося ему яд в чаше примирения18. Но можно ли требовать от птицы, чтобы она летала под колоколом воздушного насоса? Какой красоты нам стоили люди со вкусом, начиная от Скюдери и кончая Лагарпом! Можно было бы составить прекрасное произведение из всего того, что их бесплодное дыхание иссушило в зародыше. Впрочем, наши великие поэты еще сумели распространить свой гений сквозь все эти помехи. Часто их тщетно хотели замуровать в догмах и правилах. Подобно древнееврейскому гиганту, они уносили с собой на гору двери своей темницы19.
Однако по-прежнему повторяют и, вероятно, какое-то время еще будут повторять: «Следуйте правилам! Подражайте образцам! Образцы были сформированы правилами!» Но подождите! В таком случае есть два вида образцов: те, которые сделаны по правилам, и еще до них те, по которым создали правила. Итак, в какой же из этих двух категорий гений должен искать себе место? Хотя всегда трудно общаться с педантами, не лучше ли в тысячу раз давать им уроки, чем получать это от них? А потом – подражать? Стоит ли отражение света? Стоит ли спутник, который без конца тащится по одному и тому же кругу, главного и животворящего светила? Со всей своей поэзией Вергилий – это только луна Гомера.
И давайте посмотрим: кому подражать? Древним? Мы только что доказали, что их театр не имеет ничего общего с нашим. Впрочем, Вольтер, который не хочет Шекспира, не хочет также греков. Он сейчас нам скажет почему: «Греки позволяли себе зрелища, не менее возмутительные для нас. Ипполит, разбившийся при падении, выходит на сцену считать свои раны и испускать жалобные крики. Филоктет испытывает приступы боли; черная кровь течет из его раны. Эдип, покрытый кровью, которая еще сочится из его глазниц, после того как он только что вырвал себе глаза, жалуется на богов и людей. Слышны вопли Клитемнестры, которую убивает ее собственный сын, а Электра кричит на сцене: «Разите, не жалейте ее, она не пощадила нашего отца». Прометея прибивают к скале гвоздями, которые вколачивают ему в живот и в руки. Фурии отвечают окровавленной тени Клитемнестры нечленораздельным воем… Искусство находилось в младенчестве во времена Эсхила, так же как и в Лондоне во времена Шекспира». Новым авторам? О! Подражать подражателям? Помилуйте!
«Ma,[36] – возразят нам снова, – подобно тому, как вы представляете себе искусство, кажется, вы ждете только великих поэтов, постоянно рассчитывая на гениев?» Искусство не рассчитано на посредственность. Оно ей ничего не предписывает, оно совершенно ее не знает, она для него вовсе не существует; искусство дает крылья, а не костыли. Увы, д’Обиньяк следовал правилам, Кампистрон подражал образцам! Не все ли ему равно? Оно строит свой дворец вовсе не для муравьев. Оно позволяет им строить муравейник даже не зная, придут ли они возвести эту пародию на его здание на его фундаменте.
Критики схоластической школы ставят своих поэтов в странное положение. С одной стороны, они непрерывно кричат им: «Подражайте образцам!» С другой стороны, они имеют обыкновение заявлять, что «образцы неподражаемы!» Однако если их рабочим с помощью тяжкого труда удается протащить в эту вереницу какой-нибудь оттиск, какое-нибудь бесцветное подражание мастерам, эти неблагодарные, при рассмотрении нового refaccimento,[37] восклицают то: «Это ни на что не похоже!», то: «Это похоже на все!» И по этой специально сделанной логике каждая из этих двух формулировок есть осуждение.
Так скажем же смело: время пришло. И было бы странно, если бы в нашу эпоху свобода, как свет, проникала бы всюду, кроме того, что от природы свободнее всего на свете, – мысли. Ударим молотом по теориям, поэтикам и системам. Сбросим эту старую штукатурку, которая скрывает фасад искусства! Нет ни правил, ни образцов; или, вернее, нет других правил, кроме общих законов природы, господствующих над всем искусством в целом, и особых законов, которые для каждого произведения следуют из условий существования, присущих каждому сюжету. Одни – вечные, внутренние и неизменные; другие – изменчивые, внешние и служат только один раз. Первые – это сруб, поддерживающий дом; вторые – леса, которые служат лишь во время строительства и которые возводят заново для каждого здания. Наконец, одни – это костяк, а другие – одежда драмы. Впрочем, об этих правилах не пишут в поэтиках. Ришле20 о них даже не подозревает. Гений, который скорее догадывается, чем изучает, для каждого своего произведения извлекал первые из общего порядка вещей, вторые – из обособленного единства разрабатываемого им предмета; не так, как это делает химик, который разжигает свою печь, раздувает огонь, нагревает тигель, анализирует и разлагает, но как пчела, которая летит на своих золотых крыльях, садится на каждый цветок и извлекает из него мед, так, что чашечка цветка ничуть не теряет своей свежести, а венчик – своего аромата.
Мы настаиваем на том, что поэт должен советоваться только с природой, с истиной и со своим вдохновением, которое также есть истина и природа. «Quando he», – говорит Лопе де Вега.
- Quando he de escrivir una comedia,
- Encierro los preceptos con seis llaves.[38]
Действительно, чтобы запереть правила, не слишком много и шести ключей. Пусть поэт особенно остережется копировать кого бы то ни было – Шекспира не более чем Мольера, Шиллера не более чем Корнеля.[39] Если бы подлинный талант мог до такой степени отказаться от своей собственной природы и оставить в стороне свою собственную самобытность, чтобы перевоплотиться в другого, он потерял бы все, играя роль двойника. Это бог, который становится слугой. Нужно черпать только из первичных источников. Одни и те же соки, разлитые в почве, дают жизнь всем деревьям в лесу, столь различающимся своим видом, плодами и листвой. Одна и та же природа оплодотворяет и питает самых разных гениев. Настоящий поэт – это дерево, подвластное всем ветрам и напоенное всеми росами, он несет свои произведения, как плоды, как сборник басен нес свои басни. Зачем привязываться к учителю, к образцу? Лучше быть колючим кустарником или чертополохом, питаемым той же землей, что кедр или пальма, чем грибком или лишаем этих больших деревьев. Колючий кустарник живет, грибок прозябает. Впрочем, как бы ни были велики этот кедр и эта пальма, одного извлекаемого из них сока не достаточно, чтобы самому стать великим. Паразит гиганта будет всего-навсего карликом. Дуб, как он ни колоссален, может произвести и питать только омелу.
Не составьте себе неверного представления, если некоторые из наших поэтов смогли стать великими, даже подражая, то дело в том, что, даже беря за образец античные формы, они часто прислушивались также к природе и к голосу своего гения и в некотором отношении были самими собой. Их ветви цеплялись за соседнее дерево, но их корни уходили в почву искусства. Они были плющом, а не омелой. Затем пришли подражатели на вторых ролях, которые, не имея ни корней в почве, ни гения в душе, вынуждены были ограничиться подражанием. Как говорит Шарль Нодье, «после афинской школы – школа александрийская». Тогда посредственность наводнила все; тогда изобиловали эти трактаты о поэтике, столь стеснительные для таланта и столь удобные для нее. Сказали, что все уже сделано, Богу запретили создавать новых Мольеров, новых Корнелей. Воображение заменили памятью. Вопрос был решен бесповоротно: для этого есть афоризмы. «Воображать, – с наивной уверенностью говорит Лагарп, – это, в сущности, значит вспоминать».
Стало быть, природа! Природа и истина. И здесь, чтобы показать, что новые идеи ничуть не пытаются разрушить искусство, а хотят лишь перестроить его более прочно и на лучшем основании, попытаемся указать, какова эта непреодолимая граница, которая, по нашему мнению, отделяет реальное в искусстве от реального в природе. Было бы необдуманно смешивать их, как это делают некоторые мало продвинутые сторонники романтизма. Правда в искусстве никогда не могла бы быть, как многие это говорят, абсолютной правдивостью. Искусство не может дать самого предмета. Представим одного из этих опрометчивых инициаторов абсолютной природы, природы, рассматриваемой вне искусства, на представлении какой-нибудь романтической пьесы, например «Сида». «Что это? – скажет он при первых же словах. – Сид говорит стихами! Говорить стихами неестественно». – «Как же вы хотите, чтобы он говорил?» – «Прозой». – «Ладно, пусть будет так». Минуту спустя: «Как! – продолжит он, если он последователен, – Сид говорит по-французски?» – «Ну и что же?» – «Естественность требует, чтобы он говорил на своем языке; он может говорить только по-испански». – «Мы тогда ничего не поймем; но хорошо, пусть». Вы думаете, это все? Вовсе нет; прежде чем прозвучит десяток кастильских фраз, он должен подняться и спросить, тот Сид, который говорит, настоящий ли это Сид из плоти и крови. По какому праву этот актер, которого зовут Пьер или Жак, взял себе имя Сида? Это ложь. И у него нет никакой причины не потребовать затем, чтобы заменили солнцем эту рампу, настоящими деревьями и настоящими домами эти лживые декорации. Так как раз уж мы вступили на этот путь, логика держит нас за шиворот, и мы не можем больше остановиться.
Значит, под угрозой абсурда мы должны признать, что сфера искусства и сфера природы совершенно различны. Природа и искусство – две разные вещи, иначе или одно, или другое не существовало бы. Искусство, помимо своей идеальной стороны, имеет еще сторону земную и положительную. Что бы оно ни делало, оно находится между грамматикой и просодией, между Вожла21 и Ришле. Для самых причудливых своих созданий у него есть различные формы, средства исполнения, целый арсенал, который оно может использовать. Для гения это инструменты искусства; для посредственности – орудия ремесла.
Другие, кажется, уже говорили: драма – это зеркало, в котором отражается природа. Но, если это зеркало обыкновенное, с ровной и гладкой поверхностью, оно отразит лишь тусклое и плоское изображение предметов, достоверное, но бесцветное; известно, как много теряют краски и свет при простом отражении. Значит, драма должна быть концентрирующим зеркалом, которое собирает и конденсирует цветные лучи, ничуть их не ослабляя, которое превращает слабый отблеск в свет, а свет – в пламя. Только тогда драма может быть признана искусством.
Театр создает зрительный образ. Все, что существует в мире, в истории, в жизни, в человеке, должно и может в нем отразиться, но только с помощью волшебной палочки искусства. Искусство листает века, листает природу, изучает хроники, учится воспроизводить подлинность событий, особенно подлинность нравов и характеров, гораздо менее подлежащих сомнению и противоречиям, чем факты,[40] восстанавливает то, что сократили летописцы, приводит в соответствие то, что они отбросили, угадывает их опущения и исправляет их, заполняет пробелы плодами своего воображения, окрашенными колоритом времени, соединяет то, что у них рассеяно, восстанавливает движение нитей провидения, управляющих человеческими марионетками, облекает все в форму одновременно и поэтическую, и естественную и придает всему ту правдивую и рельефную жизненность, которая порождает иллюзию, то самое очарование реальности, которое захватывает зрителя, и в первую очередь самого поэта, ибо поэт искренен. Таким образом, цель искусства почти божественна: воскрешать, если оно занимается историей; творить, если оно занимается поэзией.
Какое величественное и прекрасное зрелище – развивающаяся с такой широтой драма, в которой искусство мощно развивает природу; драма, в которой действие движется к развязке твердой и легкой поступью, без многословия, но и без сжатости; наконец, драма, в которой поэт всецело достигает сложную цель искусства, состоящую в том, чтобы открыть зрителю двойной горизонт, осветить одновременно внутренний и внешний облик людей; внешний – через их речи и действия, внутренний – через реплики в сторону и монологи; одним словом, совмещая в одной картине драму жизни и драму сознания.
Понятно, что для произведения такого рода, если поэт должен выбирать, о чем рассказывать (а он должен это делать), то это будет не прекрасное, а характерное. И дело не в том, что следует придать, как сейчас говорят, местный колорит, то есть добавить потом несколько кричащих мазков, наложенных там и сям на все произведение в целом, совершенно, впрочем, ложное и условное. Местный колорит должен быть вовсе не на поверхности драмы, но в ее сущности, в самом сердце произведения, откуда он распространяется наружу, сам по себе, естественно, равномерно проникает, так сказать, во все уголки драмы, как сок, который поднимается от корня дерева до самого последнего его листочка. Драма должна быть полностью пропитана этим колоритом времени; он должен, что называется, носиться в воздухе, так, чтобы вы замечали, что переходите в другой век и другую атмосферу, только входя туда и выходя оттуда. Нужны некоторые исследования, нужен тяжелый труд, чтобы достичь этого; тем лучше. Хорошо, когда пути искусства полны трудностей, перед которыми отступает все, кроме людей, обладающих твердой волей. Впрочем, именно это изучение, подкрепленное пламенным вдохновением, предохранит драму от порока, который ее убивает, – от заурядности. Заурядность – недостаток поэтов со слабым зрением и коротким дыханием. Оптика сцены требует, чтобы каждой фигуре была придана самая выдающаяся, самая индивидуальная, самая точная ее черта. Даже вульгарное и тривиальное должно быть подчеркнуто. Ничем нельзя пренебрегать. Настоящий поэт, подобно Богу, присутствует сразу повсюду в своем произведении. Гений похож на пресс для чеканки, который отпечатывает королевское изображение как на медных монетах, так и на золотых экю.
Мы без колебаний, и это также могло бы служить добросовестным людям доказательством того, сколь мало мы стремимся обезобразить искусство, мы без малейших колебаний рассматриваем стих как одно из наиболее действенных средств для того, чтобы предохранить драму от только что указанного нами бедствия, как одну из самых мощных плотин против вторжения заурядности, которая так же, как демократия, всегда переполняет умы. И пусть молодая наша литература, уже столь богатая как людьми, так и произведениями, позволит указать ей здесь на одно заблуждение, в которое, как нам кажется, она впадает, заблуждение, впрочем, слишком оправданное невероятными заблуждениями старой школы. Новый век находится еще в том периоде роста, когда можно легко исправиться.
Недавно сформировалась как предпоследнее ответвление старого классического ствола, или, вернее, как один из этих наростов, один из этих полипов, которые образуются от дряхлости и в большей степени служат признаком разложения, чем доказательством жизни, сформировалась своеобразная школа драматической поэзии. Учителем и родоначальником этой школы, как нам кажется, является поэт, который отметил переход от восемнадцатого века к девятнадцатому, мастер описаний и перифразы, тот самый Делиль, хвалившийся, как говорят, под конец своей жизни в стиле гомеровских перечислений тем, что сделал двенадцать верблюдов, четырех собак, трех лошадей, включая сюда и лошадь Иова, шесть тигров, двух кошек, шахматы, триктрак, шашечницу, бильярд, несколько зим, множество лет и весен, пятьдесят солнечных закатов и столько восходов солнца, что он сбился со счета.
Итак, Делиль перешел в трагедию. Это он (он, а, упаси бог, не Расин!) – отец так называемой школы изящества и хорошего вкуса, которая недавно расцвела. Трагедия для этой школы вовсе не то, чем она является, например, для простака Жиля Шекспира22, источником всякого рода эмоций; но обрамление, удобное для решения огромного количества мелких описательных задач, которые она ставит себе мимоходом. Эта муза далека от того, чтобы отвергнуть, как подлинная французская классическая школа, тривиальные и низменные аспекты жизни, она, напротив, выискивает и жадно собирает их. Гротеск, которого, как дурного общества, избегала трагедия Людовика XIV, не может спокойно пройти мимо нее. Его нужно описать! То есть облагородить. Сцена в караульном помещении, бунт черни, рыбный рынок, каторга, кабак, курица в горшке Генриха IV23 для нее – удача. Она хватается за них, она умывает эту мерзость и нашивает на эти гадости свою мишуру и блестки: purpureus assuitur pannus.[41] Ее цель, кажется, состоит в том, чтобы выдать дворянские грамоты всем этим разночинцам драмы; и каждая из этих грамот за королевской печатью – это тирада.
Сия муза, мы это понимаем, – редкая ханжа. Она привыкла к ласкам перифразы, слово, употребленное в прямом значении, ее оскорбляет и внушает ужас. Говорить естественно совершенно недостойно ее. Она ставит в вину старику Корнелю его манеру выражаться слишком прямо:
…Куча людей, погрязших в долгах и преступлениях.[42]
…Химена, кто бы это подумал? Родриго, кто бы это сказал?[43]
…Когда их Фламиний продавал Ганнибала.[44]
…О, не ссорьте меня с республикой![45] и т. д.
Еще она сожалеет об этом его: «Потише, месье!» И потребовалось множество сеньоров и мадам, чтобы простить нашему восхитительному Расину его столь односложных псов и этого Клавдия, так грубо уложенного в постель Агриппины24.
Эта Мельпомена, как она себя называет, содрогнулась бы от прикосновения к хронике. Она оставляет костюмеру заботу определить, в какую эпоху происходит действие ее драм. История в ее глазах – это моветон и дурной вкус. Как, например, можно мириться с королями и королевами, которые бранятся? Их следует поднять от их королевского достоинства до достоинства трагического. Подобного рода повышением она облагородила Генриха IV. Так, народный король, очищенный г-ном Легуве, увидел, как из его уст с помощью двух изречений с позором изгнали его «черт побери» и вынудили, как девушку в фаблио, ронять из своих королевских уст только жемчужины, рубины и сапфиры; и все фальшивые, по правде говоря.
Короче говоря, нет ничего столь заурядного, как это условное изящество и благородство. В этом стиле нет никаких находок, никакого воображения, никакого творчества. Повсюду видны лишь риторика, напыщенность, общие места, цветы школьного красноречия, поэзия латинских стихов. Заимствованные идеи, облеченные в дешевые образы. Поэты этой школы изящны на манер театральных принцев и принцесс, всегда уверенные в том, что найдут в магазине, в ящиках с наклеенной этикеткой, мантии и короны из фальшивого золота, беда которых лишь в том, что они служили всем. Если эти поэты не перелистывают библии, это не значит, что у них нет своей толстой книги. И это «Словарь рифм». Там источник их поэзии, fontes aquarum.[46]
Понятно, что во всем этом природа и истина становятся тем, чем могут. Только в редком случае какие-то их обломки могут удержаться на поверхности в этом стихийном бедствии ложного искусства, ложного стиля, ложной поэзии. Вот в чем причина ошибки многих наших выдающихся реформаторов25. Шокированные отсутствием гибкости, помпезностью этой мнимой драматической поэзии, они сочли, что элементы нашего поэтического языка несовместимы с естественностью и правдивостью. Александрийский стих так их утомил, что они осудили его, так сказать, не желая даже выслушать, и вынесли приговор, возможно, немного поспешный, что драма должна быть написана прозой.
Они ошибались. Если фальшь действительно господствует как в стиле, так и в действии некоторых французских трагедий, то винить в этом следует не стихи, а стихотворцев. Нужно было осуждать не использованную форму, а тех, кто ее использовал; работников, а не инструмент.
Чтобы убедиться, сколь мало препятствий природа нашей поэзии противополагает свободному выражению всего правдивого, возможно, нужно изучать наш стих не у Расина, а, скорее, у Корнеля или еще лучше у Мольера. Расин, дивный поэт, элегичен, лиричен, эпичен; Мольер драматичен. Пора отдать должное критике, обрушенной дурным вкусом прошлого века на этот изумительный стиль, и громко заявить, что Мольер стоит на вершине нашей драмы не только как поэт, но также и как писатель. Palmas vere habet iste duas.[47]
Стих у него объемлет мысль, тесно сливается с нею, одновременно ограничивает и развивает ее, придает ей более стройный, более точный, более полный вид и предоставляет ее нам, так сказать, в концентрированном виде. Стих – это зрительная форма мысли. Вот почему он особенно подходит для сценической перспективы. Построенный определенным образом, он сообщает свою выразительность тому, что без него показалось бы незначительным и тривиальным. Он делает ткань стиля более прочной и более тонкой. Это узел, который закрепляет нить. Это пояс, который поддерживает одежду и создает все ее складки. Что же могли бы потерять природа и истина, облекаясь в стих? Спросим об этом у самих наших сторонников прозы, что теряют они в поэзии Мольера? Разве вино, да будет нам позволена еще одна банальность, перестает быть вином оттого, что оно налито в бутылку?
Если бы у нас было право высказаться по поводу того, каким мог бы быть, на наш взгляд, стиль драмы, мы хотели бы стих свободный, открытый, искренний, решающийся все высказать без преувеличенной стыдливости, все выразить без манерности; естественным образом переходящий от комедии к трагедии, от возвышенного к гротескному; вместе эмоциональный и поэтический, но всегда художественный и вдохновенный, глубокий и неожиданный, широкий и правдивый; умеющий вовремя ломать и переставлять цезуру, чтобы скрыть свое александрийское однообразие; более тяготеющий к переносам, которые его удлиняют, чем к инверсии, которая его запутывает; верный рифме, этой рабыне-царице, этой высшей прелести нашей поэзии, родоначальнице нашего размера; неисчерпаемый в разнообразии своих оборотов, неуловимый в тайнах своего изящества и манеры; принимающий, подобно Протею, тысячу форм, не меняя при этом своей сущности и характера, избегающий тирад; забавляющийся в диалоге; всегда скрывающийся за персонажем; заботящийся прежде всего о том, чтобы быть на своем месте, а когда ему случится быть красивым, то как бы случайно, помимо своей воли и не сознавая этого;[48] лирический, эпический, драматический, по мере надобности; способный охватить всю гамму поэзии, пройти ее сверху донизу, от самых возвышенных идей до самых вульгарных, от самых забавных до самых серьезных, от самых поверхностных до самых отвлеченных, никогда не выходя за пределы данной сцены; одним словом, такой, каким бы его создал человек, если бы некая фея одарила его душой Корнеля и умом Мольера. Нам кажется, что такой стих был бы так же прекрасен, как и проза.
Не было бы ничего общего между этой поэзией и той, которую мы только что вскрыли, как труп. Тонкое различие между ними будет легко установить, если один умный человек26, которому автор этой книги обязан личной благодарностью, позволит нам позаимствовать у него остроумное определение: та поэзия была описательной, эта была бы живописной.
Повторим это еще раз, стих в театре должен отбросить всякое самолюбие, всякие требования, всякое кокетство. Там он лишь форма, такая, которая должна все допускать, ничего не навязывать драме, и, напротив, все получить от нее, чтобы все передать зрителю: французский и латинский языки, тексты законов, королевскую брань, народные выражения, комедию, трагедию, смех, слезы, прозу, поэзию. Горе поэту, если его стих будет привередничать! Но форма эта – форма бронзовая, которая обрамляет мысль своим размером, делает драму несокрушимой, запечатлевает ее в мозгу актера, указывает ему то, что он пропускает или добавляет, не дает ему испортить свою роль и заменить автора, делает священным каждое слово и поэтому то, что сказал поэт, надолго остается в памяти слушателя. Мысль, пропитанная стихом, внезапно становится более острой и сверкающей. Это железо, которое становится сталью.
Чувствуется, что проза, неизбежно намного более робкая, вынужденная лишить драму всякой лирической или эпической поэзии, сведенная к диалогам и внешними фактам, далеко не располагает подобными средствами. Ее крылья гораздо менее широкие. Затем она намного более доступна; посредственность там чувствует себя непринужденно; и, если не принимать в расчет несколько выдающихся произведений, подобных тем, что появились в последнее время, искусство могли бы очень быстро наводнить ублюдки и недоноски. Другая часть реформаторов склоняется в пользу драмы, написанной одновременно стихами и прозой, как делал Шекспир. Этот прием имеет свои преимущества. Однако здесь могут быть несоответствия при переходе от одной формы к другой, ведь когда ткань однородна, она намного прочнее. Впрочем, пусть драма написана прозой, стихами или стихами и прозой – это вопрос второстепенный. Достоинство произведения должно определяться не формой, но его действительной ценностью. В вопросах такого рода есть только одно решение. Только одна гиря может склонить весы искусства: это талант.
В конечном счете, будь он прозаик или стихотворец, первое необходимое достоинство драматического писателя – это правильность. Не та чисто поверхностная правильность, положительное качество или недостаток описательной школы, которая сделала из Ломона и Ресто два крыла своего Пегаса27; но та сокровенная, глубокая, продуманная правильность, которая прониклась духом языка, которая исследовала его корни, изучила этимологию; всегда надежная, так как она всегда уверена в своих действиях и всегда согласуется с логикой языка. Наша Святая Дева грамматика опекает первую; вторая сама ведет за собой грамматику. Такая правильность может дерзать, рисковать, творить, изобретать свой стиль; она имеет на это право. Поскольку, хотя об этом говорят некоторые люди, которые не задумывались над тем, о чем они рассуждают, и к которым когда-то принадлежал, в частности, и тот, кто пишет эти строки, французский язык не принял и никогда не примет своей окончательной формы. Язык не останавливается в развитии. Человеческий разум всегда в пути, или, если хотите, в движении, и языки вместе с ним. Таков порядок вещей. Когда меняется тело, как может не измениться одежда? Французский язык девятнадцатого века не может больше быть французским восемнадцатого века, как этот последний не является языком семнадцатого, и как французский шестнадцатого века не есть язык пятнадцатого. Язык Монтеня больше не язык Рабле, язык Паскаля больше не язык Монтеня, язык Монтескье больше не язык Паскаля. Каждый из этих четырех языков сам по себе великолепен, так как он оригинален. У каждой эпохи есть свои собственные идеи; нужно, чтобы у нее были также и слова, присущие этим идеям. Языки подобны морю, они находятся в вечном движении. В определенное время они отливают от одного из берегов мира человеческой мысли и наводняют другой. Тогда все то, что покидает их волна, высыхает и исчезает с поверхности земли. Именно так угасают идеи, так уходят слова. С человеческими языками происходит то же, что и со всем остальным. Каждый век что-нибудь приносит в них и уносит из них. Что же делать? Это неизбежно. Поэтому напрасно мы хотим закрепить подвижный характер нашего языка в данной форме. Тщетно наши литературные Иисусы Навины кричат языку, чтобы он остановился; ни языки, ни солнце больше не останавливаются. В тот день, когда они принимают свою окончательную форму, они умирают. Вот почему французский язык одной из наших современных школ – это мертвый язык.
Таковы, хотя и развернутые и углубленные менее, чем это нужно, чтобы сделать их совершенно очевидными, нынешние мысли автора этой книги о драме. Впрочем, он вовсе не претендует на то, чтобы представить свой драматический опыт как осуществление этих идей, которые, напротив, возможно, раскрылись ему только в процессе работы. Вероятно, ему было бы очень удобно и даже выгодно обосновать свою книгу ее предисловием и защищать одно при помощи другого. Но он предпочитает поменьше ловкости и побольше искренности. Таким образом, он хочет первым показать, как слаб узел, связывающий это предисловие с драмой. Его первым замыслом, вызванным прежде всего его ленью, было дать публике только само произведение; el demonio sin las cuernas,[49] как говорил Ириарте. И только после того, как оно было надлежащим образом дописано и закончено, автор по просьбе нескольких, вероятно, весьма ослепленных друзей принял решение объясниться с самим собой в предисловии, набросать, так сказать, карту поэтического путешествия, которое он только что совершил, и отдать себе отчет в хороших и плохих приобретениях, которые он оттуда извлек, и в новых сторонах, с которых эта область искусства представилась его уму. Некоторые, вероятно, воспользуются этим признанием, чтобы повторить упрек, уже обращенный автору одним немецким критиком, что он создает «поэтику для своей поэзии». Так что же? Прежде всего у него было скорее намерение разрушить, чем создать поэтику. Затем, не лучше ли всегда создавать поэтики на основе поэзии, чем поэзию на основе поэтики? Но нет, еще раз, у него нет ни таланта создавать, ни притязания утверждать системы. «Системы, – остроумно сказал Вольтер, – как крысы, которые пролезают через двадцать дыр, и наконец находят две или три такие, через которые не позволяют им пролезть». Вот почему это означало бы со стороны автора взять на себя бесполезный труд, превышающий его силы. Напротив, он защищает искусство против деспотизма систем, кодексов и правил. Он привык следовать наугад тому, что он принимает за свое вдохновение, и менять форму столько раз, сколько у него произведений. Догматизм – это то, чего он прежде всего избегает в искусстве. Боже сохрани от желания быть из тех людей, романтиков или классиков, которые пишут произведения по своей системе, которые приговаривают себя к тому, чтобы иметь в сознании одну-единственную форму, всегда что-то доказывать, следовать иным законам, нежели законам их организации и их природы. Искусственные творения этих людей, каким бы талантом они, впрочем, ни обладали, не существуют для искусства. Это теория, а не поэзия.
Попытавшись во все вышесказанном указать, каково было, по нашему мнению, происхождение драмы, каков ее характер, каким мог бы быть ее стиль, мы должны спуститься с вершин этих общих вопросов искусства к частному случаю, который заставил нас на них подняться. Нам остается поговорить с читателем о нашем произведении, о «Кромвеле»; и так как это не та тема, которая нам нравится, то мы будем говорить о ней кратко и ограничимся лишь несколькими замечаниями.
Оливер Кромвель принадлежит к числу тех исторических деятелей, которые в одно и то же время и очень знамениты, и весьма мало известны. Большинство его биографов, среди которых есть и историки, оставили незавершенным образ этой великой фигуры. Кажется, что они не решились свести воедино все черты этого своеобразного и колоссального прототипа религиозной реформы и политической революции в Англии. Почти все они ограничились тем, что воспроизвели в увеличенном виде его простой и зловещий силуэт, начертанный Боссюэ с его монархической и католической точки зрения, с высоты его епископской кафедры, опирающейся на трон Людовика XIV28.
Как и все, автор этой книги вначале также довольствовался этим. Имя Оливера Кромвеля вызывало в нем лишь общее представление о фанатике-цареубийце и великом полководце. Однако, роясь в хрониках, что он делает с удовольствием, и исследуя наудачу английские мемуары семнадцатого века, он был поражен, постепенно увидев перед собой совершенно нового Кромвеля. Это был уже не только Кромвель-воин, Кромвель-политик, как у Боссюэ; это было существо сложное, неоднородное, разнообразное, состоящее из всех возможных противоречий, в котором смешалось много плохого и много хорошего, полный и дарований, и слабостей; какой-то Тиберий Данден29, тиран Европы и игрушка своей семьи; старый цареубийца, унижающий посланников всех королей и мучимый своей юной дочерью-роялисткой; суровый и мрачный в своих нравах и держащий при себе четырех придворных шутов; сочинявший дрянные стихи; трезвый, простой, воздержанный и придавший напыщенности этикету; грубый солдат и тонкий политик; искусный в теологических хитросплетениях и находящий в них удовольствие; оратор тяжелый, многословный, непонятный, но умевший говорить языком всех тех, кого он хотел обольстить; лицемер и фанатик; мечтатель, находившийся под властью призраков своего детства, веривший астрологам и изгоняющий их; чрезмерно недоверчивый, всегда грозный, но редко кровожадный; строго соблюдающий пуританские предписания и с серьезным видом теряющий ежедневно несколько часов на всякое шутовство; грубый и презрительный со своими близкими и ласковый с фанатиками, которых он боялся; обманывавший угрызения совести ухищрениями, лукавящий со своим сознанием; бесконечно ловкий в изобретении всякого рода ловушек, в поисках средств; обуздывавший свое воображение разумом; гротескный и возвышенный; наконец, один из людей «с квадратным основанием», как их называл Наполеон, величайший образец и вождь всех этих цельных людей, на своем точном, как алгебра, и красочном, как поэзия, языке.
Тот, кто пишет эти строки, при виде этого редкого и поразительного целостного образа, почувствовал, что ему уже недостаточно страстного силуэта Боссюэ. Он стал осматривать со всех сторон эту значительную фигуру, и его охватило непреодолимое искушение изобразить этого гиганта со всех сторон и во всех его проявлениях. Материал был богатый. Рядом с военным и государственным деятелем оставалось еще сделать набросок богослова, педанта, плохого поэта, мечтателя, шута, отца, мужа, человека-Протея, одним словом, двойного Кромвеля, homo et vir.[50]
Есть особенно один период в его жизни, когда его необычный характер проявляется со всех сторон. Это не момент захватывающего полного мрачного и ужасного интереса процесса Карла I, как можно было бы сначала подумать; это тот момент, когда честолюбец попытался сорвать плод этой смерти. Это мгновение, когда Кромвель, достигнув всего того, что для другого было бы вершиной возможного счастья, став властелином Англии, многочисленные группировки которой замолкли у его ног, властелином Шотландии, из которой он сделал свой пашалык30, и Ирландии, которую он превратил в каторгу, властелином Европы, благодаря своему флоту, своим армиям, своей дипломатии, он пытается наконец осуществить первую мечту своего детства, последнюю цель своей жизни – стать королем. История никогда не скрывала более великого урока под более великой драмой. Протектор сначала заставляет себя просить; торжественный фарс начинается с обращения общин, городов, графств; потом следует парламентский билль. Кромвель, анонимный автор этого документа, пытается сделать вид, что недоволен им; он протягивает руку к скипетру и отдергивает ее; он украдкой приближается к тому трону, с которого он смел династию. Наконец он вдруг решается; по его приказу Вестминстер украшен флагами, воздвигнуты подмостки, ювелиру заказана корона, назначен день церемонии. Странная развязка! В этот самый день, перед народом, армией, общинами, в большом зале Вестминстера, на этом помосте, с которого рассчитывал спуститься королем, он, кажется, внезапно пробуждается при виде короны, спрашивает, не снится ли ему все это, что значит эта церемония, и в речи, которая длится три часа, отказывается от королевского сана. Предупредили ли его шпионы о двух объединенных заговорах кавалеров и пуритан, которые должны были в этот день, воспользовавшись его ошибкой, поднять восстание? Произвело ли в нем переворот молчание или ропот народа, приведенного в замешательство видом цареубийцы, вступающего на престол? Была ли это просто прозорливость гения, инстинкт осторожного, хотя и безудержного честолюбца, который знает, как один лишний шаг часто меняет положение человека, и не решился отдать свое плебейское здание на волю ветру народной непопулярности? Было ли это все вместе? Это то, что ни один современный документ проясняет до конца. Тем лучше; свобода поэта становится от этого более полной, и драма выигрывает от того простора, который дает ей история. Мы видим, что здесь она огромна и необычайна; это решительный час, великая перипетия жизни Кромвеля. Это момент, когда его химера ускользает от него, когда настоящее убивает его будущее, или, употребляя энергичное вульгарное выражение, когда его игра сорвалась. Весь Кромвель в этой комедии, разыгрывающейся между ним и Англией.
Вот тот человек, вот та эпоха, которые автор попытался обрисовать в своей книге.
Автор позволил себя увлечь детской радости привести в движение клавиши этого огромного клавесина. Безусловно, люди более искусные могли бы извлечь из него возвышенную и глубокую гармонию, не ту, которая ласкает только слух, но задушевную гармонию, волнующую всего человека, как если бы каждая струна инструмента соединялась с фибрами сердца. Он уступил желанию изобразить весь этот фанатизм, все эти суеверия, религиозные болезни некоторых эпох; желанию «поиграть всеми этими людьми», как говорит Гамлет; расположить вокруг Кромвеля, как центра и оси этого двора, этого народа, этого мира, объединяющего все в своем единстве и придающего всему движение, и этот двойной заговор, составленный двумя ненавидящими друг друга партиями, объединившимися в союз, чтобы сбросить стесняющего их человека, но только соединившимися, а не слившимися; и эту пуританскую партию, фанатичную, разнородную, мрачную, бескорыстную, избравшую вождем самого незначительного человека на самую великую роль, эгоистичного и малодушного Ламберта; и эту партию кавалеров, легкомысленных, веселых, не особенно щепетильных, беззаботных, преданных, возглавляемую человеком, который, за исключением преданности, меньше всего представляет ее, честным и суровым Ормондом; и этих послов, столь смиренных перед солдатом удачи; и этот странный двор, состоящий из удачливых людей и вельмож, соперничающих друг с другом в угодливости; и этих четырех шутов, которых нам позволила выдумать презрительная забывчивость истории; и эту семью, каждый член которой – рана Кромвеля; и Терло, этого Ахата31 протектора; и этого еврейского раввина, Израиля Бен-Манассию, шпиона, ростовщика и астролога, презренного с двух сторон и возвышенного с третьей; и Рочестера, этого странного Рочестера, смешного и остроумного, изящного и распутного, без конца бранящегося, всегда влюбленного и вечно пьяного, как он хвастался епископу Бенету, плохого поэта и хорошего дворянина, порочного и простодушного, ставящего на кон свою голову и мало заботящегося о том, чтобы выиграть партию, лишь бы она забавляла его, одним словом, способного на все – на хитрость и на необдуманный поступок, на безумие и на расчет, на низость и на великодушие; и этого дикого Карра, только одну, но очень характерную и плодотворную черту которого изображает история32; и этих фанатиков всякого вида и всякого рода: Харрисона – фанатика-грабителя, Бербонса – фанатика-торговца, Синдеркомба – убийцу, Огюстина Гарленда – убийцу слезливого и набожного, храброго полковника Оуветона – эрудита и немного краснобая, сурового и непреклонного Ладлоу, впоследствии оставившего свой прах и свою эпитафию Лозанне, и, наконец, «Милтона и некоторых других умных людей», как говорится в одном памфлете 1675 года («Кромвель-политик»), напоминающем нам «Dantem quemdam»[51] итальянской хроники.
Мы не указываем многих второстепенных персонажей, у каждого из которых, однако, своя подлинная жизнь, своя ярко выраженная индивидуальность, и все они так же привлекали воображение автора, как и эта огромная историческая сцена. Из этой сцены он сделал драму. Он написал ее в стихах, потому что ему так понравилось. Впрочем, вы увидите, читая ее, как мало думал он о своем произведении, когда писал это предисловие, с каким бескорыстием, например, он боролся с догматом единств. Его драма не выходит за пределы Лондона, она начинается 25 июня 1657 года в три часа утра и кончается 26-го в полдень. Мы видим, что она почти удовлетворяет классическим требованиям, как их излагают сейчас профессора поэзии. Пусть они, однако, не испытывают по отношению к нему никакой благодарности. Автор так построил свою драму не с разрешения Аристотеля, но с разрешения истории; и потому, что при прочих равных условиях он предпочитает концентрированный сюжет сюжету разбросанному.
Очевидно, что эта драма при ее нынешних размерах не могла бы уложиться в рамки нашего театрального представления. Она слишком длинная. Но, быть может, вы заметите, что она во всех отношениях была написана для сцены. Только подойдя к своему сюжету, чтобы изучить его, автор понял, или ему так показалось, что невозможно точно воспроизвести этот сюжет на нашей сцене при том исключительном положении, в котором она находится, между академической Харибдой и административной Сциллой, между литературными судьями и политической цензурой. Нужно было выбирать: или вкрадчивая, неискренняя, фальшивая трагедия, которая будет сыграна на сцене, или до дерзости правдивая драма, которая будет отвергнута. Первая не стоила труда быть написанной; и автор предпочел попробовать сочинить вторую. Вот почему, отчаявшись когда-либо поставить свое произведение на сцене, он свободно и послушно отдался фантазиям сочинителя, наслаждению развернуть свою драму как можно шире, подробностям, которые предполагал его сюжет и которые, удаляя ее от сцены, имели, по крайней мере, преимущество полноты в историческом отношении. Впрочем, художественные советы – всего лишь второстепенное препятствие. Если бы случилось так, что драматическая цензура, поняв, насколько это невинное, точное и добросовестное изображение Кромвеля и его времени не связано с нашей эпохой, допустила бы его в театр, автор смог бы, но только в этом случае, извлечь из своей драмы пьесу, которая отважилась бы появиться на сцене и была бы освистана.
Но до тех пор он будет по-прежнему держаться вдали от театра. И он слишком рано покинет свое дорогое целомудренное уединение для суеты этого нового мира. Боже, сделай так, чтобы он никогда не раскаялся в том, что подверг девственную неизвестность своего имени и своей личности превратностям подводных камней, шквалов и бурь галерки, и особенно (так как что за важность – провал!) жалким дрязгам кулис; что он вступил в эту переменчивую, туманную, бурную атмосферу, где поучает невежество, где шипит зависть, где плетутся интриги, где так часто недооценивали честный талант, где благородная искренность гения иногда несколько не к месту, где торжествует посредственность, низводя до своего уровня тех, кто ее превосходит, где столько незначительных людей на одного великого человека, столько ничтожеств на одного Тальма, столько мирмидонян на одного Ахилла33! Быть может, этот набросок покажется слишком мрачным и не слишком лестным; но не проясняет ли он окончательно различие между нашим театром, местом интриг и распрей и торжественным спокойствием античного театра?
Что бы ни случилось, автор считает своим долгом заранее предупредить тех немногих, кого прельстит подобное зрелище, что пьеса, извлеченная из «Кромвеля», займет времени не меньше, чем любой спектакль34. Романтическому театру трудно утвердиться иначе. Конечно, если вы хотите чего-то другого помимо всех этих трагедий, в которых один—два персонажа, абстрактные выражения чисто метафизической идеи, торжественно прогуливаются на лишенном глубины фоне всего с несколькими наперсниками, бледными копиями героев, призванными заполнить пустоты простого, однообразного и монотонного действия; если вы устали от этого, одного вечера не будет слишком много для того, чтобы довольно подробно раскрыть исключительного человека или целую переломную эпоху; одного – с его характером, с его дарованиями, которые тесно взаимодействуют с этим характером, с его верованиями, господствующими над ними, с его страстями, будоражащими его верования, характер и дарования, с его вкусами, оказывающими влияние на его страсти, с его привычками, которые направляют его вкусы, держат в узде страсти, и с этой бесконечной вереницей всякого рода людей, которых эти различные факторы заставляют кружиться вокруг него; вторую – с ее нравами, законами, вкусами, с ее духом, ее познаниями, ее суевериями, ее событиями и с ее народом, который все эти первопричины по очереди разминают, как мягкий воск. Понятно, что подобная картина будет гигантской. Вместо одной личности, которой довольствуется абстрактная драма старой школы, их будет двадцать, сорок, пятьдесят – откуда мне знать? – различной выразительности и различных размеров. Их будет целая толпа в драме. Не мелочно ли было бы ограничивать ее длительность двумя часами, чтобы отдать остальное время комической опере или фарсу? Урезывать Шекспира ради Бобеша35? И, если действие хорошо построено, пусть не думают, что множество фигур, которых оно пускает в ход, может утомить зрителя или внести чрезмерную пестроту в драму. Шекспир, щедрый на мелкие детали, в то же самое время и именно по этой причине велик в создании огромного целого. Это дуб, который отбрасывает колоссальную тень тысячами маленьких зубчатых листьев.
Будем надеяться, что во Франции скоро привыкнут посвящать весь вечер одной пьесе. В Англии и Германии есть драмы, которые длятся по шесть часов. Греки, о которых нам столько говорят, греки, и, на манер Скюдери, мы здесь ссылаемся на классика Дасье, глава VII его «Поэтики», греки иногда смотрели двенадцать или шестнадцать пьес в день. У народа, любящего зрелища, внимание более стойкое, чем думают. «Женитьба Фигаро», этот узел великой трилогии Бомарше, занимает весь вечер, кого она утомила или заставила скучать? Бомарше был достоин отважиться на первый шаг к этой цели современного искусства, которое не в состоянии за каких-нибудь два часа извлечь этот глубокий, непреодолимый интерес, являющийся результатом широкого, правдивого и многообразного действия. Но говорят, что спектакль, состоящий только из одной пьесы, был бы однообразен и показался бы длинным. Это заблуждение! Он, напротив, утратил бы свою нынешнюю длину и однообразие. Действительно, что сейчас делают? Разделяют наслаждение зрителя на две резко разграниченные части. Сначала ему дают два часа серьезного удовольствия, затем час удовольствия игривого; с часом антрактов, которые мы удовольствием не считаем, получается всего четыре часа. Что бы сделала романтическая драма? Она бы мастерски раздробила и смешала эти два вида удовольствия. Она бы заставила публику поминутно переходить от серьезного к смешному, от шутовского возбуждения к душераздирающим сценам, от серьезного к нежному, от забавного к суровому. Поскольку драма, как мы уже установили, – это соединение гротеска с возвышенным, душа в оболочке тела, это трагедия в оболочке комедии. Не очевидно ли, что, отдыхая от одного впечатления при помощи другого, заостряя поочередно трагическое комическим, веселое ужасным, добавляя даже, по необходимости, очарование оперы, представления эти, состоя лишь из одной пьесы, стоили бы нескольких? Романтическая сцена приготовила бы пикантное, разнообразное, вкусное блюдо из того, что на классической сцене представляет собой лекарство, разделенное на две пилюли.
И вот автор этой книги изложил почти все, что имел сказать читателю. Он не знает, как критика примет и эту драму, и эти обобщенные идеи, лишенные необходимых следствий, дополнительных пояснений, собранные в спешке и с желанием поскорее покончить с этим. Вероятно, они покажутся очень дерзкими и очень странными «ученикам Лагарпа». Но если случайно, несмотря на всю их наготу и сжатость, они поспособствуют тому, чтобы направить на верную дорогу публику, образование которой уже столь продвинулось и которую столько замечательных сочинений, критических статей или приложений, книг или газет подготовили к восприятию искусства, пусть она следует этому порыву, не заботясь о том, что он исходит от человека неизвестного, от голоса, не имеющего авторитета, от незначительного произведения. Это медный колокол, который призывает народ в истинный храм, к истинному Богу.
Сейчас существует литературный старый режим, так же как политический старый режим. Прошлый век почти во всем еще нависает над новым. Особенно подавляет он его в области критики. Вы находите, например, живых людей, которые повторяют вам определение вкуса, оброненное Вольтером: «Вкус в поэзии тот же, что и в женских нарядах». Таким образом, вкус – это кокетство. Замечательные слова, превосходно описывающие эту поэзию восемнадцатого века, нарумяненную, напудренную, в мушках, эту литературу с фижмами, помпонами и оборками. Они дают прекрасное представление об эпохе, с которой самые возвышенные гении не могли войти в контакт, не став маленькими, по крайней мере, в некотором отношении, о том времени, когда Монтескье мог и вынужден был написать «Книдский храм», Вольтер – «Храм вкуса», Жан-Жак – «Деревенского колдуна»36.
Вкус – это разум гения. Вот что установит вскоре другая критика, мощная, свободная, научная, критика века, который начинает пускать мощные побеги под старыми, иссохшими ветвями старой школы. Эта молодая критика, столь же серьезная, сколь пустой была первая, столь же ученая, сколь первая была невежественной, уже создала свои авторитетные органы, и мы иногда с удивлением находим в самых легкомысленных газетках37 превосходные статьи, вдохновленные ею. Это она, соединившись со всем самым лучшим и смелым в литературе, освободит нас от двух бедствий: дряхлого классицизма и фальшивого романтизма, который смеет дерзко пробиваться у подножия истинного. Так как у современного духа уже есть своя тень, свой дурной отпечаток, свой паразит, свой классицизм, который гримируется под него, принимает его цвета, надевает его ливрею, подбирает его крохи и, как ученик чародея, заученными на память словами пускает в ход действие, тайной которого он не владеет. Поэтому он делает глупости, которые учителю приходится множество раз с трудом исправлять. Но прежде всего надо истребить старый ложный вкус. Надо удалить его ржавчину с современной литературы. Он тщетно пытается ее подточить и нанести ей ущерб. Он говорит с новым, суровым, мощным поколением, которое его не понимает. Шлейф восемнадцатого столетия волочится еще в девятнадцатом, но мы, молодое поколение, видевшее Бонапарта, не понесем его.
Мы приближаемся к моменту, когда увидим, как одерживает верх новая критика, опирающаяся на широкую, прочную и глубокую основу. Скоро все поймут, что писателей надо судить не с точки зрения правил и жанров, которые находятся за пределами природы и искусства, но согласно неизменным принципам этого искусства и особым законам их личной организации. Разум всех устыдится той критики, которая заживо колесовала Пьера Корнеля, заткнула рот Жану Расину и очевидно реабилитировала Джона Мильтона только на основании эпического кодекса отца Ле Боссю38. Тогда согласятся, что осознать произведение можно, только встав на точку зрения его автора, взглянув на предмет его глазами. Оставят, и это здесь говорит г-н де Шатобриан, «жалкую критику недостатков ради великой и плодотворной критики красот». Пора здравомыслящим людям ухватить нить, которая часто связывает то, что, по нашему личному капризу, мы называем недостатком, с тем, что мы называем красотой. Недостатки, по крайней мере, то, что мы так называем, часто бывают естественным, необходимым, неизбежным условием достоинств.
- Seit genius, natale comes qui temperat astrum.[52]
Где вы видели медаль, у которой нет оборотной стороны? талант, который вместе со своим светом не отбрасывал бы и своей тени, вместе со своим пламенем не испускал бы и своего дыма? Иной недостаток может быть лишь неотъемлемым следствием той или иной красоты. Резкий мазок, который меня неприятно поражает вблизи, дополняет впечатление и придает живость целому. Уничтожьте одно, и вы уничтожите другое. Оригинальность состоит из всего этого. Гений непременно бывает неровным. Нет высоких гор без глубоких пропастей. Завалите долину горой, и вы получите лишь степь, ланды, Саблонскую равнину вместо Альп, жаворонков, а не орлов.
Нужно также различать время, климат, местные влияния. Библия и Гомер порой задевают нас своей излишней возвышенностью. Но кто хотел бы выбросить оттуда хотя бы одно слово? Наша слабость часто пугается вдохновенной дерзости гения, при отсутствии возможности броситься на предметы со столь же обширной способностью мышления. И затем, повторяем еще раз, есть ошибки, которые укореняются только в шедеврах; некоторые недостатки даны лишь немногим гениям. Шекспира упрекают в злоупотреблении метафизикой, в злоупотреблении остроумием, в посторонних сценах, в непристойностях, в применении мифологического старья, модного в его время, в экстравагантности, в непонятности, в дурном вкусе, в напыщенности, в неровности стиля.
Дуб – это гигантское дерево, которое мы только что сравнивали с Шекспиром и которое имеет с ним немало сходства, дуб также причудлив на вид, у него узловатые сучья, темная листва, жесткая и грубая кора; но он – дуб.
И именно по этим причинам он дуб. Если же вы, напротив, хотите гладкий ствол, прямые ветви, атласные листья, обратитесь к бледной березе, к дуплистой бузине, к плакучей иве; но оставьте в покое великий дуб. Не забрасывайте камнями того, кто дает вам тень.
Автор этой книги лучше всех знает многочисленные и грубые недостатки своих произведений. Если ему слишком редко случается исправлять их, то только потому, что возврат к тому, что уже сделано, вызывает у него отвращение.[53] Ему не знакомо искусство приукрашивать недостатки. Что он, впрочем, написал такого, что стоит этих хлопот? Труд, который он затратил бы на уничтожение несовершенств своих книг, он предпочитает употребить на исправление недостатков своего ума. Его метод – исправлять произведение лишь в другом произведении.
Впрочем, как бы ни была принята его книга, он принимает здесь на себя обязательство не защищать ее ни всю целиком, ни частично. Если драма его плоха, к чему ее поддерживать? Если она хороша, зачем ее защищать? Время не оставит от книги камня на камне или воздаст ей должное. Минутный успех – дело только издателя. Если же публикация этого очерка пробудит гнев критики, автор не будет вмешиваться. Что бы он ей ответил? Он не из тех, кто говорит, по выражению кастильского поэта40, «устами своей раны»,
- Por la boca de su herida.
И последнее слово. Можно заметить, что в этом слегка затянувшемся странствии, во время которого оказалось затронуто столько различных вопросов, автор, как правило, воздерживался от того, чтобы подкреплять свое личное мнение текстами, цитатами, ссылками на авторитеты. Однако это не потому, что их ему недоставало. «Если поэт устанавливает вещи, невозможные с точки зрения правил его искусства, он, вне всякого сомнения, совершает ошибку; но она перестает быть ошибкой, если таким путем он приходит к цели, которую он себе поставил; так как он нашел то, что искал». «Они принимают за галиматью все то, что слабость их познаний не позволяет им понять. Они находят смешными особенно те изумительные места, где поэт, чтобы лучше приблизиться к разуму, выходит, если можно так выразиться, за его пределы. Действительно, это предписание, данное в качестве правила иногда вовсе не соблюдать правил, есть тайна искусства, которую нелегко заставить услышать людей, лишенных всякого вкуса… и которых некая странность ума делает нечувствительными к тому, что обычно поражает людей». Кто сказал первое? Аристотель. Кто сказал второе? Буало. Уже один этот пример показывает, что автор этой драмы мог бы как другие облечься в броню знаменитых имен и укрыться за авторитетами. Но он пожелал оставить такой способ аргументации тем, кто считает этот способ непобедимым, годным для всех случаев и наилучшим. Что до него, то он предпочитает доводы авторитетам; он всегда больше любил оружие, чем гербы.
Октябрь 1827 г.
Шекспир. Его творчество
Кульминационные пункты
I
Особенность каждого гения первой величины в том, что он создает образец человека. Все они приносят в дар человечеству его портрет: одни смеясь, другие плача, третьи размышляя. Эти последние – самые великие. Плавт смеется и дает человеку Амфитриона, Рабле смеется и дает Гаргантюа, Сервантес смеется и дает Дон Кихота, Бомарше смеется и дает Фигаро, Мольер плачет и дает Альцеста, Шекспир размышляет и дает Гамлета, Эсхил думает и дает Прометея. Остальные – велики; Эсхил и Шекспир безграничны.
Эти портреты человечества, оставленные ему как прощание этими прохожими, поэтами, редко приукрашены, всегда точны и обладают глубоким сходством. Порок, или безумие, или добродетель извлекаются из души и отражаются на лице. Застывшая слеза становится жемчужиной; окаменевшая улыбка, в конце концов, кажется угрозой; морщины – это борозды мудрости; порой нахмуренные брови выражают трагедию. Эта серия образцов человека – постоянный урок поколениям; каждый век добавляет к ним несколько фигур; иногда они сделаны при полном свете и в виде круглой скульптуры, как Масетта, Селимена, Тартюф, Тюркаре и Племянник Рамо, иногда это простые профили, как Жиль Блаз, Манон Леско, Кларисса Хэрлоу и Кандид.
Бог создает интуитивно; человек – по вдохновению, дополненному наблюдением. Это второе сотворение мира, не что иное, как божественное деяние, совершенное человеком, это то, что называют гением.
Когда поэт становится на место судьбы, вымышленные человек и события предстают такими странными, похожими на себя и совершенными, что некоторые религиозные секты испытывают ужас, как будто это присвоение прав Провидения, и называют поэта «лжецом»; совесть человека, пойманная с поличным и помещенная в среду, с которой она борется, которой управляет или которую переделывает, – это драма. В этом есть что-то высокое. Это управление человеческой душой кажется равным Божественному. Тайна такого равенства объясняется, когда размышляют о том, что Бог находится внутри человека. Это равенство есть тождество. Что такое наша совесть? Бог. И он советует нам совершить хороший поступок. Что такое наш ум? Бог. И он вдохновляет на создание шедевра.
Но Бог напрасно старается присутствовать там, Его присутствие ни от чего не освобождает, мы видим это по язвительности критики; величайшие умы и есть самые оспариваемые. Случается даже, что умные люди нападают на гениев; вдохновенные, как это ни странно, не признают вдохновения. Эразм, Бейль, Скалигер, Сент-Эвремон, Вольтер, большое число отцов церкви, целые семьи философов, вся александрийская школа, Цицерон, Гораций, Лукиан, Плутарх, Иосиф Флавий, Дион Хризостом, Дионисий Галикарнасский, Филострат, Митродор Лампсакский, Платон, Пифагор сурово критиковали Гомера. В этом перечне мы опускаем Зоила. Отрицатели не являются критиками. Ненависть не есть понимание. Поносить не значит обсуждать. Зоил, Мевий, Чекки, Грин, Авельянеда, Уильям Лаудер, Визе, Фрерон – невозможно отмыть эти имена. Эти люди оскорбили род людской в лице его гениев; эти презренные руки навсегда сохранили следы брошенных ими комьев грязи.
И эти люди не имеют даже печальной славы, право на которую они, казалось бы, приобрели, как и той меры позора, которую они ожидали. Об их существовании мало известно. Они наполовину забыты, что еще унизительнее, чем полное забвение. За исключением двух или трех из них, чьи имена стали нарицательными для выражения презрения, своего рода пригвожденных сов, оставленных в качестве примера1, всех этих несчастных не знают. Они пребывают в тени. Беспокойная слава следует за их подозрительным существованием. Посмотрите на Клемана, самого себя называвшего сверхкритиком, занятием которого было кусать Дидро и писать на него доносы, и хотя он родился в Женеве, его путают с Клеманом Дижонским, духовником сестер короля, с Давидом Клеманом, автором «Любопытной библиотеки», с Клеманом де Бэз, бенедиктинцем из Сент-Мор, и с Клеманом д’Аскен, провинциалом ордена капуцинов и помощником начальника ордена в Беарне. Зачем было объявлять, что произведения Дидро всего лишь мрачные разглагольствования, и умереть сумасшедшим в Шарантоне, чтобы затем раствориться в четырех или пяти безвестных Клеманах? Напрасно Фамьен Страда яростно нападал на Тацита, его с трудом отличают от Фабьена Спада по прозвищу Деревянная Шпага, шута Сигизмунда Августа. Чекки напрасно рвал на части Данте, мы даже не уверены, не зовется ли он Чекко. Грин напрасно хватал за шиворот Шекспира, его путают с другим Грином. Авельянеду, «врага» Сервантеса, возможно, звали Авелланедо. Лаудер, клеветавший на Милтона, быть может, был Лейдером. Некий де Визе, который «хаял» Мольера, это в то же время Донно; он назвался де Визе из пристрастия к дворянскому званию. Они рассчитывали, чтобы добавить себе немного блеска, на величие тех, кого оскорбляли. Напрасно; эти существа остались безвестными. Этим бедным оскорбителям даже не заплатили. Они не удостоились даже презрения. Пожалеем их.
II
Добавим, что клевета напрасно старается. Тогда чему же она служит? Даже не злу. Знаете ли вы что-нибудь более бесполезное, чем вред, не приносящий вреда?
Лучше того. Этот вред приносит пользу. В назначенное время оказывается, что клевета, зависть и ненависть, думая потрудиться против кого-то, на самом деле потрудились для него. Их хула прославляет, их коварство делает известным. Им удается лишь добавить к славе увеличивающий ее шум.
Продолжим.
Итак, каждый из гениев по очереди примеряет эту огромную человеческую маску; и такова сила их души, которая проходит сквозь таинственные отверстия для глаз, что этот взгляд меняет маску, из страшной он делает ее комической, затем мечтательной, затем скорбной, затем юной и улыбающейся, затем дряхлой, затем чувственной и прожорливой, затем религиозной, затем оскорбляющей, и это Каин, Иов, Атрей, Аякс, Приам, Гекуба, Ниобея, Клитемнестра, Навзикая, Пистоклер, Гремио, Дав, Пазикомпса, Химена, дон Ариас, дон Диего, Мударра, Ричард III, леди Макбет, Дездемона, Джульетта, Ромео, Лир, Санчо Панса, Пантагрюэль, Панург, Арнольф, Жорж Данден, Сганарель, Агнеса, Розина, Викторина, Базилио, Альмавива, Керубино, Манфред.
Из прямого божественного созидания появился Адам, прототип. Из косвенного божественного созидания, то есть из созидания человеческого, появились другие Адамы – типы.
Тип не воспроизводит никакого человека в частности; он не накладывается точно ни на один индивидуум; он обобщает и концентрирует в одной человеческой форме целую семью характеров и умов. Тип не сокращает; он сгущает. Он воплощает не одного, а всех. Алкивиад только Алкивиад, Петроний только Петроний, Бассомпьер только Бассомпьер, Бэкингем только Бэкингем, Фронсак только Фронсак, Лозен только Лозен; но возьмите Лозена, Фронсака, Бекингэма, Бассомпьера, Петрония и Алкивиада, измельчите их в ступке мечты, и оттуда выйдет призрак, более реальный, чем они все, Дон Жуан. Возьмите одного за другим всех ростовщиков, никто из них не будет этим диким венецианским купцом, кричащим: «Тубал, выдай ему вексель на две недели; если он не заплатит, я хочу его сердце». Возьмите всех ростовщиков вместе, из их толпы выделится один обобщенный, Шейлок. Сложите все ростовщичество, и у вас получится Шейлок. Народная метафора, которая никогда не ошибается, подтверждает, не зная его, вымысел поэта; и пока Шекспир создает Шейлока, она создает слово «живоглот». Шейлок – это еврейство, но он также – иудейство; то есть вся нация, с ее низкими и высокими сторонами, с ее верностью и мошенничествами, и именно потому, что он обобщает черты целой расы, такой, какой ее сделало угнетение, Шейлок велик. Все евреи, даже средневековые, в конце концов, правы, говоря, что ни один из них – не Шейлок; любители наслаждений правы, говоря, что ни один из них не Дон Жуан! Ни один листок апельсинового дерева, если его пожевать, не дает вкуса апельсина. Однако у них есть глубокое родство, близость, идущая из корня, один и тот же источник соков, одна и та же подземная мгла до начала жизни. Плод содержит в себе тайну дерева, а тип заключает в себе тайну человека. Отсюда эта странная жизнь типа.
Потому что, и это чудо, тип живет. Если бы он был только абстракцией, люди не узнавали бы его и позволяли бы этой тени идти своей дорогой. Так называемая классическая трагедия создает привидения; драма создает типы. Урок, которым является человек, миф с человеческим лицом, столь пластичным, что оно смотрит на вас и взгляд его в зеркале, притча, которая толкает вас локтем; символ, кричащий «Берегись!», идея, представляющая собой нервы, мускулы и плоть, имеющая сердце, чтобы любить, нутро, чтобы страдать, глаза, чтобы плакать и зубы, чтобы пожирать или смеяться, психологическая концепция, обладающее рельефностью факта и, если она кровоточит, кровоточащее подлинной кровью, вот что такое тип. О, могущество поэзии! типы – это живые существа. Они дышат, трепещут, мы слышим их шаги, они существуют. Они существуют более интенсивным существованием, чем кто бы то ни было из считающих себя живыми там, на улице. У этих призраков больше плотности, чем у человека. В их сущности есть частица вечности, принадлежащая шедеврам, которая заставляет жить Тримальхиона, в то время как г-н Ромье мертв.
Типы – это обстоятельства, которые предвидел Бог; гений осуществляет их – кажется, Бог предпочитает заставлять одних людей учить других, чтобы внушить доверие. Поэт находится на улице с людьми; он говорит с ними напрямую. Отсюда и действенность типов. Человек – это предпосылка, тип делает вывод; Бог создает феномен, гений снабжает его признаками; Бог создает только скупца, гений создает Гарпагона; Бог создает только предателя, гений создает Яго; Бог создает лишь кокетку, гений создает Селимену; Бог создает лишь буржуа, гений создает Кризаля; Бог создает лишь короля, гений создает Грангузье. Порой, в определенный момент, готовый тип появляется из какого-то неведомого сотрудничества всего народа с великим наивным актером, который неожиданно для самого себя мощно воплощает его; толпа при этом оказывается повитухой; из эпохи, на одном конце которой находится Талейран, а на другом – Шодрюк-Дюкло, вдруг появился, блеснув как молния, таинственно выношенный театром призрак – Робер Макер2.
Типы свободно приходят и уходят в искусстве и природе. Они представляют собой идеальное в реальном. Человеческое добро и зло заключено в этих фигурах. Из каждого из них под взглядом мыслителя проистекает человечество.
Мы уже говорили это: сколько типов, столько и Адамов. Человек, созданный Гомером, Ахилл – это Адам, от него происходит вид воинов; человек, созданный Эсхилом, Прометей – Адам, от него происходит род борцов; человек, созданный Шекспиром, Гамлет – Адам, с ним связана семья мечтателей. Другие Адамы, созданные поэтами, воплощают этот – страсть, тот – долг, тот – разум, тот – совесть, тот – падение, тот – восхождение. Благоразумие, превратившееся в трепет, идет от старца Нестора к старику Жеронту. Любовь, превратившаяся в желание, идет от Дафниса к Ловеласу. Красота в сочетании со змеем идет от Евы к Мелюзине. Типы начинаются в Книге Бытия, а одно из звеньев этой цепи проходит через Ретиф де Ля Бретонна и Ваде3. Им подобает лирика, но им к лицу и простонародный язык. Они говорят на местном наречии устами Гро-Рене, а у Гомера обращаются к Минерве, таскающей их за волосы: «Чего ты пристала ко мне, богиня?»
Поразительное исключение было сделано для Данте. Человек Данте – это сам Данте. Данте, если можно так сказать, воссоздал себя во второй раз в своей поэме; он воплощает свой тип; его Адам – это он сам. Он никого не искал для действия своей поэмы. Он только взял в качестве второстепенного лица Вергилия. Впрочем, он сделал себя совершенно эпическим, даже не взяв на себя труд изменить имя. То, что он должен был сделать, было действительно просто: спуститься в ад и вновь подняться на небо. К чему стесняться из-за таких пустяков? Он важно стучится в двери вечности и говорит: «Открой, я – Данте».
III
Два величайших Адама, как мы только что сказали: это Прометей, человек, созданный Эсхилом, и Гамлет, человек, созданный Шекспиром.
Прометей – это действие, Гамлет – это колебание.
У Прометея препятствие внешнее; у Гамлета оно внутреннее.
В Прометее воля прибита к четырем конечностям бронзовыми гвоздями и не может пошевелиться; кроме того, рядом с ней два стража: Сила и Власть. В Гамлете воля порабощена еще больше; она связана по рукам и ногам предварительным размышлением, бесконечной цепью, которая сковывает нерешительных. Итак, освободитесь от самих себя! Какой же это гордиев узел – наши мечтания! Внутренне рабство – это настоящее рабство. Преодолейте эту ограду: размышления! Выйдите, если можете, из этой тюрьмы: любви! Единственная камера – это та, где замурована наша совесть. Прометею, чтобы стать свободным, нужно только сломать бронзовый ошейник и победить Бога; Гамлет же должен сломать самого себя и победить самого себя. Прометей может выпрямиться и встать на ноги, даже если ему приходится приподнять для этого гору; Гамлету же, чтобы выпрямиться, нужно приподнять свою мысль. Прометей отрывает от своей груди грифа, этим все сказано; Гамлет должен вырвать из себя Гамлета. Прометей и Гамлет – это две обнаженные печени; из одной течет кровь, из другой – сомнение.
Эсхила обычно сравнивают с Шекспиром на примере «Ореста» и «Гамлета», поскольку обе трагедии представляют собой одну и ту же драму. Действительно, никогда еще сюжеты не были более идентичны. Ученые отмечают здесь аналогию; бессильные невежды, завистливые глупцы испытывают мелочную радость, полагая, что обнаружили плагиат. Это, впрочем, возможное поле деятельности и для эрудитов, применяющих сравнительный метод, и для серьезной критики. Гамлет идет за Орестом, убившим свою мать из сыновней любви. Но это простое сравнение, скорее поверхностное, чем глубокое, поражает нас меньше, чем таинственное сопоставление двух скованных: Прометея и Гамлета.
Не будем забывать о том, что человеческий дух, будучи наполовину божественным, создает время от времени сверхчеловеческие произведения. Эти сверхчеловеческие творения человека, впрочем, более многочисленны, чем мы думаем, поскольку они заполняют все искусство. Помимо поэзии, где чудеса в изобилии, есть в музыке Бетховен, в скульптуре – Фидий, в архитектуре – Пиранези, в живописи – Рембрандт, в живописи, архитектуре и скульптуре – Микеланджело. Мы не называем многих, не менее великих.
«Прометей» и «Гамлет» входят в число этих более чем человеческих творений.
Гигантский замысел, мера, превосходящая обычную, повсюду величие, приводящее в смятение посредственные умы, истинное, при необходимости показанное через невероятное; осуждение судьбы, общества, закона, религии во имя Неизвестного, во имя бездны таинственного равновесия; события, к которым относятся как к сыгранной роли и за которые упрекают Рок или Провидение; страсть, ужасный демон, не оставляющий человека в покое; отвага и иногда заносчивость разума, формы стиля, способные выразить любые крайности; и в то же время глубокая мудрость, кротость гиганта, доброта растроганного чудовища, невыразимая заря, в которой нельзя отдать себе отчет, и освещающая все; таковы признаки этих высших произведений. В некоторых поэмах сияют небесные светила.
Этот отблеск есть у Эсхила и Шекспира.
IV
Прометей, распростертый на горах Кавказа, нет ничего более устрашающего. Это гигантская трагедия. Прометея подвергают той древней казни, которую наши старинные уставы о пытках называют дыбой и которой Картуш избежал благодаря грыже4; только дыба – это гора. В чем его преступление? В его праве. Расценивать право как преступление, а движение как мятеж – это старинная уловка тиранов. Прометей сделал на Олимпе то же, что Ева в Раю; он добыл немного знаний. Юпитер, впрочем, так же, как Иегова (Jovi,[54] Jova), наказал эту дерзость – желание жить. Древние традиции, располагающие Юпитера в каком-то определенном месте, отнимают у него космическую безличность Иеговы из Книги Бытия. Греческий Юпитер, плохой сын плохого отца, восставший против Сатурна, который сам восстал против Урана, – выскочка. Титаны – это нечто вроде старшей ветви, имеющей своих приверженцев, к которым принадлежит и Эсхил, мститель за Прометея. Прометей – это побежденное право. Юпитер, как всегда, завершил узурпацию власти казнью права. Олимп требует ссылки на Кавказ. Прометея выставляют там у позорного столба. Титан повержен, опрокинут навзничь, пригвожден. Меркурий, всеобщий друг, прилетает к нему с советами, которые дают на следующий день после государственного переворота. Меркурий – это низость ума. Меркурий – это все возможные пороки, полные остроумия; Меркурий, бог порочный, служит Юпитеру, богу преступному. Сегодня отличительным признаком прислужника зла является также то глубокое почтение, которое мошенник испытывает к убийце. В прибытии дипломата вслед за завоевателем есть что-то от этого закона. Величие истинных произведений искусства в том, что они всегда проступают через деяния человечества. Прометей на Кавказе – это Польша после 1772 года, это Франция после 1815 года, это революция после брюмера. Меркурий говорит, но Прометей почти не слушает. Предложения амнистии терпят неудачу, когда лишь преданный казни имеет право прощать. Сраженный Прометей презирает Меркурия, стоящего над ним, и Юпитера, стоящего над Меркурием, и Судьбу, стоящую над Юпитером. Прометей высмеивает терзающего его грифа; он пожимает плечами, насколько позволяют его цепи; что ему за дело до Юпитера и зачем ему Меркурий? Ничто не может повлиять на эту надменную жертву. Ожоги от ударов молнии причиняют ему жгучую боль, которая постоянно взывает к его гордости. Тем временем вокруг него раздается плач, земля приходит в отчаяние, грозовые тучи, подобные женщинам, пятьдесят океанид, поклоняются титану, слышно, как кричат леса, стонут дикие звери, воют ветра, рыдают волны, жалуются стихии, весь мир страдает вместе с Прометеем, жизнь всей вселенной скована его ошейником, кажется, что отныне вся природа испытывает трагическое наслаждение, разделяя эту пытку с полубогом; к нему примешивается страх перед будущим, и что теперь делать? Куда идти? Как двигаться дальше? И что с нами будет? И во всеобъемлющем единстве всего сущего, вещей, людей, животных, растений, скал, обращенных к Кавказу, чувствуется невыразимая тоска об освободителе, закованном в цепи.
Гамлет, в меньшей степени гигант и в большей – человек, но он не менее велик.
Гамлет. Какое-то пугающее существо, совершенное в своем несовершенстве. Все, чтобы не быть ничем. Он принц и демагог, мудрый и экстравагантный, глубокий и легкомысленный, мужчина и бесполое существо. Он мало верит в скипетр, глумится над троном, дружит со студентом, беседует с прохожими, вступает в спор с первым встречным, понимает народ, презирает толпу, ненавидит принуждение, сомневается в успехе, вопрошает неясное, обращается на ты к тайне. Он заражает других болезнями, которых у него нет; его ложное помешательство внушает его возлюбленной безумие подлинное. Он на короткой ноге с призраками и актерами. Он разыгрывает из себя шута с секирой Ореста в руке. Он говорит о литературе, декламирует стихи, сочиняет театральную пьесу, играет с костями на кладбище, сражает свою мать, мстит за отца и заканчивает страшную драму своей жизни и смерти гигантским вопросительным знаком. Он приводит в ужас, затем сбивает в замешательство. Никогда не задумывали ничего более тягостного. Это убийца матери, вопрошающий: что я знаю?
Убийца матери? Остановимся на этом слове. Матереубийца ли Гамлет? И да, и нет. Он ограничивается тем, что угрожает матери; но угроза так свирепа, что мать содрогается. «Твои слова – кинжал!.. Что хочешь ты? Меня убить ты хочешь? Помогите! На помощь! Сюда!» И когда она умирает, Гамлет, не сожалея о ней, сражает Клавдия с трагическим криком: «Следуй за моей матерью!» Гамлет – мрачное явление, возможный убийца матери.
Влейте ему в вены вместо северной крови южную кровь Ореста, и он убьет свою мать.
Это суровая драма. Истинное в ней сомневается. Искреннее в ней лжет. Нет ничего шире, ничего утонченнее. В ней человек – это весь мир, а весь мир – ничто. Гамлет, даже живя полной жизнью, не уверен в своем существовании. В этой трагедии, которая в то же время еще и философия, все плывет, колеблется, откладывается, шатается, разлагается, рассеивается и расплывается, мысль – это облако, воля – пар, решимость – сумерки, действие каждое мгновение поворачивает в другую сторону, роза ветров управляет человеком. Волнующее и головокружительное произведение, в котором просматривается суть всех вещей, где для мысли не существует другого пути, кроме того, что ведет от убитого короля до погребенного Йорика, и где самое реальное – это королевская власть, представленная призраком, и веселье, воплотившееся в черепе.
Гамлет – это шедевр трагедии-сна.
V
Одна из вероятных причин притворного помешательства Гамлета до сих пор не была указана критиками. Говорили: Гамлет разыгрывал безумие, чтобы скрыть свои намерения, как Брут. Действительно, удобно вынашивать великий замысел, прикрываясь мнимым слабоумием; тот, кого считают идиотом, спокойно стремится к цели. Но случай Брута – это не случай Гамлета. Гамлет прикидывается сумасшедшим ради безопасности. Брут прикрывает свой план, Гамлет – самого себя. Принимая во внимание трагические нравы этих дворов, с того момента, как Гамлет благодаря разоблачениям призрака узнал о преступлении Клавдия, он в опасности. Здесь поэт проявляет себя как превосходный историк и чувствуется, как глубоко Шекспир проникает во мглу старых королевств. В Средние века, и при империи времен упадка, и даже раньше горе было тому, кто узнал про убийство или отравление, совершенное королем. Овидий, по предположению Вольтера, был изгнан из Рима за то, что видел в доме Августа нечто постыдное. Знать, что король – убийца, было государственным преступлением. Когда государю не хотелось иметь свидетелей, чтобы сохранить голову, нужно было ничего не знать. Иметь хорошие глаза означало быть плохим политиком. Человек, подозреваемый в подозрении, был погибшим. У него оставалось лишь одно пристанище – безумие; сойти за «простачка»; его презирали, и этим все было сказано. Вспомните совет, который у Эсхила Океан дает Прометею: «Казаться безумцем – секрет мудреца». Когда камергер Гуголин нашел железный вертел, на который Эдрик Стреона посадил Эдмунда II, «он поспешил поглупеть», говорит саксонская хроника 1016 года, и таким образом спасся. Ираклий из Нисибиса, случайно обнаружив, что Ринотмет был братоубийцей, заставил врачей объявить его умалишенным, и ему удалось добиться пожизненного заточения в монастырь5. Таким образом, он жил спокойно, старея и ожидая смерти с видом сумасшедшего. Гамлет подвергается той же опасности и прибегает к тому же средству. Он заставляет объявить себя безумным, как Ираклий, и прикидывается дурачком, как Гуголин. Что не мешает встревоженному Клавдию дважды попытаться отделаться от него: в середине драмы при помощи топора или кинжала и в финале посредством яда.
То же самое указание находится в «Короле Лире»; сын графа Глостера также спасается в мнимом безумии; и в этом содержится ключ, чтобы раскрыть и понять мысль Шекспира. С точки зрения философии искусства притворное помешательство Эдгара объясняет притворное сумасшествие Гамлета.
Амлет Бельфоре – волшебник6, Гамлет Шекспира – философ. Мы только что говорили об особой реальности, свойственной созданиям поэтов. Нет более разительного примера, чем этот тип, Гамлет. В Гамлете нет ничего от абстракции. Он учился в университете; он обладает датской дикостью, смягченной итальянской учтивостью; он невысокий, полный, немного лимфатичный; он хорошо владеет шпагой, но это быстро вызывает у него одышку. Он не хочет слишком рано пить во время поединка с Лаэртом, вероятно, боясь вспотеть. Наделив, таким образом, свой персонаж реальными жизненными чертами, поэт может бросить его в область чистого идеала. В нем достаточно материального.
Есть другие произведения человеческого ума, равные Гамлету, но ни одно не превосходит его. Все величие мрачного заключено в Гамлете. Зияющая могила, из которой выходит драма, – это колоссально. «Гамлет», по нашему мнению, – основное произведение Шекспира.
Ни один образ, среди тех, что создали поэты, не является более душераздирающим и более волнующим. Сомнение, порожденное призраком, – вот Гамлет. Гамлет видел своего умершего отца и говорил с ним; но убежден ли он? Нет, он качает головой. Что он будет делать? Он не имеет ни малейшего представления. Его руки сжимаются в кулаки, затем вновь опускаются. В нем борются предположения, системы, чудовищные вероятности, кровавые воспоминания, уважение к призраку, ненависть, умиление, страх перед действием и перед бездействием, его отец, его мать, противоречивость его долга, сильнейшая буря. Мертвенно-бледная нерешительность охватила его ум. Шекспир – величайший поэт, создающий пластические образы, он делает почти видимой грандиозную бледность этой души. Как и большую аллегорическую фигуру Альбрехта Дюрера, Гамлета можно было бы назвать «Меланхолия». У него над головой также кружит летучая мышь с распоротым брюхом, у его ног – наука, глобус, циркуль, песочные часы, амур, а за ним, на горизонте, огромное ужасное солнце, которое, кажется, делает небо чернее.
Между тем половина Гамлета – это гнев, бешенство, вспыльчивость, обида, ураган, сарказмы, обращенные к Офелии, проклятия, брошенные матери, оскорбления, наносимые самому себе. Он беседует с могильщиками, почти смеется, потом хватает за волосы Лаэрта, стоя в могиле Офелии, и яростно топчет ногами ее гроб. Он наносит удары шпагой Полонию, Лаэрту, Клавдию. Иногда его бездействие приоткрывается, и из этой дыры вырываются раскаты грома.
Его терзает эта возможная жизнь, осложненная реальностью и несбыточной мечтой, которая тревожит всех нас. Во всех его действиях чувствуется лунатизм. Можно было бы почти что рассматривать его мозг как некую формацию; там есть слой страдания, слой мысли, затем слой сновидений. Именно сквозь этот слой сновидений он чувствует, понимает, узнает, воспринимает, пьет, ест, раздражается, насмехается, плачет и рассуждает. Между ним и жизнью возведена прозрачная стена; это стена сновидения; за ней все видно, но через нее не перейти. Преграда в виде облака окружает Гамлета со всех сторон. Вы когда-нибудь испытывали во сне такой кошмар: вы бежите или спасаетесь, пытаетесь поспешить и с ужасом чувствуете, что ваши колени не гнутся, руки наливаются тяжестью, пальцы немеют и вы не в силах пошевелиться? Этот кошмар Гамлет испытывает наяву. Гамлет не там, где его жизнь. Он всегда выглядит как человек, который говорит с вами с противоположного берега реки. Он вас зовет и в то же время задает вам вопросы. Он еще на расстоянии от катастрофы, к которой он движется, от прохожего, которого он расспрашивает, от мыслей, теснящихся в нем, от действий, которые он совершает. Кажется, что он не прикасается даже к тому, что сокрушает. Это одиночество в его самом высшем проявлении. Это уединение духа изолирует его еще больше, чем высокое положение принца. И действительно, нерешительность – это одиночество. Даже ваша воля больше не с вами. Кажется, что ваше «я» ушло, и вы остались одни. Бремя Гамлета менее сурово, чем бремя Ореста, но оно более изменчиво; Орест придавлен роком, Гамлет – судьбой.
Находясь в стороне от людей, Гамлет все же заключает в себе нечто такое, что свойственно им всем. Agnosco fratrem.[55] В определенные часы, если бы мы пощупали пульс, то ощутили бы его лихорадку. В конце концов, его странная реальность также и наша. Он – тот мрачный человек, каким бываем мы все при определенном стечении обстоятельств. Каким бы болезненным он ни был, Гамлет отражает перманентное состояние человека. Он воплощает недомогание души в жизни, недостаточно подходящей для нее. Он как бы тесный башмак, который мешает ходить; башмак – это наше тело. Шекспир освобождает Гамлета от него, и хорошо делает. Гамлет-принц – да; король – никогда. Гамлет не способен управлять народом, настолько он далек от всего этого. Впрочем, он делает гораздо больше, чем царствует; он существует. Если бы у него отняли семью, страну, призрак и все эльсинорское приключение, даже и в таком освобожденном от всего состоянии, этот тип оставался бы странно пугающим. Это происходит от того, что в нем много человечности и таинственности. Гамлет грозен, что не мешает ему быть ироничным. Он двулик, как судьба.
Отречемся от слов, сказанных выше. Основное произведение Шекспира – не Гамлет. Основное произведение Шекспира – весь Шекспир. Впрочем, это справедливо для всех умов такого порядка. Они – громада, глыба, величие, Библия, и их торжество – это их единство.
Вы смотрели когда-нибудь на мыс, протянувшийся под грозовыми тучами и уходящий, насколько хватает глаз, в глубокую воду? Каждый из этих холмов составляет необходимую часть его очертаний. Ни один из этих изгибов не потерян для его размеров. Его мощный силуэт вырисовывается на фоне неба и заходит в волны так далеко, как может, и нет на нем ни одной лишней скалы. Благодаря этому мысу вы можете идти среди безграничных вод, бродить под порывами ветра, видеть вблизи, как летают орлы и плавают чудовища, блуждать среди гула вечности, постигать непостижимое. Поэт оказывает эту услугу вашему уму. Гений – это мыс в бесконечности.
VI
Рядом с «Гамлетом», и на тот же уровень, нужно поставить три грандиозные драмы: «Макбет», «Отелло» и «Король Лир».
Гамлет, Макбет, Отелло, Лир – эти четыре фигуры господствуют над высоким зданием творений Шекспира. Мы объяснили, что из себя представляет Гамлет.
Сказать: Макбет – это честолюбие, все равно что не сказать ничего. Макбет – это голод. Какой голод? Голод чудовища, всегда возможного в человеке. У некоторых душ есть зубы. Не пробуждайте в них голод.
Откусить от яблока – это опасно. Яблоко зовется Omnia,[56] говорит Фильсак, доктор Сорбонны, который исповедовал Равальяка. У Макбета есть жена, в хронике именуемая Груок. Эта Ева искушает этого Адама. Как только Макбет вкусил от запретного плода, он погиб. Первое, что создали Адам и Ева, – это Каин; первое, что сделали Макбет и Груок, – это убийство.
От вожделения легко перейти к насилию, от насилия – к преступлению, от преступления – к безумию; эта прогрессия и есть Макбет. Вожделение, Преступление, Безумие – эти три ведьмы говорили с ним наедине и манили его на трон. Его звал кот Греймалкин, значит, Макбет будет воплощением коварства; его звала жаба Пэддок7, значит, Макбет будет воплощением ужаса. Груок, это бесполое существо, добивает его. Все кончено; Макбет больше не человек. Он не более чем бессознательная энергия, свирепо стремящаяся к злу. Отныне у него не остается никакого понятия права, желание – это все. Переходное право – королевская власть, вечное право – гостеприимство, Макбет убивает как одно, так и другое. Он делает больше, чем убивает их, он их игнорирует. Прежде чем, обливаясь кровью, пасть от его руки, они покоились мертвыми в его душе. Макбет начинает с убийства Дункана, своего гостя, преступления столь страшного, что лошади Дункана вновь стали дикими в ту ночь, когда был зарезан их хозяин. Когда первый шаг сделан, начинается крушение. Это лавина. Макбет катится. Он низвергается. Он кидается от одного преступления к другому, все более низкому. Он испытывает мрачное тяготение материи, охватывающее его душу. Он – разрушитель. Он – камень руины, пламя войны, хищный зверь, бедствие. Он, как король, проходит по всей Шотландии со своими кернами с обнаженными ногами и тяжело вооруженными галлогласами8 и режет, грабит, убивает. Он истребляет танов, он убивает Банко, он убивает всех Макдуфов, кроме того, кто убьет его самого, он убивает знать, он убивает народ, он убивает родину, он «убивает сон». Наконец наступает катастрофа, выступает Бирнамский лес; Макбет пренебрег всем, все преступил, все нарушил, все разбил и эта крайность доходит до того, что пытается завоевать саму природу; природа теряет терпение, природа начинает действовать против Макбета; природа становится душой против человека, ставшего силой.
У этой драмы эпические пропорции. Макбет воплощает тот изголодавшийся кошмар, который бродит по всей истории, называясь разбойником в лесу и завоевателем на троне. Предок Макбета – это Нимрод9. Останутся ли эти люди силы навсегда безумными? Будем справедливы, нет. У них есть цель. После чего они остановятся. Дайте Александру, Киру, Сезострису, Цезарю – что? мир; и они успокоятся. Жоффруа Сент-Илер говорил мне однажды: «Когда лев наелся, он в ладу с природой». Для Камбиза, Синаххериба, Чингисхана10 и им подобных насытиться – значит обладать всей землей. Они успокоятся, переваривая род людской.
Теперь что из себя представляет Отелло? Это ночь. Огромная роковая фигура. Ночь влюблена в день. Чернота любит зарю. Африканец обожает белую женщину. Отелло без ума от Дездемоны, она для него – источник света. Вот почему ревность так легко овладевает им! Он велик, он возвышается над всеми, его сопровождают храбрость, битва, фанфары, знамена, известность, слава, он окружен ореолом двадцати побед, он подобен светилам, этот Отелло, но он – чернокожий. И как быстро под влиянием ревности герой становится чудовищем! Чернокожий становится негром. Как быстро ночь подала знак смерти!
Рядом с Отелло, воплощающим ночь, находится Яго, воплощение зла. Зло – это другая форма мрака. Ночь – это только ночь мира; зло – это ночь души. Какая же это мгла – вероломство и ложь! Текут ли в жилах чернила или предательство – это одно и то же. Каждый, кто столкнулся с ложью и клятвопреступлением, знает это; когда имеешь дело с мошенником, действуешь на ощупь. Вылейте на зарю лицемерие, вы погасите солнце. Именно это происходит с Богом благодаря ложным религиям.
Яго рядом с Отелло – это пропасть рядом со скользкой дорогой. «Сюда!» – тихонько говорит она. Ловушка дает советы слепоте. Мрачный злодей ведет чернокожего. Обман берет на себя просветление, необходимое ночи. Ложь служит ревности собакой-поводырем. Против белизны и чистоты негр Отелло и изменник Яго, что может быть ужаснее! Эти свирепые порождения мглы договариваются. Эти два воплощения церкви, одно рыча, другое ухмыляясь, замышляют трагическое удушение света.
Вникните в глубокий смысл следующего: Отелло – это ночь. Будучи ночью и желая убить, что он берет для этого? Яд? дубину? топор? нож? Нет, подушку. Убить – значит усыпить. Шекспир, быть может, сам не отдавал себе в этом отчета. Творец иногда почти безотчетно подчиняется своему типу, настолько он могуществен. Так Дездемона, супруга человека-ночи, умирает, задушенная подушкой, которая приняла ее первый поцелуй и последний вздох.
«Лир» – это торжество Корделии. Материнская любовь дочери к отцу; это глубокая тема; материнство достойное самого глубокого почитания, восхитительно передано легендой о той римлянке, которая в темнице кормила своим молоком старика отца. Молодая грудь рядом с седой бородой – нет более священного зрелища. Эта дочерняя грудь – Корделия.
Как только этот образ пригрезился ему и был найден, Шекспир создал свою драму. Куда поместить это успокаивающее видение? В мрачный век. Шекспир взял 3105 год от сотворения мира, когда Иоас был царем Иудеи, Аганипп – королем Франции, а Леир – королем Англии. Вся земля была тогда таинственной; представьте себе эту эпоху: Иерусалимский храм еще совсем новый; сады Семирамиды, разбитые девятьсот лет тому назад, начинают обрушиваться; первые золотые монеты появляются в Эгине; Фидон, тиран аргосский, изготовляет первые весы; китайцы высчитывают день первого солнечного затмения; триста двенадцать лет назад был оправдан Орест, обвиненный Эвменидами перед Ареопагом; только что умер Гесиод; Гомеру, если он еще жив, сто лет; задумчивый путешественник Ликург возвращается в Спарту, а в темных грозовых тучах на востоке замечают огненную колесницу, уносящую пророка Илию; именно в это время Леир – Лир – живет и царствует на мглистых островах. Иона, Олоферн, Дракон, Солон, Теспис, Навуходоносор, Анаксимен, который изобретет знаки зодиака, Кир, Зоровавель, Тарквиний, Пифагор, Эсхил еще не родились; Кориолан, Ксеркс, Цинциннат, Перикл, Сократ, Бренн, Аристотель, Тимолеон, Демосфен, Александр, Эпикур, Ганнибал – души, ждущие своего часа, чтобы появиться среди людей; Иуда Маккавей, Вириат, Попилий, Югурта, Митридат, Марий и Сулла, Цезарь и Помпей, Клеопатра и Антоний – в далеком будущем, и со времени, когда Лир был королем Британии и Ирландии, пройдет восемьсот девяносто пять лет, прежде чем Вергилий скажет: «Penitus toto divisos orbe britannos»[57] и девятьсот лет до тех пор, когда Сенека скажет: «Ultima Thule».[58]
Пикты и кельты – шотландцы и англичане – все с татуировками. Современный краснокожий дает лишь смутное представление об англичанах того времени. Именно эту сумрачную эпоху выбирает Шекспир; глубокая ночь, удобная для сна, в который этот выдумщик с легкостью помещает все, что ему заблагорассудится: короля Лира, короля французского, герцога Бургундского, герцога Корнуэльского, герцога Альбани, графа Кента и графа Глостера. Какое ему дело до вашей истории, если в его распоряжении человечество? Впрочем, на его стороне легенда, а это тоже наука; и она, быть может, так же правдива, как история, но с другой точки зрения. Шекспир согласен с Уолтером Мапом, оксфордским архидиаконом11, а это уже кое-что; он признает, что от Брута до Кадвалла царствовали девяносто девять кельтских королей, которые предшествовали скандинаву Хенгисту и саксонцу Хорсе; а поскольку он верит в Мульмуция, в Гинигизиля, в Цеолульфа, в Кассибелана, в Цимбелина, в Синульфа, в Арвирага, в Гидерия, в Эскуина, в Кудреда, в Вортигерна, в Артура, в Утера Пендрагона, он имеет право верить в короля Лира и создать Корделию. Когда почва выбрана, место действия указано, фундамент заложен, он берет все необходимое и строит свое произведение. Небывалое сооружение. Он берет тиранию, из которой потом сделает слабость – Лира; он берет предательство – Эдмунда; он берет преданность – Кента; он берет неблагодарность, которая начинается с ласк, и дает этому чудовищу две головы – Гонерилью, которую в легенде зовут Горнерильей, и Регану, в легенде именуемая Рагау; он берет отцовскую любовь, он берет королевскую власть, он берет феодализм, он берет честолюбие, он берет безумие, которое делит на три части и создает трех безумцев: королевского шута – безумца по ремеслу, Эдгара Глостерского – безумца из осторожности, короля – безумца от горя. А на вершине этого трагического нагромождения он помещает фигуру склонившейся Корделии.
Есть огромные башни соборов, как, например, Хиральда в Севилье, которые, кажется, целиком, со всеми своими спиралями, лестницами, скульптурами, подвалами, тупиками, воздушными кельями, гулкими сводами, колоколами, со всей своей массой и шпилями, всей своей громадой построены для того, чтобы нести ангела, раскрывающего на их вершине свои позолоченные крылья. Такова и эта драма – «Король Лир».
Отец – это предлог для создания дочери. Это восхитительное человеческое творение, Лир, служит лишь опорой для невыразимого божественного творения – Корделии. Весь этот хаос преступлений, пороков, безумия и несчастий служит основанием для великолепного появления добродетели. Шекспир, вынашивая в своих мыслях Корделию, создал эту трагедию как некий бог, который нарочно сотворил бы целый мир для того, чтобы поместить туда зарю.
А какая фигура этот отец! какая кариатида! Это согнувшийся человек. Он только и делает, что меняет бремя, все более и более тяжкое. Чем больше слабеет старик, тем тяжелее становится груз. Он живет под невыносимой тяжестью. Сначала он несет на себе империю, затем неблагодарность, затем одиночество, затем отчаяние, затем голод и жажду, затем безумие, затем всю природу. Грозовые тучи сгущаются над его головой, леса удручают его своей тенью, ураган обрушивается на его затылок, гроза делает его плащ тяжелым, как свинец; дождь льется ему на плечи, он идет, согнувшийся и растерянный, как будто ночь навалилась на него. Потерявший голову и величественный, он яростно кричит ветру и граду: «За что вы ненавидите меня, бури? За что вы преследуете меня? Вы ведь не мои дочери!» И тогда все заканчивается, свет меркнет, разум отчаивается и уходит, Лир впадает в детство. Ах, он – ребенок, этот старик. Ну что ж! Ему нужна мать. И появляется его дочь. Его единственная дочь, Корделия. Потому что две другие, Регана и Гонерилья, остались его дочерьми лишь настолько, насколько это необходимо, чтобы иметь право называться отцеубийцами.
Корделия приближается. «Вы узнаете меня, государь?» – «Я знаю, ты дух», – отвечает старик с божественной прозорливостью заблуждения. И с этого момента начинается восхитительное кормление грудью. Корделия принимается питать эту старую отчаявшуюся душу, которая умирала от истощения среди ненависти. Корделия питает Лира любовью, и возвращается его мужество; она питает его уважением, и возвращается его улыбка; она питает его надеждой, и возвращается его доверие; она питает его мудростью, и возвращается его рассудок. Лир выздоравливает, крепнет и постепенно возвращается к жизни. Ребенок вновь становится старцем, старец превращается в мужчину. И вот этот несчастный вновь обретает счастье. Но на этот расцвет обрушивается катастрофа. Увы! Есть предатели, есть клятвопреступники, есть убийцы. Корделия умирает. Нет ничего более душераздирающего. Старик ужасается, он ничего не понимает и, обнимая этот труп, испускает дух. Он умирает рядом с умершей. Он избавлен от высшего отчаяния – остаться без нее среди живых, жалкой тенью, ощупывающей место, где бьется его опустевшее сердце, и ища свою душу, унесенную этим нежным созданием, которое ушло навсегда. О Боже, ты не позволяешь тем, кого любишь, пережить близких.
Жить после того, как ангел улетел, быть отцом-сиротой своего ребенка, быть глазом, у которого больше нет света, быть несчастным сердцем, для которого нет больше радости, простирать иногда руки во мглу и пытаться вновь схватить кого-то, кто был тут, – где же она? – чувствовать себя забытым тем, кто ушел, терять рассудок при мысли, что ты не умер, бродить отныне вокруг гробницы, которая не принимает и не впускает тебя; это мрачная участь. Ты хорошо сделал, поэт, что убил этого старца.
Из книги «До изгнания»
Свобода печати
С 24 февраля 1848 года газеты были освобождены от гербового сбора.
В надежде истребить при помощи налогового законодательства республиканскую прессу, г-н Луи Бонапарт представил на рассмотрение ассамблеи фискальный закон, вновь вводящий гербовый сбор для периодических изданий.
Сердечное согласие, закрепленное законом от 31 мая1, установилось между президентом республики и большинством законодателей. Комиссия, назначенная правыми, полностью одобрила предложенный закон.
Под видом простого налогового постановления проект поднял важный вопрос свободы печати.
Это время, когда г-н Руе говорил: февральская катастрофа. (Примечание издателя.)
9 июня 1850 г.
Господа, хотя 31 мая было совершено покушение на основные принципы, лежащие в основе любой демократии вообще и великой французской демократии в частности, но поскольку будущее никогда не бывает закрыто, всегда есть время воззвать к законодательному собранию. Вот в чем, по моему мнению, состоят эти принципы.
Суверенитет народа, всеобщее избирательное право, свобода печати – три тождественных элемента, или, лучше сказать, один и тот же элемент под тремя различными названиями. Они составляют все наше общественное право; первое из них – это его моральные устои, второе – возможность его осуществления, третье – способ его выразить. Суверенитет народа – это нация в ее абстрактном выражении, это душа страны. Он проявляется в двух формах; с одной стороны он пишет, это свобода печати; с другой он голосует, это всеобщее избирательное право.
Эти три идеи, эти три истины, эти три принципа, неразрывно связанные между собой, исполняют каждый свою функцию. Живительный суверенитет народов, правящее всеобщее избирательное право, просвещающая печать, сливаются в тесное и неразрывное единство, и это республика.
Посмотрите, как сочетаются все эти принципы, поскольку у них одна и та же отправная точка, их конечная цель непременно также будет общей! Суверенитет народа порождает свободу, всеобщее избирательное право порождает равенство, печать, которая просвещает умы, порождает братство. Повсюду, где существуют во всей полноте своего могущества эти три принципа – суверенитет народов, всеобщее избирательное право, свобода печати, – существует республика, даже если она называется монархией. Там, где ограничено развитие, скованы действия, не признана солидарность, оспаривается величие этих трех принципов, существует монархия или олигархия, даже если она называется республикой.
И когда нарушается порядок вещей, можно видеть, как этому чудовищному правительству выказывают пренебрежение его собственные чиновники. А ведь всего лишь шаг отделяет пренебрежение от предательства.
И тогда самые твердые сердца начинают сомневаться в революциях, в этих великих стихийных событиях, которые выводят из мрака одновременно столь возвышенные идеи и столь ничтожных людей (аплодисменты), в революциях, которые мы провозглашаем благодеянием, осознавая их принципы, но которые, безусловно, можно назвать катастрофами, когда мы видим, какими руками они делаются! (Возгласы одобрения.)
Я возвращаюсь, господа, к тому, о чем говорил.
Мы, законодатели, должны быть осторожными и никогда не забывать, что эти три принципа – суверенный народ, всеобщее избирательное право и свободная печать – живут общей жизнью. Посмотрите, как они защищают друг друга! Если свобода печати в опасности, всеобщее избирательное право поднимается на ее защиту. Когда всеобщее избирательное право оказывается под угрозой, печать спешит к нему на помощь. Господа, любое посягательство на свободу печати, на всеобщее избирательное право являются покушением на народный суверенитет. Искалеченная свобода – это парализованный суверенитет. Суверенитета народа не существует, если он не может действовать и говорить. Итак, препятствовать всеобщему избирательному праву означает отнять у него свободу действий; препятствовать свободе печати, означает отнять у него возможность высказываться.
Так вот, господа, первая половина этой ужасной затеи (движение в зале) была осуществлена 31 мая. Сегодня хотят закончить начатое. Такова цель предлагаемого закона. Против суверенитета народа начат судебный процесс, который идет своим чередом и который непременно хотят довести до конца. (Возгласы «Да! да! это так!».) И я со своей стороны не могу не предупредить об этом ассамблею.
Признаюсь, господа, в какой-то момент я думал, что кабинет откажется от этого закона.
Мне действительно казалось, что свобода печати уже вся целиком была отдана правительству. При помощи юриспруденции оно получило против мысли весь арсенал, правда, крайне неконституционного, но совершенно законного оружия. Чего еще можно пожелать? Не схватили ли полицейские за шиворот свободу печати вместе с газетчиками? Не травили вместе с уличными торговцами и расклейщиками афиш? Не штрафовали вместе и не подвергли преследованиям вместе с книготорговцами? Не изгоняли вместе с типографщиками? Не заключали в тюрьму вместе с редакторами? Ей недостает только одного, и, к сожалению, наш неверующий век отказывает себе в такого рода полезных зрелищах, это быть сожженной заживо, в общественном месте, на добром ортодоксальном костре, вместе с писателем. (Движение в зале.)
Но это могло бы произойти. (Одобрительный смех слева.)
Посмотрите, господа, до чего мы дошли, и как это было хорошо устроено! Из разумного закона о типографских патентах соорудили стену между журналистом и типографщиком. Пишите для вашей газеты, пожалуйста; ее не напечатают. Из полезного при правильной интерпретации закона о торговле печатными изданиями вразнос выстроили стену между газетой и публикой. Печатайте вашу газету сколько угодно; она не дойдет до читателя. (Возгласы «Очень хорошо!».)
И печати, оказавшейся между этими двумя стенами, за этой двойной оградой, сооруженной вокруг мысли, говорят: «Ты свободна!» (Смех в зале.) Что прибавляет к удовлетворению произвола радость иронии. (Снова смех в зале.)
Какой восхитительный, в частности, этот закон о типографских патентах! Настойчивые люди, которые непременно хотят, чтобы в конституциях содержался смысл, чтобы они приносили плоды и чтобы в них была какая-то логика, эти люди воображали, что закон 1814 года2 был отменен 8-й статьей конституции, провозглашавшей или делавшей вид, что она провозглашает свободу печати. Они говорили себе вместе с Бенжаменом Констаном, г-ном Эзебом Сальвертом, г-ном Фирменом Дидо и уважаемым г-ном дё Траси3, что этот закон о патентах отныне лишен смысла, что свобода писать – это свобода печатать, или ничто; что, освобождая мысль, дух прогресса непременно в то же время освобождал все материальные средства, которые она использует, чернильницу в кабинете писателя, машину в типографии; что без этого так называемая свобода мысли была бы просто насмешкой. Они говорили себе, что свобода распространяется на все способы привести чернила в контакт с бумагой; что перо и печатный станок – это одно и то же, что, в конце концов, печатный станок – это перо, поднятое на высшую ступень своего могущества; они говорили себе, что мысль была создана Богом, чтобы выйти из человеческого сознания, и что печатный станок всего лишь дает ей тот миллион крыльев, о котором говорит Священное Писание. Бог создал ее орлом, Гутенберг сделал ее легионом. (Аплодисменты.) Что если это несчастье, нужно с ним смириться; ибо в девятнадцатом веке человеческое общество может дышать только воздухом свободы. Они, эти упрямые люди, говорили себе, наконец, что в то время, которое должно быть эпохой всеобщего образования для граждан действительно свободной страны, – при единственном условии, что его произведение будет оригинальным, – иметь мысли в голове, перо на столе, печатный станок в своем доме, это три идентичных права; что отрицать одно – значит отрицать два других; что, вероятно, все права осуществляются при условии, что они сообразовываются с законами, но что законы должны быть хранителями, а не тюремщиками свободы. (Живое одобрение слева.)
Вот что говорили себе люди, имеющие слабость пристраститься к принципам и требующие, чтобы институты страны были логичными и правильными. Но если подумать о законах, за которые вы голосуете, я боюсь, как бы истина не стала демагогией, а логика не оказалась в опасном положении (смех), и как бы это не оказались взгляды и речи анархистов и мятежников.
Посмотрите на противоположную систему! Как тут все взаимосвязано, убедительно, внутренне логично! Как хорош – я настаиваю на этом – закон о типографских патентах, когда он понимается так, как его понимают, и применяется так, как его применяют сейчас! Как прекрасно провозглашать в одно и то же время свободу рабочего и рабство орудия труда, сказать: перо принадлежит писателю, но чернильница – полиции; печать свободна, но типографский станок в рабстве!
А какие прекрасные результаты дает этот закон на практике! Какая феноменальная справедливость! Судите сами. Вот пример:
Год тому назад, 13 июня, была разгромлена одна типография. (Внимание в зале.) Кем? Я сейчас не провожу следствие, я стараюсь скорее смягчить факты, чем усугублять их; таких типографий было две, но я ограничусь одной. Итак, типография была разгромлена, опустошена, разрушена снизу доверху.
Комиссия, назначенная правительством, членом которой был ваш покорный слуга, проверяет факты, выслушивает отчеты экспертов, заявляет, что необходимо возместить ущерб, и предлагает, если я не ошибаюсь, выплатить этой типографии сумму в 75 000 франков. Решение заставляет себя ждать. Спустя год пострадавший печатник получает наконец письмо от министра. Что содержится в этом письме? Извещение о возмещении убытков? Нет, извещение о том, что его патент отозван. (Сильное волнение в зале.)
Полюбуйтесь, господа! Какие-то буйные негодяи учиняют погром в типографии. В виде компенсации правительство разоряет типографщика. (Новое движение в зале. В этот момент оратор прерывает речь. Он очень бледен и кажется больным. Ему кричат со всех сторон: «Отдохните!» Г-н де Ларошжаклен передает ему флакон. Оратор подносит его к лицу и через несколько мгновений продолжает.)
Не чудесно ли все это? Не использует ли власть все средства воздействия для устрашения? Не исчерпали ли произвол и тирания весь свой арсенал, или у них осталось еще что-то сверх этого?
Да, был еще этот закон.
Господа, я признаю, мне трудно говорить хладнокровно об этом проекте закона. Я всего лишь человек, привыкший с самого рождения чтить священную свободу мысли, и когда я читаю этот неслыханный законопроект, мне кажется, что я вижу, как наносят удар моей матери. (Движение в зале.)
Однако я попробую хладнокровно проанализировать этот закон.
Этот проект, господа, характерен тем, что он пытается со всех сторон чинить препятствия мысли. Он налагает на политическую прессу, помимо обычных издержек, издержки нового рода, зависящие от случая, произвольные, деспотичные (смех и крики «Браво!»), которые по прихоти государственного министерства можно будет довести до чудовищных сумм, подлежащих оплате в течение трех дней. Наперекор всем правилам уголовного права, в основе которых всегда лежит презумпция невиновности, этот закон исходит из презумпции вины и заранее обрекает на разорение газету, которой еще не вынесен приговор. В тот момент, когда обвиняемое издание переходит из следственной камеры в зал заседаний суда, ее душит между двумя дверями установленный особым определением залог. (Сильнейшее волнение в зале.) Затем, когда газета мертва, он кидает ее присяжным и говорит им: «Судите ее!» (Возгласы «Очень хорошо!».)
Этот проект покровительствует одной части прессы в ущерб другой и цинично дает в руки закона две гири и две меры.
Вне политики этот проект делает то, что может, чтобы уменьшить славу и блеск Франции. Он добавляет к уже имеющимся неисчислимым трудностям, которые мешают рождению и развитию талантов во Франции, новые – материальные, денежные. Если бы Паскаль, Лафонтен, Монтескье, Вольтер, Дидро, Жан-Жак были живы, он подверг бы их гербовому сбору. Нет ни одной выдающейся страницы, которая не была бы запятнана налоговым штемпелем. Какой стыд, господа, этот проект! он позволяет налоговым органам наложить свои грязные когти на литературу! на прекрасные книги! на шедевры! О, эти прекрасные книги, в прошлом веке палач жег их на костре, но он их не пятнал. От них оставался только пепел, но ветер уносил этот бессмертный прах со ступеней Дворца правосудия и бросал в души людей, как семена жизни и свободы! (Продолжительное движение в зале.)
Отныне книги больше не будут сжигать, их будут клеймить. Но пойдем дальше.
Под угрозой безумных штрафов, штрафов, размеры которых по подсчетам самой Journal des Dbats могут варьироваться от 2 500 000 до 10 000 000 франков за одно-единственное нарушение (яростные протесты на скамьях комиссии и министров); я повторяю, это подсчеты, сделанные Journal des Dbats, которые вы можете найти в петиции книгоиздателей, и вот они, эти подсчеты. (Оратор показывает бумагу, которую держит в руке.) Это невероятно, но это так! Под угрозой этих непомерных штрафов (новые протесты на скамье комиссии, возгласы «Вы клевещете на закон!») этот проект облагает гербовым сбором любое публикуемое издание, выходящее отдельным изданием, каким бы оно ни было, какое бы это ни было произведение, какого бы то ни было автора, вне зависимости от того, жив он или умер; другими словами, он убивает книгоиздателей. Я уточню, он не только убивает книжное дело во Франции, как следствие, он обогащает книготорговлю в Бельгии. Он выбрасывает на мостовую наших типографщиков, наших книгоиздателей, наших шрифтолитейщиков и бумагоделателей, он разрушает наши мастерские, наши мануфактуры, наши заводы; но он делает и обратное; он отнимает хлеб у наших рабочих и бросает его рабочим иностранным. (Сильнейшее волнение в зале.)
Я продолжаю.
Этот проект со злорадством облагает гербовым сбором все театральные пьесы без исключения, Корнеля так же, как Мольера. Он мстит Полиевкту за Тартюфа4. (Смех и аплодисменты.)
Да, обратите внимание, я настаиваю на этом, он не менее враждебен к литературным произведениям, чем к газетной публицистике, и именно в этом он несет печать клерикального закона. Он преследует театр так же, как газету, и он хочет разбить в руках Бомарше зеркало, в котором Базиль5 узнал себя. (Крики «Браво!» слева.)
Я продолжаю.
Он столь же неуместен, сколь и вреден. Он только в Париже уничтожает одним ударом около трех сотен безопасных и полезных периодических изданий, которые побуждают ум к ясным и спокойным знаниям. (Возгласы «Это правда! Это правда!».)
Наконец, в довершение всех этих ущемляющих цивилизацию актов, он делает невозможным существование столь популярного вида изданий, как брошюры, которые являются доступным хлебом для ума. (Возгласы слева «Браво!». – Справа «Нет больше брошюр! тем лучше! тем лучше!».)
Зато он дает привилегию на распространение печатных изданий этой презренной кучке ультрамонтанов6, во власть которых отныне отдано народное образование. (Возгласы «Да! да!».) Монтескье будут чинить препятствия, но отец Лорике будет свободен.
Господа, ненависть к уму, вот сущностьэтого проекта. Он сжимается, как рука рассерженного ребенка, на чем? На мысли публициста, философа, поэта, на духе Франции. (Возгласы «Браво! браво!».)
Вот почему пресса и мысль, угнетенные во всех формах, преследуемая газета, гонимая книга, вызывающие подозрение театр, литература, таланты, перо, раздавленное в пальцах писателя, уничтоженное книжное дело, десять – двенадцать разрушенных великих национальных индустрий, Франция, принесенная в жертву загранице, поощряемая бельгийская контрафакция, хлеб, отобранный у рабочих, книга, отобранная у интеллигенции, привилегия чтения, проданная богатым и отнятая у бедных (движение в зале), гасильник, помещенный на все народные факелы, арестованное имущество, – какое кощунство! – на пути их восхождения к свету, попранная справедливость, суд присяжных, упраздненный и замененный следственными камерами, конфискация, восстановленная благодаря непомерным штрафам, приговор и расправа прежде суда – вот этот проект! (Длительные возгласы одобрения.)
Я его не оцениваю, я лишь излагаю его суть. Но если бы мне надо было его охарактеризовать, я бы сделал это одним словом: это единственный возможный сегодня средневековый костер. (Движение в зале. – Протесты справа.)
Господа, после того, как свободная печать в течение тридцати пяти лет образовывала страну; тогда как блестящий пример Соединенных Штатов, Англии и Бельгии наглядно доказал, что свобода печати – это одновременно самый очевидный признак и самый достоверный элемент социального мира; после тридцати пяти лет, говорю я, обладания свободой печати; после трех веков интеллектуального и литературного всемогущества, вот до чего мы дошли! Я не нахожу слов, этот проект закона превосходит все измышления Реставрации; по сравнению с ним законы цензуры – это само милосердие, а Закон о любви и справедливости7 – само благодеяние, я требую, чтобы г-ну де Пейронне воздвигли памятник! (Смех и крики «Браво!» слева. – Ропот справа.)
Не создайте себе неверное представление! Это не оскорбление, это похвала. Г-на дё Пейронне оставили далеко позади те, кто подписал его приговор, так же как г-на Гизо сильно превзошли те, кто привлёк его к суду8. (Возгласы слева «Да, это правда!».) Г-н де Пейронне, находись он в этих стенах, я воздаю ему справедливость и ничуть в этом не сомневаюсь, с возмущением голосовал бы против этого закона, а что касается г-на Гизо, чей огромный талант почтят все члены собрания, если когда-нибудь он окажется среди них, я надеюсь, это он положит на трибуну обвинительный акт против г-на Бароша (Длительное одобрение в зале.)