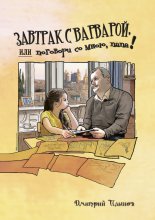Что я видел. Эссе и памфлеты Гюго Виктор
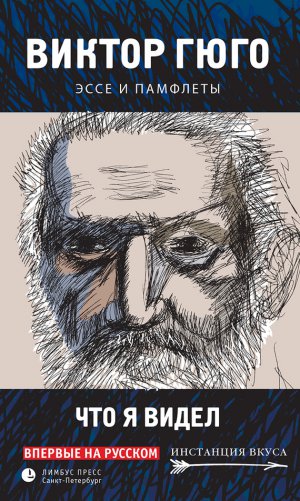
Да, будем снисходительны. Если и были у многих из нас какие-то испытания, более или менее длительная буря, брызги пены на подводных камнях, немного падения, немного изгнания, что за важность, если все заканчивается хорошо для тебя, Франция, для тебя, народ! Какая разница, что увеличиваются страдания некоторых, если уменьшаются страдания всех! Изгнание сурово, клевета зла, жизнь вдали от отечества подобна мрачной бессоннице, ну так что же, если человечество растет и освобождается! Какое значение имеют наши горести, если вопросы решаются, проблемы упрощаются, решения созревают, если сквозь просвет лжи и иллюзий все более и более ясно можно разглядеть истину! Какое значение имеют девятнадцать лет холодной зимы за границей, тяжелая разлука, если перед лицом врага очаровательный Париж становится величественным, если величие великой нации возрастает благодаря несчастьям, если искалеченная Франция дает жизнь всему миру! Не все ли равно, если у этой калеки вновь отрастают ногти и наступает время восстановления! Что за важность, если в ближайшем, уже различимом будущем каждая народность обретет свой естественный облик: Россия до Индии, Германия до Дуная, Италия до Альп, Франция до Рейна, Испания получит Гибралтар, а Куба – Кубу; необходимые поправки для бесконечной будущей дружбы народов! Это все, чего мы хотим. И мы это получим.
У каждой цивилизации есть критические этапы, которые нужно преодолеть, не все ли равно, что мы устали, если вокруг бушует ураган! И что из того, что мы были несчастны, если это ради блага, если определенно род людской переходит от декабря к апрелю, если зима деспотизма и войн закончена, если не идет больше снег суеверий и предрассудков и если после исчезновения всех туч феодализма, монархии, империи, тирании, битв и резни мы видим наконец, как на горизонте занимается этот ослепительный флореаль народов29, мир во всем мире!
X
Все, что мы говорим здесь, сказано лишь с одной целью: утвердить будущее, насколько это возможно.
Предвидеть – почти то же самое, что блуждать в поисках правды; слишком отдаленная истина вызывает улыбку.
Утверждение, что у яйца есть крылья, кажется абсурдным, тем не менее это так.
Мыслитель старается размышлять с пользой.
Есть бесплодные размышления, и это мечты, и есть размышления плодотворные, которые должны созреть. Настоящий мыслитель вынашивает свои идеи.
И таким образом в нужное время созревают различные формы прогресса, предназначенные воплотиться в великих человеческих возможностях, в реальности. В жизни.
Есть ли у прогресса предел?
Нет.
Не надо называть смерть бесполезной. Человек будет совершенен только после жизни.
Всегда приближаться и никогда не достигать – таков закон. Цивилизация – это приближение.
Все формы прогресса – это революция.
В революции наши дела, мысли, слова. Она в наших устах, сердцах, душе.
Революция – это новое дыхание человечества.
Революция была, есть и будет.
Отсюда необходимость и невозможность сделать из нее историю.
Почему?
Потому что необходимо рассказывать вчера и невозможно рассказать завтра.
Из нее невозможно сделать выводы и ее подготовить. Это лишь то, что мы стараемся сделать.
Будем упорно добиваться безграничной революции, это никогда не будет бесполезным.
XI
Революция прельщает все сильные умы: такие, как Ламартин, приближаются к ней, чтобы ее изобразить, как Мишле – чтобы объяснить, как Кине – чтобы судить, и как Луи Блан – чтобы сделать ее плодотворной30.
Ни у одного человеческого деяния не было лучших рассказчиков, и все же историки всегда будут возвращаться к нему.
Почему? Потому что все остальные истории принадлежат прошлому, история революции принадлежит будущему. Революция заранее открыла великий Ханаан человечества, в том, что она нам принесла, больше от Земли обетованной, чем от земли завоеванной, и по мере того, как одно из этих совершенных заранее завоеваний станет человеческой собственностью, одно из этих обещаний сбудется, раскроется новый аспект революции, и ее история возобновится. Современные истории не будут от этого менее окончательными, каждая со своей точки зрения, нынешние историки будут даже преобладать над историками будущего, как Моисей над Кювье, но их работы проникнут в будущее и станут частью завершенного ансамбля. Когда этот ансамбль будет завершен? Когда процесс будет окончен, то есть когда французская революция станет, как мы указали на первых страницах данного труда, сначала революцией европейской, а затем человеческой; когда утопия утвердится в прогрессе, когда набросок станет шедевром; когда на смену братоубийственной коалиции королей придет братская федерация народов, а война против всех сменится на мир для всех. Невозможно, даже если позволить себе помечтать, завершить сегодня то, что будет завершено только завтра, и завершить историю незавершенного деяния, особенно когда это деяние содержит такое разнообразие будущих событий. Несоразмерность между историей и историком слишком велика.
Нет ничего более грандиозного. Целое ускользает. Посмотрите на то, что уже позади нас. Террор – это кратер, Конвент – вершина. Все будущее заключено в этих глубинах. Неожиданно крутой спуск приводит в смятение художника. Слишком широкие линии перекрывают горизонт. Человеческий взгляд ограничен, промысел Божий не имеет границ. В этой картине, которую надо написать, вы ограничитесь одним-единственным персонажем, берите кого хотите, то, в чем вы почувствуете бесконечность. Другие горизонты менее несоразмерны. Так, например, в данный момент истории с одной стороны находится Тиберий, с другой – Иисус. Но в тот день, когда Тиберий и Иисус соединились бы в одном человеке и стали бы грозным существом, обагряющим кровью землю и спасающим мир, сам римский историк содрогнулся бы, – Робеспьер привел бы в замешательство Тацита. Порой люди опасаются, что их заставят принять смешанный моральный закон, который кажется освобожденным от всего неизвестного. Ни одно другое явление не сравнится по размерам с нашим. Высота его невероятна и ускользает из вида. Каким бы великим ни был историк, эта необъятность превышает его возможности. Французская революция, рассказанная человеком, – это вулкан, объясненный муравьем.
XII
Что сказать в заключение? Только одно. Поможем друг другу, пока бушует этот сильнейший ураган.
Мы все в опасности, если не протянем друг другу руки.
Помиримся же, братья мои.
Вступим на бесконечный путь успокоения. Довольно ненависти. Заключим перемирие. Да, протянем все друг другу руки. Пусть великие имеют сострадание к малым, и пусть малые простят великих. Когда же мы наконец поймем, что мы все на одном корабле и что перед лицом кораблекрушения все равны? Это море, которое угрожает нам, достаточно велико для всех, бездна поглотит вас так же, как и меня. Я уже говорил это в другом месте и повторяю вновь. Спасать других – значит спасать самих себя. Круговая порука ужасна, но братство приятно. Одно порождает другое. О, братья мои, будем братьями!
Хотим ли мы положить конец нашим несчастьям? Откажемся от гнева. Помиримся. Вы увидите, как прекрасна будет эта улыбка.
Отправим в дальнее изгнание возврат к прошлому, вернем мужей женам, работников в их мастерские, семьи к их очагам, вернем друг другу тех, кто был нашими врагами. Не настало ли время полюбить друг друга? Вы хотите, чтобы все не началось с начала? Заканчивайте. Закончить значит простить. Строго наказывая, мы не даем возможности забыть. Тот, кто убивает своего врага, порождает ненависть. Есть только один способ покончить с побежденными – простить их. Гражданские войны открываются всеми дверьми, а закрываются только одной – милосердием. Амнистия – самая эффективная из репрессий. О, плачущие женщины, я хотел бы вернуть вам ваших детей.
Ах! Я думаю об изгнанных. Порой у меня сжимается сердце. Я размышляю о бедствиях страны. Часть из них выпала на мою долю. Знаете ли, какой непроглядной ночью оборачивается ностальгия? Я представляю себе мрачную душу двадцатилетнего ребенка, который едва знает, чего общество хочет от него, который неизвестно за что, за газетную статью, за безрассудную страницу, написанную сгоряча, подвергается этому чрезмерному наказанию, вечному изгнанию и который после дня каторги, когда наступают сумерки, садится на суровые прибрежные скалы, подавленный необъятностью гражданской войны и безмятежностью звезд! Это ужасно – вечер и океан в пяти тысячах лье от своей матери!
Ах! Простим!
Этот крик наших душ не только трогательный, он разумный. Доброта – не только доброта, это еще и ловкость. Зачем отягощать будущее местью, плачем и мрачными последствиями злобы! Пойдите в лес, послушайте эхо и подумайте о репрессиях; этот неясный отдаленный голос, который отвечает вам, – это ваш гнев, который обратится против вас. Осторожно! Будущее вернет вам ваш гнев. Посмотрите на колыбели, не омрачайте им жизнь, которая их ждет. Если мы не имеем сострадания к чужим детям, пожалеем наших собственных. Успокоения! Успокоения! Увы! Услышат ли нас?
Все равно! Будем настаивать на своем, мы хотим, чтобы обещали, а не угрожали, исцеляли, а не калечили, жили, а не умирали. Великие высшие законы с нами. Существует глубокое соответствие между светом, который идет к нам от солнца, и милосердием, идущим от Бога. Наступит час всеобщего братства, как наступает полдень. О, сострадание, не теряй мужества! Что касается меня, я не устану без конца говорить и писать то, что написал во всех моих книгах, что подтвердил всеми своими делами, что говорил всем моим слушателям с трибуны Палаты пэров и на кладбище изгнанников, в Национальном собрании Франции и на разбитом камнями окне на площади Баррикад в Брюсселе31: нужно любить друг друга. Любить друг друга, любить друг друга! У счастливых должны быть несчастные для несчастий. Общественный эгоизм – это начало конца. Если мы хотим жить, соединим наши сердца и станем огромным родом человеческим. Пойдем вперед, потащим за собой назад. Материальное благополучие – это не моральное блаженство, глухота – не выздоровление, забвение – не вознаграждение. Будем помогать, защищать, признаем общественную ошибку и исправим ее. Все, что страдает, – обвиняет, все, что плачет в индивидууме, – кровоточит в обществе, никто не одинок, все живые волокна колеблются вместе и переплетаются, малые должны быть священны для великих, долг всех сильных состоит в защите прав всех слабых. Я сказал.
Париж, июнь 1875 г.
Польша
При обсуждении закона о тайных расходах месье де Монталамбер выступил в защиту Польши и призвал правительство отказаться от его эгоистической политики. Месье Гизо ответил, что королевское правительство настаивало и будет настаивать на двух правилах поведения, которые оно для себя определило: невмешательство в дела Польши; помощь и предоставление убежища несчастным полякам. «Оппозиция, – говорил месье Гизо, – может выражаться так, как ей нравится; ничего не делая, ничего не предлагая, она придает своим упрекам всю горечь, своим надеждам всю широту, какую пожелает. Поверьте, сколько же, и я лишь из уважения не говорю намного больше, морали, достоинства, подлинного милосердия даже по отношению к полякам, в том, чтобы обещать и говорить лишь то, что действительно делается». В общем и целом, месье Гизо счел данную дискуссию бесполезной, полагая, что обсуждение прав Польши и мнение Франции по этому вопросу не могут быть сколько-нибудь эффективными для восстановления польской нации. Французское правительство, по мнению месье Гизо, должно было исполнить свой долг, сохраняя нейтралитет, ради законных интересов своей страны; таковы были чувства, зародившиеся в его душе. Князь де ля Москова1 ответил месье Гизо. Вслед за ним на трибуну поднялся месье Виктор Гюго. Эта первая политическая речь, произнесенная Виктором Гюго, была принята весьма прохладно. (Прим. издателя.)
19 марта 1846 г.
Господа!
Буду краток. Я уступил непреодолимому желанию подняться на эту трибуну.
Вопрос, обсуждаемый сегодня перед этим благородным собранием, необычен, он выходит за рамки привычных политических вопросов; он объединяет в единое целое самых ярых инакомыслящих, самые противоположные мнения, и, можно, не боясь соврать, сказать, что никому здесь не чужды благородное волнение и глубокое сопереживание.
Откуда проистекает это единое чувство? Не ощущаете ли вы некое величие этого вопроса? Деяния, которые мы наблюдаем в одном из уголков Европы, компрометируют и оскорбляют саму цивилизацию. Я не хочу давать им оценку, я не буду бередить открытую кровоточащую рану. Однако я громко заявляю, что европейской цивилизации будет нанесен серьезный удар, если не возникнет никаких протестов против поведения австрийского правительства по отношению к Галиции2.
Из всех наций лишь две на протяжении четырех столетий играли в европейской цивилизации беспристрастную и бескорыстную роль; это Франция и Польша. Заметьте, господа: Франция рассеивала мрак невежества, Польша отражала атаки варварства; Франция распространяла идеи, Польша охраняла границу. Французский народ был миссионером цивилизации в Европе; польский народ был ее рыцарем.
Если бы польский народ не выполнил свою задачу, французский народ не смог бы выполнить свою. В тот день и час, когда Польша оказалась перед лицом вторжения варварства, у нее был Собеский, так же, как у Греции был Леонид3.
Это факты, господа, которые не могут быть стерты из памяти народов. Когда один народ работает для других народов, это то же самое, как когда один человек работает на других людей, все вокруг испытывают к нему признательность и симпатию, его прославляют, если он могуществен, и уважают, если он несчастен, и если для народа, для которого эгоизм никогда не был законом, который всегда прислушивался лишь к своему великодушию, и благородные и могущественные инстинкты которого призывали его на защиту цивилизации, наступают трудные времена, когда он становится малым народом, он все равно остается великой нацией.
Это, господа, судьба Польши. Но Польша, господа пэры, по-прежнему велика, она велика благодаря симпатии Франции и уважению Европы! Почему? Потому что она служила европейскому сообществу, потому что однажды она оказала всей Европе такие услуги, которые не забываются.
Вот почему, когда восемьдесят лет назад эта нация была вычеркнута из числа наций, мучительное чувство, чувство глубокого уважения проявилось во всей Европе.
В 1773 году Польша была приговорена4. Прошло восемьдесят лет, но до сих пор восстановление прав и статуса народа все еще не завершено! Фридрих II терзался угрызениями совести из-за распада Польши, Наполеон сожалел о том, что она не была восстановлена.
Я повторяю, когда одна нация оказывает группе других наций столь неоценимые услуги, она не может просто исчезнуть; она живет, она остается живой навсегда! Угнетенной или счастливой, ей симпатизируют; она находит симпатию всякий раз, когда поднимается.
Безусловно, я мог бы почти избавить себя от труда говорить это, я не из тех, кто вызывает конфликты властей и народные потрясения. Писатели, художники, поэты, философы – люди мирные. Мир делает плодотворными идеи и интересы. Вот уже тридцать лет мир в Европе предоставляет нам великолепное зрелище глубокого единения наций во всемирной индустрии, науке и мысли. Эта работа – сама цивилизация.
Я счастлив, что моя страна является частью этого плодотворного мира; я счастлив, что она свободна и благополучна под властью выдающегося короля, который посвятил себя ей; но я также горжусь тем, что ее охватывает благородный трепет, когда совершается насилие над человечеством, когда в какой-то точке земного шара угнетается свобода; я горд видеть, как среди мира в Европе моя страна занимает ясную и грозную позицию, ясную, потому что она надеется, грозную, потому что она помнит.
Сегодня я взял слово, потому что, как вы все, чувствую благородное содрогание Франции; потому что Польша никогда не должна тщетно взывать к Франции; потому что чувствую, что цивилизация оскорблена недавними действиями австрийского правительства. Крестьянам в Галиции не заплатили, по крайней мере, они это отрицают; но их определенно спровоцировали и поощрили5. Добавлю, что это гибельно. Какая неосмотрительность! скрываться от политической революции в революции социальной! Опасаться мятежников и создавать бандитов!
Что теперь делать? Вот вопрос, который порождают сами факты и который задают со всех сторон. Господа пэры, у этой трибуны есть только один долг. И я должен его исполнить. Я не сомневаюсь в том, что, если бы она хранила молчание, г-н министр иностранных дел, этот великий ум, первым сожалел бы об этом.
Господа, могущество великой нации состоит не только из ее флота, армии, мудрости законов и протяженности территории. Помимо всего этого, оно состоит из ее морального воздействия, авторитета, ее здравого смысла и познаний, ее влияния среди просветительских наций.
Итак, господа, вас не просят ввергать Францию в пучину невозможного и неизвестного; у Франции просят не ее флот, не континентальную и военную мощь, а моральный авторитет, влияние, которым эта великая нация по праву пользуется среди народов и которое она использует в интересах всего мира вот уже три столетия, делясь опытом цивилизации и прогресса.
Но что это такое, скажете вы, моральное вмешательство? Может ли оно иметь положительные материальные последствия?
В качестве ответа приведу пример.
В начале прошлого века испанская инквизиция была еще всемогуща. Она обладала огромной властью, превосходившей даже королевскую, и почти перешла от законов к нравам. В первой половине восемнадцатого века, с 1700 по 1750 год, жертвами суда инквизиции стали не менее двенадцати тысяч человек, из которых шестнадцать сотен умерли на костре. Но послушайте. Во второй половине того же века у той же самой инквизиции было не более девяноста семи жертв. И сколько из них было сожжено? Ни одной. Ни одной! Что произошло между этими двумя цифрами, двенадцать тысяч и девяносто семь, шестнадцать сотен костров и ни одного? Война? Прямое вмешательство армии какой-либо нации? Усилия нашего флота, армии или просто дипломатии? Нет, господа, всего лишь моральное воздействие. Вольтер и Франция заговорили, инквизиция умерла.
Сегодня, как и тогда, морального воздействия будет достаточно. Пусть пресса и французская трибуна возвысят голос, пусть Франция заговорит, и через определенное время Польша возродится.
Пусть Франция говорит, и дикие действия, которые нам не по нраву, станут невозможными, Австрия и Россия будут вынуждены последовать благородному примеру Пруссии и, как и Германия, проявить возвышенное доброжелательство по отношению к Польше.
Господа, я не произнесу больше ни слова. Единение народов воплощается двумя способами: в династиях и нациях. Именно таким образом, в этих двух формах совершается тяжелый труд цивилизации, общее дело человечества; именно таким образом появляются выдающиеся короли и могущественные народы. Прошлое империи может стать плодотворным и дать жизнь будущему, только создав нацию или династию. Вот почему разрушение народом династий столь губительно; это еще более губительно, чем когда государи разрушают нации.
Господа, польская нация – славная нация; ее надо уважать. Пусть Франция уведомит государей, что она положит конец, что она воспрепятствует варварству. Когда Франция говорит, мир слушает; когда Франция дает совет, она производит скрытую работу в умах, и идеи права и свободы, гуманности и разума пускают ростки у всех народов.
Во все времена Франция играла значительную роль в цивилизации, и это всего лишь власть духовная, это власть, которой обладал Рим в Средние века. Рим был тогда государством четвертого разряда, но обладал первостепенной властью. Почему? Потому что Рим опирался на религию народов, на то, из чего проистекают все цивилизации.
Вот, господа, что сделало могущественным католический Рим в эпоху, когда Европа была варварской.
Сегодня Франция унаследовала часть этой духовной власти Рима; Франция имеет в делах цивилизации такое же влияние, какое Рим имел в делах религии.
Не удивляйтесь, господа, что я смешиваю эти два слова – цивилизация и религия; цивилизация – это прикладная религия.
Франция была и есть еще больше, чем когда-либо, нацией, которая возглавляет развитие других народов.
Пусть результатом этой дискуссии будет, по меньшей мере, следующее: государи, которые владеют народами, владеют ими не как хозяева, а как отцы; единственный, настоящий господин находится в другом месте; верховная власть не у династий, не у государей, и не у народов, она выше; верховная власть заключена в идеях порядка и справедливости, верховная власть в истине.
Когда один народ угнетен, справедливость страдает, истина, верховная власть права, оскорблена; когда государь несправедливо обижен или низвергнут с трона, справедливость и цивилизация также страдают. Существует вечная солидарность между идеями справедливости, которые составляют право народов, и идеями справедливости, которые составляют право государей. Скажите это сегодня венценосным особам, как скажете при случае народам.
Пусть люди, которые руководят другими, знают это, духовная власть Франции огромна. Прежде проклятие Рима могло поставить империю вне религиозного мира; сегодня негодование Франции может выбросить государя за пределы мира цивилизованного.
Значит, так нужно, чтобы в этот час французская трибуна возвысила свой незаинтересованный и независимый голос в пользу польской нации; пусть она провозгласит в этом случае, как во всех остальных, вечные идеи порядка и справедливости, и пусть она защищает угнетенную Польшу во имя идей стабильности и цивилизации. После всех наших распрей и войн, на долю этих двух наций, о которых я говорил в начале, Франции, взрастившей и выносившей цивилизацию в Европе, и Польши, ее защитившей, выпала разная участь; одна была ослаблена, но осталась великой; вторая оказалась скованной цепями, но осталась гордой. Эти две нации должны сегодня договориться, должны испытывать одна по отношению к другой глубокую симпатию двух сестер, которые сражались бок о бок. Обе, я сказал и повторяю это, многое сделали для Европы; одна не пощадила себя, другая пожертвовала собой.
Господа, я подвожу итог. Вмешательство Франции в великий вопрос, который нас занимает, не должно быть вмешательством материальным, прямым, военным, я так не думаю. Это должно быть вмешательство чисто духовное; это должна быть открыто выраженная симпатия великого, счастливого и преуспевающего народа народу угнетенному и ослабевшему. Ни больше, ни меньше.
Свобода театра
Эта речь была произнесена во время обсуждения бюджета, после речи, в которой уполномоченный Жюль Фавр просил об отмене цензуры для всего театра. (Прим. издателя.)
3 апреля 1849 г.
Я сожалею, что этот важный вопрос, который волнует лучшие умы, возник столь внезапно. Со своей стороны, честно признаюсь, я не готов его обсуждать и углубляться в него, в то время как углубиться в него необходимо; но я полагаю, что пренебрег бы одной из моих главных обязанностей, если бы не высказал здесь то, что я считаю правильным и принципиальным.
Я никого здесь не удивлю, заявив, что являюсь сторонником свободы театра.
И сначала, господа, объяснимся по поводу этого слова. Что мы подразумеваем под ним? Что такое свобода театра?
Господа, собственно говоря, театр не есть и никогда не может быть свободным. Он избегает одной цензуры лишь для того, чтобы попасть под другую, и именно в этом заключается суть вопроса, именно на это я обращаю особое внимание г-на министра внутренних дел. Существует два вида цензуры. Первый – наиболее уважаемый и эффективный из тех, что я знаю в мире, – это цензура, осуществляемая во имя вечных идей чести, благопристойности и порядочности, во имя того уважения, которое великая нация имеет по отношению к самой себе, это цензура, осуществляемая общественными нравами. (Движение на трибунах. Аплодисменты.)
Другая цензура, я не хочу использовать слишком суровые выражения, самая неудачная и неуместная, – это цензура, осуществляемая властью.
Так вот! Знаете, что вы делаете, когда разрушаете свободу театра? Вы отнимаете театр у первой из этих двух цензур, чтобы отдать его второй.
Вы полагаете, что выиграете от этого?
Вместо общественной цензуры, серьезной, строгой, осторожной, послушной, вы получаете цензуру власти, цензуру, лишенную уважения и вызывающую. Добавьте сюда скомпрометированную власть. Серьезное неудобство.
И знаете ли вы, что еще происходит? В соответствии с естественной реакцией общественное мнение, которое было бы столь строгим для свободного театра, становится весьма снисходительным по отношению к театру, подвергаемому цензуре. Театр с цензурой производит впечатление угнетаемого. (Крики «Это правда! это правда!».)
Нужно признаться себе, что во Франции, и я говорю это к чести этой благородной страны, общественное мнение рано или поздно встает на сторону того, чья свобода ущемлена.
Так вот, я говорю, что не только аморально, но и неловко, аполитично делать так, чтобы публика встала на сторону театральной распущенности; публика, боже мой, в глубине души оппозиционна, ей нравятся аллюзии, ее забавляют эпиграммы; публика с радостью согласится с театральными вольностями.
Вот чего вы добьетесь цензурой. Цензура, отнимая у публики ее естественную юрисдикцию по поводу театра, в то же время отнимает у нее чувство уверенности в себе и ответственности; с того момента, когда публика перестает быть судьей, она становится сообщницей. (Движение.)
Я приглашаю вас, господа, подумать о нежелательных последствиях такой цензуры. Очень скоро публика будет видеть в театральных бесчинствах лишь почти невинное подшучивание либо против власти, либо против самой цензуры; в конце концов она примет то, что отвергла бы, и будет защищать то, что она бы осудила. («Это правда!».)
Я добавлю следующее: уголовное наказание более невозможно, общество обезоружено, его право исчерпано, оно ничего больше не может предпринять против правонарушений, которые могут быть совершены, так сказать, через цензуру. Я повторяю, нет больше уголовного наказания. Особенность цензуры, и в этом не самое маленькое ее неудобство, состоит в том, что она уничтожает закон, подменяя его собой. Как только рукопись подвергается цензуре, этим все сказано, все кончено. Судье нечего делать там, где поработала цензура. Закон не проходит там, где прошла полиция.
Что касается меня, все, чего я хочу как для театра, так и для прессы, – эта свобода. Это законность.
Подведу итог моему мнению одним словом, которое я обращаю к правительству и к законодателям: благодаря свободе вы отдаете вольности и злоупотребления театра на цензуру публике; благодаря цензуре вы защищаете их. Выбирайте. (Длительные аплодисменты.)
Из книги «Что я видел»
Посещение Консьержери
Сентябрь 1846 г
Как сейчас помню, в четверг, 10 сентября 1846 года, в день Святого Патьена, я решил отправиться в академию. Там проходило открытое заседание, посвященное премии Монтийона1, и свою речь должен был произнести г-н Вьенне. Когда я прибыл в академию и поднимался по лестнице, кое-что привело меня в смятение. Передо мной весело и непринужденно, с резвостью школьника взбегал по ступеням один из членов академии – с виду человек молодой, одетый в обтягивающий, застегнутый на все пуговицы, приталенный костюм, худой и подвижный. Он обернулся. Им оказался Орас Верне; у него были пышные усы и три командорских креста на шее2. В 1846 году Орасу Верне было уже определенно больше шестидесяти лет.
Поднявшись по лестнице, он вошел. Я не чувствовал себя ни столь молодым, ни столь смелым, как он, и не последовал за ним.
На площади перед зданием я встретил маркиза де Б.
– Вы с заседания академии? – спросил он.
– Нет, – ответил я, – нельзя выйти оттуда, куда не входил. А вы какими судьбами в Париже?
– Я прибыл из Буржа.
Маркиз, ярый легитимист, давеча встречался с доном Карлосом, сыном испанского претендента Карла V. Дон Карлос, которого приверженцы называли принцем Астурийским и будущим королем Испании, а европейская дипломатия именовала графом де Монтемолином, с изрядной долей разочарования наблюдал за тем, как его кузина донна Изабелла выходит замуж за инфанта Франсиско де Асиса, герцога Кадисского. При встрече он выразил маркизу свое удивление и даже показал письмо инфанта, адресованное ему, графу де Монтемолину, в котором было сказано дословно следующее: «Я даже не помыслю о моей кузине, пока ты будешь стоять между нею и мной»3.
Мы обменялись рукопожатием, и месье де Б. ушел.
Когда я возвращался по набережной Морфон-дю и проходил мимо массивных старых башен Сен-Луи4, у меня внезапно возникло желание посетить Консьержери. Не могу сказать, с чего мне вдруг пришла в голову такая мысль. Разве что, это было стремление увидеть воочию, как удается человеку обезобразить внутренность того, что столь прекрасно снаружи. Или же я решил заменить заседание в академии на визит в Консьержери по примеру Фредерика Леметра, который однажды, играя Робера Макера, вдруг заставил написать на афише, что в этот вечер вместо пятого акта будет идти балет5.
Итак, я свернул направо в маленький дворик, позвонил у зарешеченного окошка и, когда мне открыли, назвал свое имя. У меня при себе был отличительный знак пэра. Мне дали сопровождающего, чтобы он проводил меня всюду, куда мне захочется пойти.
Первое, что испытываешь, переступая порог тюрьмы, – это мрачное гнетущее чувство подавленности и духоты. Здесь не хватает воздуха и света. Тюрьма обладает каким-то специфическим освещением и запахом. Воздух тут больше не воздух, свет – не свет. Железные решетки имеют власть даже над столь свободными по своей природе вещами, как воздух и свет!
Мы вошли в огромный зал, служивший прежде караульным помещением Сен-Луи, а ныне разделенный перегородками на множество отсеков и приспособленный для нужд тюрьмы. Повсюду можно было увидеть стрельчатые арки, низкие своды и колонны с капителями; однако все элементы были обточены и сглажены лишенными вкуса архитекторами империи и реставрации. Эти наблюдения справедливы для всех помещений тюрьмы, ибо все здание было переустроено таким образом. Справа от входа, в пяте стрельчатой арки, образованной двумя стенами, еще сохранилось место, где караульные оставляли свои пики.
Помещение, в котором я непосредственно находился, было местом, где прежде осужденные готовились к казни. Слева располагалась канцелярия. Там сидел весьма любезный господин, заваленный папками и окруженный шкафами. Когда я вошел, он поднялся, снял свой колпак, зажег свечу и сказал:
– Месье, вероятно, хочет увидеть Элоизу и Абеляра6?
– Отличная мысль, черт побери, – ответил я.
Служитель взял свечу, вытащил зеленую папку, на которой было написано: «Месячные расходы», и указал на темный угол за большим шкафом. Там я увидел колонну с капителью, представляющую собой монаха и монахиню, стоящих спиной друг к другу. Монахиня держала в руке огромный фаллос. Сие произведение было выкрашено в желтый цвет и называлось «Элоиза и Абеляр».
Мой служитель вновь заговорил:
– Теперь, когда месье увидел Элоизу и Абеляра, он, вероятно, хочет осмотреть камеры приговоренных к смерти?
– Пожалуй, – ответил я.
– Проводите месье, – сказал служитель сопровождающему.
Затем он вновь погрузился в свои папки. Этому миролюбивому человеку было поручено ведение тюремных книг.
Я вернулся в приемную, по пути насладившись видом великолепного стола с изогнутой мраморной столешницей в стиле рококо, который так любил Людовик XV. Остальную часть безобразного помещения, выкрашенного некогда белой краской, скрывала темнота.
Затем я прошел через еще одну темную комнату, загроможденную деревянными кроватями, приставными лестницами, какими-то осколками и потертыми рамами. Сопровождающий, ужасно гремя ключами и засовами, раскрыл передо мной дверь и сказал:
– Вот, месье.
Я зашел в камеру приговоренных к смерти. Это была довольно просторная комната с низкими сводами и старинным каменным полом. Плиты известняка чередовались с плитами из сланца и кое-где вовсе отсутствовали. Достаточно широкое полукруглое окно с навесом, забранное решетками, пропускало тусклый свет. В комнате не было никакой мебели, кроме чугунной печки с рельефными украшениями времен Людовика XV, которые мешала рассмотреть ржавчина, и стоявшего у окна продавленного кресла с дубовыми ручками эпохи Людовика XIV. Кожаная обивка была порвана, и из нее торчали конские волосы. Печка стояла справа от двери. Мой проводник объяснил, что, когда в камере находится узник, сюда ставят складную брезентовую кровать. Один солдат и один тюремщик, которые сменяются каждые три часа, неотлучно находятся при осужденном. У них нет ни кресла, ни кровати, чтобы не было возможности уснуть, так что они вынуждены все время стоять.
Мы вернулись в приемную, куда выходили еще две комнаты: гостиная привилегированных узников, которым было позволено видеть своих посетителей не через двойной ряд решеток, и, как гласила надпись над дверью, «салон господ адвокатов», имевших право свободно общаться со своими клиентами наедине. Этот «салон» представлял из себя длинную комнату с одним окном и длинной деревянной скамьей. Он был похож на первую гостиную. Похоже, что некоторые адвокаты злоупотребляли этими законными встречами наедине (воровки и отравительницы бывают порой весьма хорошенькими). Эти злоупотребления не остались незамеченными, и «салон» снабдили стеклянной дверью. Таким образом, нельзя было слышать, но можно видеть, что там происходило.
В этот момент появился директор Консьержери, которого звали месье Лебель. Это был немолодой уже человек, державшийся с достоинством, но не без хитринки во взгляде. На нем был длинный редингот с лентой ордена Почетного легиона в петлице. Он извинился передо мной, сославшись на то, что его не сразу предупредили о моем приходе, и попросил позволения лично сопроводить меня.
Решетка отделяла приемную от просторной сводчатой галереи.
– Что это? – спросил я у месье Лебеля.
– Прежде это были подсобные помещения кухни Сен-Луи. Они сослужили нам хорошую службу во время беспорядков. Я не знал, что делать с заключенными. Г-н префект полиции послал спросить, много ли у меня мест и сколько заключенных я могу принять. Я ответил: – Двести. – Мне прислали триста пятьдесят и сказали: – Скольких еще вы можете разместить? Я решил, что надо мной смеются. Однако велел приспособить под камеры женский лазарет. – Вы можете, – сказал я, – прислать мне еще сотню. – Мне прислали триста. На этот раз я выразил недовольство, а меня спросили: – Сколько еще вы можете пристроить? – Теперь, – ответил я, – сколько хотите. Месье, мне прислали шестьсот. Я поместил их сюда. Они спали на земле, на связках соломы. Они были очень перевозбуждены. Один из них, Лагранж, республиканец из Лиона, сказал мне: – Месье Лебель, если вы позволите мне увидеться с сестрой, я обещаю вам сделать так, что заключенные будут вести себя тихо. – Я позволил, он сдержал слово, и моя камера на шестьсот человек превратилась в маленький рай. Лионцы были благоразумны и милы вплоть до дня, когда Палата пэров, вспомнив об этом деле, свела их в ходе следствия с парижскими бунтовщиками, которые были заключены в Сент-Пелажи. Те им сказали: – Это безумие – сохранять такое спокойствие. Нужно жаловаться, кричать, приходить в бешенство. – И вот благодаря парижанам мои лионцы взбесились. Тысяча чертей! Они доставили мне много хлопот! Они говорили: – Месье Лебель, это не из-за вас, это из-за правительства. Мы хотим показать ему зубы. – И Ревершон раздевался и оставался полностью обнаженным.
– И это он называл «показать зубы»?
Тем временем тюремщик открыл большую решетку в глубине свода, затем еще одну, а потом тяжелую дверь. И я оказался в самом сердце тюрьмы.
Сквозь стрельчатые арки я увидел довольно большой продолговатый внутренний двор. Со всех сторон его окружали высокие строения Сен-Луи, побеленные и деформированные. Люди прогуливались там группами по двое и трое. Другие сидели на каменных скамьях, окружавших двор. Почти все были в тюремной одежде – грубых куртках и полотняных штанах. Однако двое или трое носили сюртуки.
Один из этих последних сохранил более или менее опрятный и респектабельный вид. Было в нем что-то городское. Этот месье явно знавал лучшие времена.
Двор отнюдь не казался мрачным. Вовсю светило солнце, а оно делает веселее все, даже тюрьму. Посередине были две цветочные клумбы, на которых росли и небольшие, но ярко-зеленые деревья, а между ними журчал фонтан.
Раньше здесь была галерея дворца. Готический архитектор окружил ее с четырех сторон стрельчатой аркадой. Современные строители заложили арки каменной кладкой. Они установили перекрытия и перегородки и сделали два этажа. В каждой аркаде была камера на первом этаже и еще одна на втором. Эти камеры были чистыми и совсем не отталкивающими: девять футов в длину и шесть в ширину, дверь, выходящая в коридор, окно во двор, задвижки, тяжелый засов и зарешеченное окошечко в двери, решетки на окнах, стул, кровать в углу, слева от двери. Кровать застлана простынями из грубого полотна и столь же грубым шерстяным одеялом, но очень опрятная. Вот что представляла собой камера. Почти все они были открыты. Настало время прогулки, и заключенные находились во дворе. Однако две или три оставались запертыми. Заключенные, молодые рабочие, сапожники или шляпники, громко стучали молотками. Мне объяснили, что это были очень трудолюбивые узники, отличающиеся хорошим поведением. Они предпочитали работу прогулке.
Выше находилось отделение тюрьмы, где заключенные могли питаться за собственный счет. Камеры там были побольше и менее чистые благодаря свободе, которая стоила шестнадцать сантимов в день. Обычно в тюрьме чем больше свободы, тем меньше чистоты. Эти несчастные так устроены, что чистота для них является знаком рабства. В платных камерах заключенные содержались по двое или трое. В одной было даже шесть человек. В ней какой-то старик с честным и спокойным лицом читал книгу. Когда мы вошли, он поднял глаза и посмотрел на меня с видом деревенского кюре, читающего свой требник, сидя на траве под открытым небом. Я безуспешно попытался узнать, за что был арестован этот goodman.[73] На выбеленной известкой стене карандашом было написано четверостишие:
- В жандармерии,
- Когда жандарм смеется и один,
- Смеются все жандармы как один
- В жандармери-и-и!
Ниже какой-то пародист добавил:
- В Консьержерии,
- Когда консьерж смеется и один,
- Смеются все консьержи как один
- В Консьержери-и-и![74]
Месье Лебель показал мне во внутреннем дворике место, где несколько лет назад убежал заключенный Боттемоль. Этому человеку оказалось достаточно прямого угла, который образовывали две стены на северной стороне. Он взобрался на крышу, используя лишь силу своих мускулов. Там он схватился за печную трубу. Если бы она согнулась под его весом, беглец бы упал и разбился насмерть. Затем он спустился во внешний двор и скрылся. И все это среди бела дня. Его удалось схватить во Дворце правосудия.
– Подобное бегство заслуживало большего успеха, – сказал мне месье Лебель. – Мне было почти жаль, когда его поймали.
Слева от входа во двор располагалось небольшое караульное помещение, предназначенное для командира охраны. Там стояли кожаное кресло и стол, заваленный разными папками и бумагами. За ним было пространство примерно девяти футов в длину и четырех – в ширину. Там раньше находилась бывшая камера Лувеля7. Стена, отделявшая ее от караульного помещения, была разрушена. На высоте примерно семи футов стена заканчивалась и начиналась железная решетка, которая шла до самого потолка. Свет проникал сюда только из коридора сквозь дверное окошко. День и ночь через эту решетку и окошко наблюдали за Лувелем, чья кровать находилась в углу. Тем не менее два охранника непрестанно находились внутри. Когда стену разрушили, архитектор решил сохранить низкую дверь с тяжелым круглым засовом и квадратной замочной скважиной, замуровав ее во внешней стене. Именно в таком виде она и предстала передо мной.
Я помню, как в ранней юности увидел Лувеля на мосту Менял в тот самый день, когда его везли на Гревскую площадь. Кажется, это было в июне. Ярко светило солнце, Лувель ехал в повозке с руками, связанными за спиной, в накинутом на плечи синем сюртуке и круглой шляпе на голове. Он был бледен. Я видел осужденного в профиль, весь его облик дышал свирепостью и неистовой силой, и в то же время было в нем что-то суровое и холодное.
Прежде чем покинуть мужской блок, месье Лебель сказал:
– Вот любопытное место. – И провел меня в довольно высокий сводчатый зал примерно пятнадцати футов в диаметре. Окон не было, и свет туда проникал только через дверь. Вдоль всего зала у стен стояли каменные скамьи.
– Вы знаете, где вы? – спросил месье Лебель.
– Да, – ответил я.
Я узнал знаменитую камеру пыток. Она была расположена на первом этаже зубчатой башни, самой маленькой из трех круглых башенок, выходящих на набережную. В центре высилось странное мрачное сооружение. Это было что-то вроде длинного узкого каменного стола со швами, залитыми свинцом, на трех каменных опорах, высотой примерно три с половиной, длиной восемь и шириной двадцать футов.[75] Подняв глаза, я увидел торчащий из свода массивный стальной крюк, покрытый ржавчиной.
Это было ложе для допросов. Туда клали кожаный матрас, а на него помещали заключенного. Равальяк провел шесть недель лежа на этом столе со связанными руками, пристегнутыми к длинной цепи, последнее звено которой было прикреплено к этому самому крюку над моей головой. Шестеро дворян и шестеро стражников охраняли его день и ночь.
Так же сторожили Дамьена. Он был привязан к этому ложу все то время, что длился его процесс. Дерю, Картуша, Ля-Вуазен допрашивали на этом столе. Маркиза де Бренвилье, полностью обнаженная, была прикована тут за руки и за ноги цепями8. Ее подвергли пытке водой так, что она воскликнула:
– Как вы собираетесь влить такую огромную бочку воды в такое маленькое тело?
Вся мрачная история сосредоточена здесь, она впиталась по капле в поры этого камня, в эти стены, своды, скамьи, стол и дверь. Она никогда не выходила отсюда, была заперта здесь, и всегда оставалась под замком. Ничто не просачивалось наружу. Никто никогда не проронил ни слова о том, что было погребено в этих стенах. Этот склеп, похожий на опрокинутую воронку, эта пещера, сотворенная руками человека, этот каменный мешок сохранил тайну каждой капли крови, которую он проглотил, каждого стона, который он задушил. Ужасные вещи, свершавшиеся в этом судилище, все еще ощущаются здесь, они еще живы и испускают отвратительные миазмы, отравляющие здешний воздух. Странный трепет внушает эта комната, эта башня, стоящая посреди набережной без рва и стен, отделяющих ее от прохожих! Внутри пилы, испанские сапоги, козлы, колеса, клещи, молоты, вбивающие клинья, шипение плоти, которую терзают раскаленным железом, кровь, капающая на угли, бесстрастные вопросы судей, отчаянные вопли заключенных. Снаружи, не более чем в четырех шагах, прогуливающиеся туда и обратно буржуа, беззаботно болтающие женщины и играющие дети, торговцы и кареты, лодки на реке, городской шум, воздух, небо, солнце, свобода.
Страшно подумать, что до прохожих ни сейчас, ни прежде, никогда не долетало ни малейшего звука из этой башни без окон. Какими же толстыми должны быть стены, чтобы не проникал шум улицы и чтобы на улице не было слышно того, что происходит в башне!
Я рассматривал пыточный стол с любопытством и ужасом одновременно. Некоторые узники написали на нем свои имена. В самой середине восемь – десять букв, из которых можно было прочитать только первую М, складывались в слово. С краю шилом было нацарапано: «Мерель». Я могу ошибаться, но думаю, что это имя.
Отвратительная нагота стен еще больше усиливала впечатление от их пугающей, беспощадной толщины. Черно-белый каменный пол был таким же, как в камере приговоренных к смерти. Большая квадратная печь из кирпича заменила находившуюся здесь прежде пыточную жаровню. Здесь узники согреваются зимой.
Оттуда мы прошли в отделение для женщин. После часа пребывания в тюрьме я настолько привык к решеткам и засовам, что уже больше не обращал внимания на эту особую тюремную атмосферу, которая так угнетала меня, когда я только вошел. Я даже не заметил, кто открыл нам дверь в женскую часть здания. Помню только, что какая-то старуха с носом, как у хищной птицы, появилась за решеткой и спросила, не желаем ли мы прогуляться по двору. Мы согласились.
Женский дворик был намного меньше и намного тоскливее, чем в мужской части тюрьмы. Там был только крохотный газон с травой и цветами. Деревьев не было вообще. Вместо фонтана в углу находилась мойка. Какая-то узница стирала там белье. Восемь – десять женщин сидели во дворе за работой и беседовали. Я снял шляпу. Они встали, с любопытством глядя на меня. Большинство из них были представительницами среднего класса, на вид торговки лет сорока. Однако среди них можно было заметить и двух-трех девушек.
Мы вошли в небольшой зал, находившийся рядом с двориком. Там мы увидели двух девушек. Одна из них сидела, вторая стояла. Первая казалась больной, вторая, по-видимому, за ней ухаживала.
Я спросил:
– Что с ней?
– О, ничего страшного, – ответила вторая, высокая и довольно привлекательная брюнетка с голубыми глазами. – Ей немного нездоровится. С ней такое часто бывало в Сен-Лазар9. Мы там были вместе. Я за ней ухаживаю.
– В чем ее обвиняют?
– Она была горничной и взяла шесть пар чулок у своей хозяйки.
Тем временем больная становилась все бледнее и бледнее и, казалось, вот-вот потеряет сознание. Это была совсем молоденькая девушка, лет шестнадцати-семнадцати.
– Выведите ее на воздух, – сказал я.
Подруга взяла ее на руки, как ребенка, и вынесла во двор. Месье Лебель послал за эфиром.
– Она взяла шесть пар чулок, – сказал он мне, – но это было уже в третий раз.
Мы последовали за девушками. Больная лежала на земле. Все узницы столпились вокруг и давали ей эфир. Старая надзирательница сняла с девушки подвязки, в то время как ее подруга расшнуровывала корсет, говоря:
– Это случается с ней каждый раз, когда она надевает корсет. Я тебе покажу корсеты, глупышка!
Она произнесла глупышка с такой нежностью и сочувствием!
Месье Лебель пощупал больной пульс. Я воспользовался этим, чтобы сунуть ей в руку пятифранковую монету.
Все закричали:
– А! Она приходит в себя! Бедная малышка!
– Это потому, что с нее сняли подвязки, – сказала одна.
– Это потому, что ее избавили от корсета, – предположила другая.
– Это из-за эфира, – воскликнула третья.
– Это потому, что месье Лебель пощупал ей пульс, – заявила надзирательница.
Высокая брюнетка наклонилась ко мне и шепнула:
– Это потому, что вы дали ей сто су.
Мы пошли дальше. Одна из особенностей Консьержери состоит в том, что все камеры, которые занимали цареубийцы, с 1830 года располагались в женском отделении.
Сначала я вошел в камеру, которую прежде занимал Леконт и где только что был заключен Жозеф Анри10. Это была довольно большая, почти просторная светлая комната, в которой не было ничего от тюремной камеры, кроме каменного пола, двери с самым большим засовом из всех, что я видел в Консьержери, и большим зарешеченным окном напротив двери. В углу у окна стояла кровать в форме лодки из красного дерева четырех с половиной футов в ширину, бывшая в большой моде при Реставрации. С другой стороны от окна был секретер, также из красного дерева. Рядом с кроватью – комод из того же материала с медными позолоченными ручками. На комоде – зеркало, а перед ним – часы из красного дерева в форме лиры с позолоченным украшенным резьбой циферблатом. Небольшой ковер покрывал пол у изножья кровати. Четыре кресла красного дерева были обиты утрехтским бархатом. Между кроватью и секретером располагалась фаянсовая печь. Вся эта меблировка, за исключением печки, способной шокировать вкус буржуа, была мечтой разбогатевшего лавочника. Жозеф Анри был ослеплен ею. Я спросил, что стало с бедным безумцем. После перевода из Консьержери в Ла Рокетт11, он в компании восьми грабителей был отправлен на каторгу в Тулон.
Окно со старым, источенным червями и усеянным дырами занавесом, выходило на двор женского отделения. Сквозь эти дыры можно было видеть то, что происходило во дворе. Это могло служить развлечением узнику, но, возможно, не понравилось бы этим женщинам, полагавшим, что они во дворе одни.
Рядом была камера, в которой содержали раньше Фиески и Алибо. Однако первым ее обитателем был Уврар. Он велел устроить там камин из черного мрамора с белыми прожилками, деревянную обшивку в алькове и туалетную комнату. Вся обстановка была из красного дерева и точь-в-точь походила на мебель в комнате Жозефа Анри. Вслед за Фиески и Алибо, по словам месье Лебеля, в этой камере сидели аббат де Ламенне и маркиза де Ларошжаклен, затем принц Луи-Наполеон и, наконец, «этот величайший болван князь де Берг»12.
Напротив этих камер находилась больница женского отделения. Это был длинный и широкий зал, в котором находилось около двадцати кроватей. Сейчас, к моему удивлению, все они были пусты.
– У нас почти никогда не бывает больных, – ответил мне месье Лебель. Сначала заключенные в ожидании суда помещаются сюда, а сразу после него покидают это место. Оправданные выходят на свободу, осужденные отправляются по месту назначения. Но пока они находятся тут, ожидание приговора приводит их в возбуждение, не оставляющее места ни для чего иного. О, да! У них лихорадка совсем иного рода! Во время холеры, совпавшей с сильными волнениями, у меня тут было семьсот узников. Они были повсюду – в проходах, в караульных помещениях, в приемных, во дворах, спали на кроватях, на соломе, на полу.
– Боже мой, как же все они не заразились холерой!
– У меня не было ни одного больного, месье!
Определенно, из этого можно было извлечь урок, доказывающий, что горячая поглощенность каким-либо делом предохраняет от любой болезни. Во время чумы следовало бы развлекать людей праздниками и зрелищами, не пренебрегая, однако, санитарией и гигиеной. Если бы некому было заниматься эпидемией, она прекратилась бы сама собой.
Когда в камере напротив находилось несколько виновных в покушении на короля, больница женского отделения преобразовывалась в караульное помещение, в котором размещали пятнадцать – двадцать стражников. Все полтора-два месяца, пока шло следствие, они так же, как и заключенные, не могли видеть никого, даже собственных жен.
– Вот что я делаю, – добавил месье Лебель, посвящая меня в эти детали, – когда у меня оказываются цареубийцы.
Он сказал это так естественно, как будто иметь в заключении цареубийц было для него делом привычным.
– Здесь был он, – сказал я с некоторым презрением, имея в виду князя де Берга. – Что вы о нем думаете?
Он протер рукавом очки и ответил:
– О боже мой! Да ровным счетом ничего. Это был несчастный дурачок, хорошо воспитанный, с прекрасными манерами, спокойный, но слабоумный. Когда он прибыл сюда, я поместил его сначала в этот большой зал, в больничное отделение, чтобы у него было достаточно пространства. Он вызвал меня и сказал: «Месье, мое дело достаточно серьезное? – Я что-то смущенно пробормотал. – Как вы думаете, я смогу выйти отсюда сегодня вечером? – О, нет! – В таком случае, завтра? – Ни завтра, ни послезавтра. – Правда? Так, вы полагаете, меня продержат здесь неделю? – Возможно, больше. – Больше недели! Определенно, мое дело серьезно! Вы полагаете, оно серьезное?» Он ходил взад-вперед, постоянно повторяя этот вопрос, на который я никогда не давал ответа. Впрочем, семья не оставила его. Герцогиня, его мать, и княгиня, его жена, каждый день приходили сюда. Княгиня, очень хорошенькая маленькая женщина, просила позволения разделить с ним заключение. Я убедил ее, что это невозможно. В конце концов, что представляло собой его дело? Подлог, без всякого мотива. Это была глупость, ничего больше. Судьи приговорили его, потому что он был князем. Если бы он был сыном богатого торговца, его бы оправдали. После того как его осудили на три года тюрьмы, он какое-то время оставался здесь, а потом его перевели в платную больницу, где для него сняли целый павильон. Скоро уже год, как он там13. Его там продержат еще шесть месяцев, а потом помилуют. Его титул повредил ему во время процесса, но сослужил хорошую службу в тюрьме.
Когда мы проходили через двор, мой проводник остановился и показал мне низкую дверь примерно четырех с половиной футов высотой, с огромной замочной скважиной и засовом, почти такую же, как в камере Лувеля. Это была дверь в камеру Марии-Антуанетты, единственная в тюрьме, которую оставили такой, какая она была. Людовик XVIII превратил ее в часовню. Я с грустным умилением смотрел на эту дверь. Именно через нее прошла королева, направляясь в революционный трибунал, из нее она вышла, когда шла на эшафот14. Эта дверь больше не открывалась. С 1814 года она была замурована.
Я сказал, что ее оставили такой, какой она была. Я ошибся. Ее закрасили отвратительной светло-желтой краской. Но это не в счет. Есть ли такое кровавое воспоминание, которое не замазали бы желтым или розовым?
Мгновение спустя я оказался в часовне. Если бы там можно было увидеть голые стены и пол, решетки на окнах, брезентовую складную кровать королевы и походную кровать тюремщика, старинную ширму, отделявшую их друг от друга, все это вызывало бы глубокое волнение и производило бы невыразимое впечатление. Но там был маленький деревянный алтарь, недостойный даже деревенской церкви, стены, выкрашенные краской (желтой, разумеется), темные витражи, пол с возвышением и две-три омерзительные картины на стенах, на которых дурной стиль империи соперничает с дурным вкусом реставрации. Вход в камеру заменили на арку, пробитую в стене. Сводчатый проход, по которому королева шла в трибунал, был заделан. Вандализм, совершенный из уважения, еще более возмутителен, чем вандализм, учиненный из ненависти, потому что он не что иное, как глупость.
Там не осталось больше ничего из того, что было перед глазами королевы, кроме небольшого участка каменных плит, которые пол, к счастью, не покрывал целиком. Это были старинные каменные плиты, окаймленные кирпичом.
Соломенный стул, стоящий на возвышении, отмечал место, на котором находилась кровать королевы.
Выйдя из этого благоговейно оскверненного тупым почитанием места, я оказался в располагавшемся рядом большом зале, служившим во времена Террора15 тюрьмой для священников и превращенном затем в часовню Консьержери. Она, как и часовня-камера королевы, являет образец пошлости и уродства. Прямо над этим залом проходили раньше заседания революционного трибунала.
По мере того как я проникал в глубины этого старинного здания, я замечал там и сям просматривавшиеся сквозь отдушины огромные погреба, таинственные пустые залы с зарешеченными окнами, выходившими на реку, наводящие страх чердачные помещения, мрачные проходы. Эти крипты изобиловали паутиной, покрытыми мхом камнями, мертвенно-бледным светом, какими-то призрачными и искаженными предметами. Я спрашивал месье Лебеля:
– Что это такое?
– Этим больше не пользуются, – отвечал он.
– А для чего оно служило прежде?
Мы вновь прошли через мужской двор. Месье Лебель указал мне на лестницу рядом с отхожим местом. Именно здесь на перилах несколько дней назад повесился сосланный на галеры убийца по имени Савуа.
– Присяжные ошиблись, – сказал этот человек. – Меня следовало приговорить к смерти. Я это улажу.