Мания встречи (сборник) Чайковская Вера
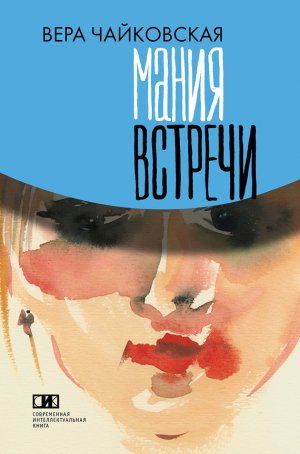
Издано при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы «Культура России (2012–2018 годы)
© В. Чайковская, 2014
© ООО ТД «Современная интеллектуальная книга», 2014
Повести
Шармарская Венера
Глава I
Журнальные фотографии
Некто Иван Тураев, личность, на взгляд здравомыслящих современных горожан, малоинтересная и даже чем-то подозрительная, обнаружил себя однажды утром лежащим на диване в своей захламленной московской квартире, куда сквозь форточку проникал очень несвежий городской воздух. На столике возле дивана беспорядочной кучей были свалены книги. Обрывки страниц и куски плотных переплетов валялись на полу. Тураев припомнил, что вчера вечером в приступе не то отчаяния, не то ярости стал рвать книги. С наслаждением, с остервенением, со страстью. Вложил в это дело все мускульные силы, так что даже сейчас ощущал боль в руках! Ему показалось, что именно книги во всем виноваты.
Книги были главной его жизненной привязанностью. Но в результате они скрыли от него реальную жизнь. Долгие годы он провел, как крот в своей норе, в общении с ними. И что? Эти годы можно было вычеркнуть как нежизнь! И вот открыл он это только теперь, в годы перемен. Прежде сам воздух вокруг словно бы говорил: сиди в своей норе. Там тускло, а здесь, на улице, еще тусклее. Теперь же Тураеву из форточки повеял пусть и загазованный, но словно бы какой-то совсем другой воздух. Это был уже ветер, движение, натиск каких-то внешних сил, которые требовали ответа сил внутренних, ответного движения навстречу. И меньше всего для этого ответного движения годились книги. Они-то требовали сидения, вживания, раздумий. А время желало действий, причем резких, отчаянных, новых! Иван Тураев прекрасно понимал, что его отторжение от книг совпало с общим потоком, что было по меньшей мере странно и немножко даже стыдно. В общем потоке он никогда не оказывался – всегда на отшибе, в уголке, в сторонке, на краю. Но сейчас! Сильный сквозняк новых времен помог ему выбраться из пещеры и присоединиться к новым варварам. Что это варвары – он почти не сомневался. Но они были живые, они жили! И он тоже хотел жизни, реальных, а не вымышленных событий, реальных чувств! А книги? Их теперь читали редкие чудаки. В особенности книги «ученые». Тома по философии, истории науки и искусства обернулись «музейным хламом». А всем музейным он был сыт по горло – даром что прослужил в музее более тридцати лет.
Вместе с тем бурлящая за окном жизнь его безумно пугала. Но и притягивала тоже безумно. Он прислушивался к шумам бесконечного строительства невдалеке от их дома, к грохоту нескончаемых машин по их тихой некогда улочке с недоверием и жадностью – словно в этом шуме, трескотне, грохоте таился залог того, что и ему что-то удастся, что и он может хотя бы попробовать что-то иное, не похожее на прежнее.
Смешно сказать, но Тураев пристрастился читать иллюстрированные глянцевые журналы. Вот уж, с точки зрения прежнего Тураева, кладезь всяческой пошлости, вульгарности и банальности! Но теперь его привлекали люди действия, решившиеся поплыть в неизвестность и завоевать неподатливое мировое пространство. Кто-то хитрыми и не всегда честными сделками, кто-то накачанными бицепсами, кто-то красивым телом, сильным голосом, деловыми мозгами. У всех героев этих журналов, победительно глядящих на него с цветных фотографий, было чем похвастаться. И та грубая, брутальная и, в сущности, достаточно примитивная энергия, которой веяло от всех этих лиц, была Ивану Тураеву сейчас совершенно необходима. Она напоминала о чем-то смутном, задавленном, о силах, которые в нем бродили, не реализованные, мучительно сдерживаемые…
Все это бесконечно отличалось от его музейного прозябания. От его научных занятий. Он занимался всю жизнь установлением фактов ушедшей степной культуры: с помощью сохранившихся памятников быта, надписей, надгробий пытался воссоздать прошлое. Какое мифотворческое, призрачное занятие! Ведь и его собственная жизнь, задокументированная всевозможными бумагами и документами, не укладывалась ни в какие факты, проскальзывала мимо всех свидетельств, была неуловима и иррациональна! Тут все можно было подвергнуть сомнению, что наводило на размышление об истинности многих исторических «фактов» и их «научных» комментариев. Факт его собственного существования подтверждался лишь хронической болью в правом боку и тоже ставшей уже хронической жаждой любви. Очень смешной в его годы.
Одиночество, одиночество, столько лет одинокой жизни в квартире, в музее, в скорлупе своего «я», безумно надоевшего.
После ранней смерти родителей – отец был профессором-лингвистом, а мать – профессором-литературоведом, они и преподавали в одном институте, и умерли пусть не в один день, но в один год – Тураев дома общался почти исключительно со своей девяностолетней няней, еще бодрой, происходившей из рязанской глубинки и жившей в «профессорской» квартире уже лет шестьдесят. Жизненные передряги помешали ей учиться в школе, ее семья была сослана как «кулацкая» в голую степь, она бежала, где-то работала по найму, добрела до Москвы и устроилась у родителей Тураева, давших ей приют. Кое-как Ваня научил ее читать, ему было тогда лет шесть, и сам он с увлечением постигал эту науку, которая взрослой няне давалась с великим трудом. Няня всю жизнь читала одну и ту же затрепанную и разодранную книгу, обернутую в старую газету. Это был старинный сборник молитв, каким-то чудом к ней попавший. При этом няня очень многое понимала и еще больше интуитивно чувствовала – в особенности то, что касалось ее Ванечки. Ее пожизненной любви. Видимо, другой у нее не случилось. Ей Тураев мог что-то важное о себе сказать, пожаловаться, возмутиться и даже иногда при ней расплакаться. Как-то нелепо и глупо все складывалось. Ведь теперешняя жизнь, которая его так манила, требовала, как он стал все отчетливее понимать, вчитываясь в журнальные страницы, каких-то таких качеств, которых у него начисто не было! Положим, он совершенно не ощущал в себе коммерческой жилки.
Ее не было и у древних шармарских племен, которыми он всю жизнь со страстью занимался. Эти племена были разбросаны на границе со степной Русью и после возникновения Киевского государства очень ему досаждали. Впрочем, были и мирные периоды, когда и создавалась истинная шармарская культура. Но дело было даже не в культуре, дело было в вольной, радостной, свежей жизни, напоенной степными ароматами и горьким запахом ночных догорающих костров. Тураев в последнее время не столько искал каких-либо новых «фактов», сколько представлял в мечтах эту жизнь – нерасчлененную, ускользающую, таинственную, как любая жизнь, даже и его собственная. Но еще – полную степной поэзии, стихийной свободы, природных откровений – того, чего у него давно уже не было. Да и было ли вообще когда-нибудь?
И вот, представляя себе эту жизнь так отчетливо, словно сахарно-сладкий арбуз, поднесенный к губам, он и набросился на свои и чужие ученые фолианты. Измышления кабинетных умов.
Ивану Тураеву, как уже приходилось констатировать в начале повествования, захотелось живой жизни. Глядя на разбросанные по полу, растерзанные книги, он не без изумления вспомнил, что паспортная дата его рождения (некий несомненный «факт», которым так дорожат ученые) возвещает всему миру, что он, Иван Тураев, уже года два как пенсионер. Правда, своей пенсии он все никак не мог оформить. Пугали околичности – безмолвно-покорные очереди в слабо освещенных коридорах, безграмотные наглые чиновницы и чиновники. Он был горд.
И еще кто-то в музее обмолвился, какого размера пенсию ему предстоит получить. Это было существенно меньше даже его сегодняшней скромной музейной зарплаты. Так стоило ли торопиться из-за таких крох? Однако денег катастрофически не хватало. Об этом с сокрушением в голосе говорила ему старая нянька Феня. За ученость в нынешние времена денег не платили. Может быть, и правильно делали? Ату их, этих «архивных юношей», незаметно ставших «архивными старичками»! Кому и зачем они нужны? Самого себя Тураев в «архивных старичках» не числил. И вообще ощущал себя как-то подозрительно молодо. В нем кипели какие-то бурные, юношеские чувства, так и не изжитые в многолетнем музейном затворничестве.
Он порылся в журналах, которые, в отличие от книг, сваленных в кучу или разбросанных по полу, лежали на столике аккуратной стопкой. И сразу нашел среди них тот, который вчера, перед взрывом ярости и отчаяния, привлек его внимание. Нужная страница открылась тоже сразу, словно наэлектризованная его чувством.
Он уставился на фотографии женщины, запечатленной то на экзотическом пляже с пальмами за спиной, то верхом на мудро глядящем верблюде, то на людном горном курорте в костюме, напоминающем скафандр. Она была маленькая и хилая, в открытом купальнике ключицы так и торчали! Но дело было не в ее хилости, скорее согревающей его сердце (сильным должен быть мужчина!), а в лице. А вот лицо было совершенно невыразительным. Его особенные черты скрыли косметологи и визажисты.
И все же – вот странность! – сквозь эту улыбающуюся ровными и невероятно белыми зубами маску словно проступало ее настоящее лицо, которое он таинственным образом прозревал. Он видел в ней едва ли не свою соседку по дому, в которую он школьником был долго, неотступно, тайно и поэтому (или не поэтому?) совершенно безнадежно влюблен. Пожалуй, это была самая сильная и упорная его влюбленность. Всех последующих женщин, привлекших в разные годы его внимание, он сейчас уже совершенно не помнил и не смог бы узнать на улице, даже если бы время оставило их прежними. Конечно, Тураев понимал, что эта женщина и та его соседка не могут совпасть и сделаться одной и той же личностью. Соседка была его ровесницей, даже года на два старше, а эта крошка из журнала сияла глянцем здесь и сейчас. Соседка давно уже превратилась в старушку и жила где-нибудь в Люберцах, а может быть, и в Бостоне, вызванная туда детьми или знакомыми. Нынешние судьбы – Тураев это остро ощущал – складывались часто головокружительно и неправдоподобно. Но как бы они ни складывались, соседка не могла превратиться в нынешнюю журнальную диву. И все же Тураев, лишенный долголетнею службой в музее чувства времени, даже от этой безумной мысли не отказывался. А вдруг? Почему его так поразило это похожее на маску лицо? Что он мог в нем найти? Что ему эта особа?
Вот странность! Словно из десятка совершенно одинаковых глянцевых красоток он выбрал почему-то именно эту, как ту единственную, настоящую, долгожданную, которую находят герои народных сказок под ложными, неразличимыми или подставными обличьями. Ведь угадал же Иван Царевич в лягушке Царевну – еще одна сказочная подстановка! И мало того, что Тураев ее выделил, он еще представил ее маленькой и когда-то им любимой. В незапамятные годы. У той были веснушки на носу и звонкий голос, когда она что-то кричала подружкам из окна во двор.
В какой-то момент разглядывания этих фотографий вся современная жизнь представилась Тураеву незримой борьбой фантомов, пустышек, симулякров – смешное заимствование, очень точно выражающее суть явления! – с редкими подлинниками. Но подчас и подлинникам приходилось скрываться, подделываться под общие вкусы, выдавать себя за нечто менее драгоценное, зато блестящее. Не это ли произошло с ней?
Под одной из фотографий, вероятно, хорошо оплаченных каким-нибудь спонсором, если не самой моделью (Тураев знал уже словечко «пиар», мелькающее в журналах то там, то сям), он прочел, что красотка – концертирующая певица. Ее жанр определить было трудно. В репертуаре назывались как классические оперные арии, так и арии из оперетт и даже современные песенные шлягеры. Тураеву хотелось думать, что она все же оперная певица, которая иногда умеет «пошутить». Но было ли это так? Далее говорилось, что ей приходилось выступать с крупнейшими мастерами «оперного бизнеса» (так выразился журналист!) для многотысячных толп в Германии и России. Многотысячные толпы – тоже ему не понравились. Ангажировалось выступление певицы на каком-то громком московском концерте в самое ближайшее время. И Тураев внутренне решил обязательно на него попасть. Хотя он и понимал, что сделать это для него почти невозможно. Наверняка все билеты распроданы, да и где их искать? И сколько тысяч за них платить? Впрочем, меньше всего он думал о деньгах – как-нибудь выкрутится, что-нибудь продаст из домашнего серебра. Главное – попасть на концерт! Приняв это важное и почти не осуществимое решение, Тураев рывком поднялся с дивана, быстро оделся, выбросил в мусорное ведро кучу бумажного мусора – макулатуру, как называли этот хлам в пионерском детстве, и, наскоро выпив чаю с хлебом и медом, отправился в музей.
Глава II
Странные сближения
Тураев вошел со служебного входа, впрочем, парадный вход был с некоторых пор закрыт, и посетители, по российскому обыкновению, входили через «боковушку». В громадном холле, поделенном пополам и частично сдаваемом внаем, благодаря чему музей кое-как держался на плаву, проходила очередная конференция по экономике. Одна группа экономистов доказывала другой, «как дважды два», что все предложения оппонентов – сплошная чушь. Экономика же вела себя, как хотела, совершенно не слушая ни тех, ни этих ученых мужей.
Тураевское место службы находилось невдалеке от Кремля – на самом скрещении московских культурных путей. И как на грех или просто в силу того, что все значительное или мнящее себя таковым пытается на Руси присвоить себе «веселое имя» Пушкина, поблизости находилось сразу три музея с именем поэта в названии. Литературный и художественный носили это славное имя давно, а вот историко-этнографический, в котором со дня его основания служил Тураев, стал так называться с приходом нового директора, подхватившего идею тотальных переименований. Самое забавное, что все они столпились на небольшом пятачке, окруженные несколькими свежевыстроенными башнями, где некоторые пронырливые живописцы разместили свои галереи. Башни словно бы охраняли это «пушкинское гнездо». Происходили курьезы. Туристы, рвавшиеся увидеть пушкинские реликвии, забредали в тураевский музей, где при входе их встречало чучело громадной гориллы, обросшей шерстью и с камнем в руке. Гориллу часто принимали за какого-то далекого «африканского» предка Пушкина и продолжали осмотр, все более испуганно тараща глаза.
Любители живописи тоже нередко попадали прямо в объятия зловещей гориллы с густой зеленоватой шерстью на груди. Внизу, где трое дюжих охранников проверяли сумки, стоял непрерывный возмущенный гул. Разъяренные посетители выясняли, «кто виноват». Виноватым, как всегда, оказывался Пушкин. Впрочем, хотя Тураев и доказывал директору необходимость сменить название, имя Пушкина невольно его радовало. Он миновал охрану и по витой лестнице поднялся на второй этаж. Тут шел какой-то непрерывный ремонт, все более масштабный. Директор лелеял планы построить в музее единственный в мире мемориальный ресторан, где будут подаваться кушанья давно исчезнувших народов. В частности – древних шармарских племен. Некоторые их кулинарные рецепты перевел с шармарского сам Тураев. Но затея ему казалась подозрительной даже и теперь, когда его захватила энергия новой жизни. Энергия энергией, но он не был готов смириться с бездарностью и мелким жульничеством. А именно этими милыми качествами отличался новый директор, немолодой, совершенно лысый и грузный не то армянин, не до азербайджанец (его национальная самоидентификация зависела от конъюнктурных обстоятельств). В музейном деле он ничего не понимал. Образование у него было, конечно же, экономическое, причем и за этот диплом, как догадывался Тураев, было некогда хорошо заплачено. Сидевший многие годы тихо и по макушку занятый шармарскими древностями, Тураев неожиданно для себя ввязался с директором в бесконечный конфликт. Он отстаивал столь очевидные вещи, что это было даже скучно и как-то не по-тураевски. Но остальные сотрудники смирялись с любой нелепостью – с рестораном в музее, с экономистами в музейном холле, с путаницей из-за названия. Впрочем, главный предмет конфликта был в другом. Все уперлось в некую раскрашенную куклу, которую директор хотел сделать гвоздем готовящейся большой выставки древнешармарского искусства.
Это был каким-то чудом сохранившийся в нише древней постройки и откопанный современными археологами глиняный «болван» – голова с намеченной шеей и плечами, с углублениями глаз и выпуклостями губ, когда-то, должно быть, умело раскрашенная.
«Болван» был обнаружен на месте древнего шармарского поселения. Находка вызвала шум в прессе, а директору захотелось сделать из нее громкое шоу. Он тут же отдал ее на реставрацию в какое-то «свое», весьма сомнительное место и через короткое время получил то, что хотел. Идолище вышло на славу – с черными зрачками веселых и наглых, как бы подмигивающих глаз, в черном зверообразном парике, заказанном директором еще в одном «своем» месте. В этом исполнении «болван» обернулся весьма эффектной и смахивающей на современную модель молодой женщиной. Музейные дамы подобострастно восхищались отреставрированной находкой и называли ее не иначе как Шармарской Венерой. Возмущался один Тураев, которому привелось видеть находку до ее, с позволения сказать, реставрации.
Но так как Тураев был главным музейным специалистом по шармарским древностям, он должен был поставить свою подпись в документах, удостоверяющих доброкачественность реставрации. Подпись он ставить отказывался. В сущности, не в подписи было дело – Тиграну Мамедычу не впервой было обходить существующие правила. Но директору безумно хотелось заполучить подпись именно «главного эксперта» по шармарам, а не самозваных знатоков, готовых расписаться под любым фальшаком, разумеется не бескорыстно…
Не успел Тураев явиться и открыть дверь своего малюсенького кабинета, как секретарша тотчас вызвала его к директору. Нервно вздрогнув и не поглядевшись в зеркало, зачем-то висевшее в его кабинете, а следовательно, не поправив задравшегося воротника серенькой с длинными рукавами рубахи, он поплелся к начальству.
Кстати, уж скажем, что тураевская внешность… ну да, эта самая внешность была предметом самого пристального внимания и обсуждения сотрудников музея, в особенности сотрудниц. Да ведь и мужчин там было не густо, только Тураев с директором да два молодца-охранника. В сущности, он был очень красив даже сейчас и сейчас, возможно, красивее, чем в юности. Необыкновенно красивая голова с густыми, легкими, взлетающими седыми волосами, живые темные глаза, широкие плечи при высоком росте, тихий голос приятного вибрирующего тембра. Дело портила чудаческая конфузливость, сутулившая плечи и заставляющая одеваться в незаметные серенькие тона, сливающиеся с домами, переулками, сереньким московским дождиком. Его любовь к «серенькому» музейные дамы давно заметили и с неостывающей насмешливостью много лет обсуждали.
Новый директор, Тигран Мамедыч, напротив, любил все яркое и встретил Тураева в желтой рубашке с фиолетовой поперечной подписью на сравнительно недавно расшифрованном и реконструированном Тураевым шармарском языке. Тураев машинально перевел: «Лови момент!» На всех языках и во все времена определенный сорт людей выбирал в качестве ориентира этот призыв и с большим или меньшим успехом его осуществлял.
Тураев медленно, с оглядкой, так как ожидал от директора любых подвохов, подошел к большому «начальственному» столу, чтобы сесть в кресло напротив Мамедыча (хотя тот ему сесть не предложил), но вдруг заприметил на столе глянцевую полоску пригласительного билета, частично закрытую бумагами. Однако лицо той самой певицы, какая-то новая ее фотография в огромной нелепой шляпе, выглядывало из-под бумаг.
Тигран Мамедыч мгновенно перехватил его взгляд и, обладая какой-то звериной интуицией, прямо-таки просиял от радости.
– Хотите, дам билетик? Купить нельзя. Не продаются, а распространяются… Прежде, бывало, по партийной номенклатуре, а теперь – коммерческой и элитной. Хотите или нет? Быстрее!
– Х-хочу.
Тураев сделал шаг к необъятному директорскому столу и протянул руку за билетом. Директор с жадностью схватил эту руку и горячо пожал.
– Ах вы, мой родной! Тоже любите нашу Танечку? Мне даже кажется, что в ней есть что-то от нашей шармарочки!
Директор быстро, как фокусник, вытащил откуда-то другой длинный глянцевый билет. На этот раз это было приглашение на музейную выставку. На обложке красовался раскрашенный глиняный болван с густой черной шевелюрой. И Тураев вынужден был признать, что обе «дивы» просто безумно похожи друг на друга и даже их подведенные глаза подмигивают сходным образом, точно те «умельцы», которые подхалтурили Шармарскую Венеру, держали в голове облик этой современной красотки. Шармарке не хватало только огромной шляпы.
Директор, демонстрируя сходство, вытащил билет на концерт из-под бумаг. «Таня Алябьева», – прочел Тураев под изображением дивы. Да он ведь уже знал, что ее зовут Таня. На дураковатый современный манер. Не Татьяна, а Таня – для всех, а не только для самых близких. Он попробовал это имя на вкус – в нем боролся старый Тураев с новым – в «Тане», возможно, было больше энергии, молодости, задора… Но все же слишком интимно для толпы…
Директор, неотступно наблюдая за сменой выражений на тураевском лице, помахал перед его носом билетом с Таней в нелепой шляпе, а потом, опять-таки жестом фокусника, достал откуда-то протокол музейных заседаний. В нем не хватало одной тураевской подписи. Директор протянул ему обе бумажки – глянцевую и официально-скучную. Тураев правой рукой взял праздничную глянцевую, а левой поставил на скучном протоколе какую-то закорючку. Левой он никогда не расписывался. Подпись была явно «не его». Но директор или этого не заметил, или ему это было все равно. Он схватил протокол и потряс им в воздухе, как знаменем. И, перегнувшись через стол, попытался Тураева облобызать, но тот решительно уклонился, сунул билет в карман брюк и, испытывая легкое головокружение, вышел из кабинета.
Глава III
На концерте
Через несколько дней после описанных событий Иван Тураев страшно удивил свою старенькую няню, разложив на диване несколько своих старых рубах.
– Все хорошие, теплые!
Старушка ласкала Тураева и его серенькие «фуфаечки» ясным взглядом. Между тем на дворе стоял конец мая и было тепло. Рубашки выглядели безнадежно архаично, к тому же все были из каких-то теплых тканей, не летние. Нужно было купить что-то другое, более легкое и даже не обязательно серое. Тураев в последнее время заприметил, что многие старинные особняки выкрашены в яркие – синие, зеленые, розовые – тона. Он и в голубом, и в зеленом теперь будет сливаться с ландшафтом. Но он не знал, где покупать. Деньги у него были, хотя он не был уверен, что их хватит. Большую часть денег он отдавал няне на хозяйство, а сам тратил очень мало, предпочитая в музейном буфете съесть несколько пирожков с повидлом, напоминавших ему детство. Такие пирожки они ели с мамой в Сокольниках.
Он вынул из кошелька несколько бумажек и побрел по своей улице, свернул к Садовому кольцу и зачем-то нырнул в переход. Интуиция не подвела. Тут его и настигли торговцы летним и всяческим иным товаром. Одни расположились внутри крошечных магазинчиков, другие торговали, развесив на стенах перехода свой яркий товар. Слышался гортанный – кавказский и каркающий – тюркский говор. Словно ковер-самолет перенес Тураева в какую-то другую экзотическую страну. Замаячил стол, заваленный летней одеждой. Тураев приостановился. Ему заулыбалось круглое, румяное, с золотым передним зубом лицо торговки.
Тураев нерешительно ткнул рукой в лежащий на столе товар.
– Это, простите, женское?
– Без разницы, мужчина. Футболки годятся всем. А на вас у меня есть фирменная.
Торговка скрылась под столом и вынырнула, растягивая во все стороны черную футболку с ярко-зеленой клеенчатой вставкой и металлическими заклепками на плечах.
– Фирма «Монблан».
Торговка явно гордилась, что продает изделия столь значительной фирмы.
– Берете, юноша?
Видимо, Тураев все более молодел в ее глазах. Он и вправду как-то приосанился и повеселел.
– Беру!
– Да вы к себе приложите! Хотя я и тк вижу, что точно по вам!
Тураев поморщился от такой грамматической неправильности. Но ведь сам он давно забыл, почему, вопреки очевидности, нужно говорить «по вас», а не «по вам». Это были какие-то пережитки ненужных культурных условностей. К дьяволу! Футболка с заклепками ему в самый раз!
Денег ему хватило еще и на светлые летние брюки, и на белые туфли на резиновой подошве, которые продавец называл «красовками». Туфли действительно были ничего себе и очень удобные. А еще он купил большую ковбойскую шляпу с полями. Покупать ему очень понравилось, он развеселился и напоминал ребенка, готового скупить весь магазин игрушек…
…Собираясь на концерт, он облачился в футболку с заклепками, надел удобные «красовки», только ковбойскую шляпу решил пока что не надевать, а просто взять с собой, уцепившись мизинцем за ремешок.
Нянька глядела на него с жалостью.
– Надел бы теплую фуфаечку. Продрогнешь!
Но он и пиджака с собой не захватил. Прочь эти стариковские привычки! Он молодой, начинающий жизнь… Молодой, так сказать, старичок, но все равно молодой, а не молодящийся! На улице дул сильный ветер, и он немного пожалел о невзятом пиджаке. У него и без того ныла поясница и ломило в колене. Шел он, прихрамывая, встречая отсутствующие взгляды проходящих мужчин и женщин, занятых разговорами по мобильным телефонам.
Концерт должен был проходить в давно известном ему месте, которое он сразу даже не узнал. Когда-то это был незаметный желтенький особнячок, где размещался тишайший Институт древней истории. Тураев некогда учился там в аспирантуре и уже в те времена был занят шармарскими племенами.
Теперь особнячок был выкрашен в красный с золотом цвет, а его некогда запущенные стены сияли новеньким ремонтом. В отреставрированном Зеркальном зале проводились «элитные» концерты – что никак не сказывалось на зарплатах сотрудников, до конфуза мизерных.
При входе стояло несколько крепеньких мужичков в нелепо сидящих на их мускулистых торсах удлиненных черных пиджаках.
Гостей пропускали строго по списку. У меньшинства были билеты. Гости подъезжали на иномарках, входили важно, не сомневаясь, что уж их имена в списке значатся. Одеты были по-вечернему – дамы в платьях с глубокими вырезами, мужчины в черном.
Глаза пропускающих с подозрением остановились на Тураеве – очень уж он от всех отличался и своим видом, и своей одежкой. Однако предъявленный билет с Таней Алябьевой в лихой шляпе на обложке подействовал магически. Мужички расступились, и Тураев проник внутрь института, в этот вечер потерявшего все приметы научного учреждения. Теперь это был особняк для балов и увеселений новой знати. С минуту Тураев стоял в нерешительности: не навестить ли старые места – библиотеку, комнату для заседаний, уголок между лестницами, где он любил когда-то сидеть? Но нет, теперь все другое, все перестроено и подчинено новым «коммерческим» проектам. Едва ли и библиотека уцелела. Он оказался прав – библиотеку убрали и за счет ее помещения расширили площадку для выступлений. Впрочем, Тураев о библиотеке жалел меньше всего.
Войдя в зал, он сразу сел с краю, тихо радуясь, что на билете не обозначены места. Он всегда садился с краю. Это было его «метафизическое» место в пространстве. И даже желание новой жизни ничего не могло поделать с этой роковой маргинальностью.
Впереди мелькнула знакомая лысина Мамедыча. Его круглая голова поворачивалась во все стороны, отыскивая знакомых. Тураев пригнулся и закрылся билетом, невольно встретившись взглядом с развеселыми нагловатыми глазами певицы в большой шляпе, запечатленной на его обложке. Сердце вздрогнуло и заныло. Неужели это действительно Таня Алябьева?
Концерт начался. Он в рассеянности следил за сменой номеров, почти не вникая в суть. Его только удивляло причудливое смешение номеров эстрадных, чуть ли не цирковых, с классическим репертуаром. Не успели унести дрессированного говорящего попугая, как выступила классическая балетная пара. Особенно много было номеров пародийных, пользующихся бешеным успехом. Тураеву же и обычные выступления постепенно стали казаться все более пародийными, и чем академичнее это было обставлено, тем более.
Наконец объявили Таню Алябьеву. Зал оживился. Было ясно, что вся эта роскошная публика явилась поглазеть именно на нее. Недаром ее фотография красовалась на билете.
Тураев с нетерпением ждал появления живой Тани. Он не верил фотографиям. Он напрягся и подался вперед. Певица вышла. Во всем ее облике – в наряде со следами национального декора, но по-европейски открытом, в походке, то плавной, как у оперной певицы, а то размашистой и подпрыгивающей, как у певицы совсем другого рода, в лице, смазанно-кукольном, но с грустной ухмылкой, иногда вдруг трогающей губы, – Тураев ощутил следы чудовищного разлада. Это была совершенно потерянная женщина. Ее выход сопровождался такими аплодисментами, что старинный особнячок задрожал. Некоторая горчинка в облике певицы придавала зрелищу необходимую остроту. Таня до середины сцены шла плавно, потом вдруг вприпрыжку подбежала к микрофону и бойко, с завываниями и пританцовыванием, пропела нечто в ритмах рока под аккомпанемент двух статных аккордеонистов в церемонных фраках. И тут тоже ощущался какой-то полный разлад, смешная какофония, безумная путаница. Тем не менее зал неистовствовал.
Внезапно Таня поглядела прямо на Тураева, сидящего сбоку на своем незавидном откидном сиденье. И он, освещенный люстрой, ответил на ее взгляд – так что даже пальцы рук у него похолодели и дрожь прошла по спине.
Возникла пауза. Певица на миг словно замерла, потом быстро подошла к дирижеру оркестра, расположившегося на сцене, и о чем-то попросила. Тот поморщился, но все же сделал знак оркестру. Зашелестели ноты. Таня Алябьева отнесла за кулисы микрофон, вернулась на сцену и объявила, что будет петь «Письмо Татьяны» из оперы «Евгений Онегин».
Зрители бурно захлопали. Им, в сущности, было все равно, что она будет петь. Они пришли на зрелище, где пение было вещью второстепенной. Главное – сама Алябьева и возможность сказать знакомым, что присутствовали на ее выступлении. Ничего особенного. Но эффектна. Или – не эффектна, но нечто особенное.
Однако Тураев заволновался. Что еще за «Письмо Татьяны»? В этом зале? Для этой публики? После пританцовываний и завываний? Да и сам выбор его смущал. Не слишком ли банально, запето, давно известно? Он готов был бежать из зала и чудом усидел.
Начала она плохо. Совсем так, как учили в Московской или в какой-нибудь другой консерватории, – красивый звук, ощущение легкости и текучести голоса, точно спетые ноты. Разве этого мало? Но стоило ли для этого, для этого?..
В какой-то момент он перестал рассуждать, злиться, взвешивать. Он не заметил, как его захватило и понесло. И он словно впервые ощутил всю неслыханность и невозможность такой доверчивости и такого простодушия. Ловил каждый звук, каждую интонацию…
Закончив, Таня быстро юркнула в кулису. Зал взревел, и прежний особнячок наверняка бы рухнул, а этот, обновленный, чудом устоял. Алябьева вышла и пропела нечто бравурное из какой-то всем известной оперетки, впрочем очень миленькое. Хотелось подпевать. Ей аккомпанировали аккордеонисты, демонстрируя виртуозную технику.
Тураев отключился. Он думал, что раздвоенность Тани Алябьевой отчасти сродни его собственной. Он тоже как-то потерялся в новой жизни, не знает, что принять, что отбросить. Но у нее это достигло каких-то чудовищных размеров, надлома. О «Письме Татьяны», спетом словно специально для него, он старался не думать. Скорее всего – это какие-то его собственные фантазии, обман чувств…
Зрители расходились. Тураев зачем-то медлил, стоял у стены, опустив голову.
– Иван?
Визгливый женский голос его окликнул. Он поднял глаза и увидел, что к нему приближается особа с золотым обручем в волосах и в золотых брюках, похожих на восточные шальвары. Блеск наряда настолько затмевал ее внешность, что ему сначала показалось, что у дамы вовсе нет лица, и только приглядевшись, он обнаружил мелкие, хищные черты, ничего ему не говорящие. Оказалось, что это его бывшая однокурсница. Но и в далекие студенческие годы он все время путал ее с подружкой.
– Ты где?
Бывшая однокурсница с любопытством покосилась на его футболку с заклепками, на ковбойскую шляпу в руке.
– Я?..
Действительно, где он? Но тут до него дошел простой смысл вопроса.
– …В музее…
– Где же тебе еще и быть!
Бывшая однокурсница громко расхохоталась и быстро огляделась по сторонам.
– А я в банке. И муж в банке. Оба оказались в одной банке! Как таракашки!
Она еще громче расхохоталась и снова огляделась.
– Двое детей. Может, тебя подвезти? Мы на двух машинах. Муж из офиса, я из дома.
– Что?.. Из дома?..
Он ничего почти не слышал и не понимал. Но и у этой блестевшей обручем и шальварами дамы интуиция оказалась не хуже, чем у Мамедыча. Или это было какое-то звериное чутье на возможную «поживу»?
– Хочешь, познакомлю с Алябьевой? Она – моя приятельница. Ну, не совсем приятельница – клиентка.
– Хочу!
Опять его поманили «волшебным» именем, и снова он не выдержал искушения.
Через какой-то боковой проход перестроенного института они пробрались в комнату для артистов. За дверью было тихо. Видимо, кроме Тани, все ушли. А может, и Таня ушла? Сердце Тураева заныло. Не уходи! Не уходи!
– Таня, это я!
Бывшая тураевская однокурсница чуть приоткрыла дверь. Потом нахально в нее пролезла. Тураев остался стоять возле двери, не решаясь последовать за расторопной знакомой. Его ведь не звали и не ждали. Через минуту та выкатилась.
– Как, ты здесь? А почему не пошел за мной? Я думала – сбежал! Скажи ей что-нибудь!
И она обеими руками, приложив изрядное усилие и выказав неженскую хватку, втолкнула его в полуоткрытую дверь. Получилось, что он не вошел, а влетел в комнату, размахивая руками и огрызаясь.
– Вы кто?
Таня Алябьева повернулась к нему на вертящемся кресле, отвернувшись от зеркала. И снова он не знал, как ответить. Глядя на застывшее лицо Тани с выщипанными бровями и жгуче-черными волосами, торчащими, как зверообразный парик шармарки, он решил промолчать. В считанные, случайные минуты встречи лучше не произносить лишних слов, не извиняться, не оправдываться, не объяснять, что это не тот музей, где Пушкин, а совсем другой…
– Я вас знаю?
Таня недоуменно стала в него вглядываться.
– Нет, нет, не знаете. Я просто… Вообще-то мне не понравилось, но были моменты…
Тураев запутался и замолчал.
Таня вскочила и резво к нему подбежала.
– Так это я вас заприметила в зале? Вы ведь сидели с краю? Как он… У меня был друг – он тоже всегда садился с краю. Вот я и смотрю, кто там сидит. И вообще вы на него похожи. Вы не еврей? Отчего вы не в Штатах, не в Израиле? Странно, что не уехали! Вы старше, оттого и не уехали! Лет на сто старше. Значит, вам не понравилось? А мне не нравится ваш прикид. Где вы его выкопали? У вас вид дирижера, а вы, как… свинопас. Вот уж он был франтом, всегда отутюжен – настоящий музыкант, артист! Не знаю, как сейчас, но тогда он себе такого… Маша!
Таня закричала каким-то хриплым, вовсе не певческим голосом.
Растерянная нескладная девица явилась на крик.
– Шурин фрак у тебя?
Девица что-то невнятно проговорила, оправдываясь.
– Потом почистишь, потом! Неси скорее сюда!
Через минуту фрак был доставлен. Девица несла его на вешалке, бережно, как ребенка. Не этот ли фрак был на аккордеонисте? Но Тураев не успел додумать. Его оглушил Танин голос.
– Снимите эту гадость!
Она ткнула пальцем в его новенькую черную футболку с зеленой вставкой и заклепками на плечах.
– Маша, манишка осталась?
Девица что-то плаксиво пробормотала. Тураев не шевелился, переводя недоумевающий взгляд с Тани Алябьевой на девицу.
– Все. Стриптиз отменяется. Надевайте, как есть. Шура примерно такого же роста и сложения. Как тот. Оттого и взяла эту пьяную свинью.
Тураев никак не прореагировал на Танину команду.
– Надевайте же!
Он взглянул на Таню с прежним недоумением.
– Зачем?
– Как – зачем?
Таня едва не плакала от какой-то непонятной ему досады и раздражения.
– Затем, что я вас прошу. Затем, что он носил фрак. На концертах носил. А сейчас фраки носят какие-то придурки. Ну пожалуйста, наденьте!
Таня сложила руки умоляющим жестом.
Он запутался в рукавах. Потом постарался выпрямить спину. Таня, схватив с подзеркальника щетку для волос, пригладила ему волосы, седые, но по-юношески густые и пушистые.
– Вылитый он! Посмотритесь же в зеркало!
– О ком вы все время говорите?
Тураева стал злить этот неведомый двойник, из-за которого Таня в упор не видела его самого. Она ответила на какой-то другой вопрос.
– Уехал – и все стало безразлично. Больше десяти лет уже… И деньги, и успех, и репертуар. Все!.. Вы точно не музыкант?
– Я занимаюсь древностями. В музее.
– Не в том ли, где Тигран Мамедыч?
Таня неопределенно хмыкнула.
– В том.
Голос Тураева упал. Слышать имя своего начальника из уст Тани ему было неприятно. А вдруг она подумает, что он такой же прохвост?
– Зовет меня выступать в музее. А какой гонорар сулит!
Таня опять коротко хмыкнула, не то от удовольствия, не то от досады. Схватила ковбойскую шляпу, которую Тураев, надевая фрак, положил на стул, и нахлобучила ее Тураеву по самые уши, как сковородку.
– Вот это клево!
И уже не обращая внимания на растерявшегося, обозленного, обезумевшего Тураева, с которого девица пыталась содрать фрак, куда-то исчезла, растворилась в вечернем сумраке или же была увезена одним из тех «очень известных» персон, о которых повествовала светская хроника.
Глава IV
Преображение истукана, или Новая жизнь
Новая жизнь – эта вечная утопия закоренелых мечтателей – самым невероятным образом началась у Ивана Тураева. Словно в него вдохнули жизненную энергию. Божество легко коснулось его рукой и сказало: «Живи!»
Короткая и закончившаяся нелепо-оскорбительно для тураевского самолюбия встреча с певицей Таней Алябьевой все преобразила. Даже нахлобученная на уши ковбойская шляпа – и та способствовала преображению его чувств, бурных и очень противоречивых. Да, конечно, Таня над ним поиздевалась, но ведь одновременно она проявила к нему интерес и пела «Письмо Татьяны» словно бы для него. Но тут же в сознании Тураева всплывал какой-то ее неведомый, давний уехавший друг. Тураеву и льстило, что Таня находит его похожим на этого друга, но и мучило чувство, которого он никогда прежде не испытывал. Да, это была самая обыкновенная ревность! Ему мучительно хотелось, чтобы Таня разглядела в нем его особенные черты, чтобы ей понравился он сам, а не тот уехавший музыкант, которого он ей напоминал. Музыкант? Ну да, наверное, музыкант, кажется, Таня назвала его музыкантом. Тураев тоже был в своем деле музыкантом, поэтом, артистом – он тоже мог всех удивить и еще удивит! Он видел себя в мечтах отраженным в зеркалах Зеркального зала – то во фраке, а то с голой грудью, заросшей густыми рыжеватыми волосами. Этих волос он всю жизнь стеснялся, а теперь ему хотелось, чтобы Таня их увидела, и он почти жалел, что не снял тогда футболку.
Облик Тани в его мечтах был другим, не таким, каким он ее увидел в артистической. Даже на сцене в какой-то момент – исполняя «Письмо Татьяны», она была более живой, более похожей на себя и на ту девочку-соседку, которую она порой ему напоминала…
Без конца обдумывая, вспоминая и фантазируя на темы недавних происшествий, Тураев решил заняться шармарским «болваном», истуканом или как его еще назвать? Не Венерой же?!
В музейных архивах он отыскал фотографии истукана до злополучной реставрации и разложил их на своем рабочем столе. Его вдруг осенила догадка, что этот вариант был пробным, оттого-то на нем лежала печать неполноты и недоделанности, оставляющей простор для воображения. Возможно, древний мастер в дальнейшем сделал более проработанный и удачный повтор, не дошедший до наших дней. Но и дошедшая почти что чурка тоже кое-что говорила понимающему глазу. Тураев фиксировал мелкие вмятины и тени вокруг бровей и губ – точно брови были удивленно приподняты, а губы чуть растянуты в улыбке. Все эти «несущественные» для глупцов и халтурщиков детали погибли при реставрации. Брови стали просто выщипанными, как у современных моделей, а выпуклые губы плотно сжаты.
Тураеву не с чем было сравнить эту глиняную головку. Шармарские племена никогда прежде не лепили из глины и не вырезали из дерева человеческих голов и фигур. Утварь они украшали растительным орнаментом. Оттого-то находка Шармарской Венеры вызвала в ученом мире сенсацию. Было несколько версий. Одни ученые доказывали, что хрупкие глиняные головы просто не дошли до наших дней, были уничтожены временем или военными набегами. Тураев еще в девяностых годах, почти не замечая происходящего в стране развала, опубликовал в малотиражном научном сборнике свою версию. И был несказанно удивлен, какую бурную полемику вызвал. О версии, перевирая его аргументы, в издевательском тоне писали даже некоторые газеты. Это было тем более удивительно, что прежде шармары никого не занимали. Газетчикам Тураев, разумеется, отвечать не стал, а научным оппонентам ответил короткой репликой. Он ведь и сам не был точно уверен, что дело обстояло именно так, он только предполагал…
Тураев смутно догадывался, что затронул какую-то больную российскую струну. По неизвестной причине все, что касалось евреев, вызывало тут или резкое неприятие, или (гораздо реже) восторженную любовь. В сущности, это было даже какое-то общемировое наваждение. И недаром евреи то и дело всплывали то в древней, то в новейшей истории как основные персонажи. Шло ли это от них самих или от повышенного интереса к ним окружающих? Тураев этого не знал, и это ставило его в тупик. Короче, в своей давней статье он выдвигал предположение о семитских корнях шармарских племен. Причем некоторые оппоненты стали подозревать в нем скрытого еврея, в статьях он ощутил какое-то странное озлобление против его особы, намеки на то, что он скрывает свое происхождение. А что ему было скрывать? Русский интеллигент в нескольких поколениях, семья отца происходила из древнего рода, восходящего еще к Рюриковичам. О матери, «маме Лиде», как он ее в детстве называл, он почти ничего не знал, слишком рано родители его покинули. Ему не было и шестнадцати, когда он остался вдвоем с няней.
Но все эти злобные шепотки и нападки были какой-то пеной, только затемняющей суть его догадки. В конце концов он хотел не сделать кому-то приятное или досадить, а просто высказал предположение, многое объясняющее. Что, ежели в жилах древних шармарских племен текла кровь тех утраченных во времена вавилонского пленения израильских колен, о которых сокрушенно повествует Ветхий Завет? Рассеянные группы иудеев смешались со степными племенами, способствовали развитию письменности и принесли с собой строгий запрет на изображение «человеческих подобий». Находка Шармарской Венеры внесла некоторые коррективы в его гипотезу. Все же отыскался чудак или изгой, для которого закон не был писан. Таких «одержимых» с платоновских времен называли поэтами. Он-то и решил вылепить женскую головку. Богиню ли он лепил? Дошедшая фотография «болвана», да и то, что сам Тураев запомнил, рассматривая оригинал, – все говорило о том, что изображалось существо, близкое скульптору. Эти асимметричные улыбающиеся губы, эти словно приподнятые в удивлении брови высмотрены большим мастером, которому любовь открывает глаза на характерные мелочи женского облика. Так Рембрандт изобразил смешную гримаску на лице Саскии, исказившую ее черты и сделавшую ее еще милее.
Тураев невольно подумал о Тане Алябьевой в какие-то редкие минуты на сцене. Вполне возможно, что мастер сделал несколько головок, но до наших дней дошел какой-то первоначальный, пробный вариант. Остальные головки могли разбить соплеменники-ортодоксы. Или их уничтожило время.
У Тураева был знакомый керамист. К нему-то он и напросился. И в этой, уставленной обливными тарелками, керамической мастерской вылепил головку шармарки. Он использовал старинный рецепт смешения белых глин, позволяющий добиться более тонкой проработки деталей. Во всяком случае, детское удивление в облике шармарки ему удалось передать. Вынув свое создание из гончарной печи, он тронул головку несколькими красками – черной, красной, золотистой. Лицо почти ожило. Недаром краски он изготовил сам, используя прибрежные камни и глины, собранные керамистом. Но тому древние рецепты были ни к чему – он делал очень качественный и ходкий товар для продажи в салонах.
Тураев забрал свою шармарку домой и там долго рылся в шкафу, отыскивая старинные серьги с изумрудами. Эти серьги достались «маме Лиде» от деда. Это были наследственные драгоценности. Он ими очень дорожил и в какие-то трудные минуты вынимал из коробочки и вглядывался в странно мерцающие изумруды. Они навевали ему странные фантазии. Он видел себя веселым рыжебородым воином, вскакивающим на коня и несущимся по степи, – какой контраст с его прихрамывающей походкой! Но теперь он готов был пожертвовать старинными серьгами ради своей глиняной куклы. В нем проснулся одержимый ваятель, он не мог думать ни о чем – только о своем создании. Тураев осторожно вынул камни из платиновой оправы и вставил их в глазницы куклы, закрепив особым раствором. Так часто делали древние мастера. Глаза ожили и блеснули под удивленно приподнятыми бровями. Но безволосая «черепушка» Тураева раздражала. Некогда шармарский болван был украшен прической из какого-то подручного материала. Может быть, из конского волоса. В любом случае это было мало похоже на тот зверообразный «модерновый» паричок, который сварганили халтурщики-реставраторы. Им было не до тонкостей.
Тураеву помогла рукодельница няня. Она сплела прическу из толстых шелковых ниток, чередуя черные и золотые, а на затылке обхватила волосы медным колечком, затерявшимся в сундуках. Няня была затейница и выдумщица. И тоже хранила древние секреты.
Тураев взглянул на дело своих рук. Это была прелестная, живая и словно бы чем-то опасная женская головка. Так бывают опасны женщины, обладающие необъяснимым обаянием. Губы шармарки чуть изогнулись в улыбке, а брови словно бы от удивления приподнялись. Она напоминала шаловливую девочку, и он наслаждался своей «подделкой», которая говорила его сердцу гораздо больше испорченного реставрацией оригинала…
Временами Тураев читал в журналах, что Таня Алябьева путешествует по пустыне с известным кинорежиссером или отдыхает на Багамах с другом-банкиром. А у Тураева рядом была своя Таня – так он назвал шармарку.
И когда он, окрыленный, влетал теперь в свой маленьких музейный кабинетик, его там, за голубой шелковой шторкой, ждала настоящая Таня Алябьева, а не та, заколдованная, которая блуждала по миру, меняя спутников.
Его собственная внешность преобразилась. Он как-то подзабыл о своей хромоте, ходил быстро и легко, при этом волосы его взвивались, и он свободным движением руки откидывал их со лба. Старушка няня, по его просьбе, смастерила ему из льняного полотна для занавесок, отысканного в бездонных старинных сундуках, две замечательные рубахи. Одну золотисто-бежевую и другую голубовато-синюю – свободного «артистического» покроя, что очень шло всей его повадке, порывистым движениям, меняющемуся выражению глаз, быстрой руке, откидывающей волосы.
И теперь, когда он спешил в музей, проходящие длинноногие девушки порой бросали на него заинтересованные взгляды – откуда такой? Он не был похож ни на бизнесмена, ни на менеджера, ни на финансиста. А «поэтов» на улицах стало так мало, что они удивляли с непривычки, как ожившие мамонты…
К нему в его музейную «келью» зачастили музейные дамы. Пришла и приятельница «той самой Оли». Он недоумевал.
– Что за Оля?
– Разве вы не помните? Вы же ее недавно встретили на концерте! Училась вместе с вами на одном курсе! Ольга Вячеславовна. Такая эффектная, не помните? У них две машины – «форд» и «мерседес». Дача в Переделкине. Перекупили у каких-то родственников не то Нагибина, не то Паустовского.
Тураеву было совершенно не важно, какой марки у них машины и у кого они перекупили дачу, но эта самая «Оля» привела его к Таня Алябьевой, поэтому он сотрудницу не прерывал. Остренькое личико-мордочка и решительные, хищные движения. Внезапно она раздернула голубую шторку.
– Ах, что это?..
Она отступила на шаг, произнося бессмысленные слова:
– Это… Да она же… Правда?
Сотрудница не могла ничего внятного сказать, потому что Бог не дал ей, как выразился бы Кант, «способности суждения». Проще говоря, вкуса. Обычно она ждала какого-нибудь авторитетного мнения в газетке или в кулуарах, чтобы незамедлительно, с апломбом присоединиться.
– Вы это сами?.. Вроде похожа на нашу Шармарскую Венеру? Но та… лучше? Или хуже?.. А Тигран Мамедыч видел?
– Не видел, и прошу ему не говорить!
Сердце Тураева защемило от нехороших предчувствий. И верно! Через некоторое время к нему постучался сам Тигран Мамедыч, постучался, а не просто вломился, что было некоторой новостью.
– Говорят, у вас тут завелась еще одна богинюшка?
Тураев нахмурился.
– Это подделка. Настоящий фальшак. Я развлекался. Шутил.
– Покажите, не томите душу!
Но Тураев показать отказался. Это его труд, его материал, его затраты. Музей тут ни при чем.
– Да ладно вам!
Мамедыч нахально просунул лысую голову под голубую шторку.
– Так себя не ведут порядочные…
Но Мамедыч и не думал вылезать. Тогда Тураев закатал рукава своей новенькой бежево-золотистой рубахи и с силой его оттуда вытащил, как кулек с продуктами, и тут же выставил его за дверь. Директор оказался слабаком и трусом и сопротивления не оказал.
Нужно было спасать Таню. Тураев вышел, заперев дверь кабинетика, и еще несколько раз ее дернул – проверил на всякий случай. Такси он поймал быстро и попросил шофера подождать у служебного входа в музей – он должен на минуту забежать. Вбежал на второй этаж, открыл дверь и отыскал большой пакет, куда положит головку. И только тогда раздернул шторку. Но с мраморного столика не улыбнулась и не подалась ему навстречу Таня. Его создание исчезло.
Глава V
Вторая встреча
Тураев загрустил. Снова стал хромать, а временами едва ходил – так ныло все тело. Или это ныла душа?
Скандалить с директором он не стал. Бесполезное унижение. Но он был уверен, что похитил головку именно Тигран Мамедыч. Но для чего? Вскоре, однако, это выяснилось. В одном из глянцевых журналов он прочел, что некий «пробный» реставрационный вариант шармарского шедевра, не представляющий большой художественной ценности, был продан на лондонском аукционе за… Дальше шла значительная сумма в евро. Покупателем оказался русский. То есть, конечно, «новый русский». И его имя Тураеву было отчасти знакомо. Именно с этим субъектом Таня Алябьева посещала (Тураев запамятовал) не то горный курорт, не то пустыню.
Он прочел заметку и задумался. Вдруг померещился ему какой-то просвет в его безнадежности. В новой нежизни, бывшей гораздо тяжелее прежней. Ведь он может пойти к Тане Алябьевой и рассказать ей о краже. Встреча была бы деловой, и это его ободряло. Он не хотел попадать в число фанатов, осаждающих ее дом. Но как и где ее увидеть? Тут ему и пригодилось знакомство с «Олей», то есть с Ольгой Вячеславовной Суетиной. Телефона этой дамы у него не оказалось, но она была приятельницей похожей на хорька музейной сотрудницы, доносчицы, мерзкой бабы, сообщившей Мамедычу о «шармарском двойнике». Но Тураев с некоторых пор стал гораздо терпимее, словно чувство к Тане его смягчило, сделало добрее и снисходительнее. Каково им всем без любви? Вот они и подличают.
Телефон был дан с необыкновенной услужливостью, при этом сотрудница шепотом ему поведала, что готовятся документы о его увольнении. Она очень, очень сожалеет, потому что он был самой необыкновенной достопримечательностью…
Тураев с досадой ее прервал. Каково? Был почти что музейным экспонатом! И в своем кабинете набрал номер «Оли». Ему теперь все стало безразлично, кроме возможной встречи с Таней, какой бы она ни была!
В голосе «Оли», выслушавшей его просьбу и что-то защебетавшей в ответ, послышались торжествующие нотки. Есть все же управа и на таких мумий! Попался не на деньги, главный их с мужем соблазн, а на успех и положение, сопутствующие Тане. О том, что Таня может кого-то привлечь вне успеха, у Ольги Вячеславовны и мысли не было. Но она немного поколебалась – давать ли телефон. Нет, она и не думала выяснить это у самой Алябьевой – такие тонкости ее не волновали. Но мучила какая-то невнятная зависть: а вдруг этот телефон послужит чему-то хорошему? Но любопытство пересилило. Она надеялась потом все выведать у Тани и вместе посмеяться.
Был продиктован сотовый телефон Тани Алябьевой, причем, как уверяла Ольга Вячеславовна, никому не известный. Кроме ну самых, самых…
Он позвонил в тот же день, опасаясь, что решимость его покинет. Только вернулся домой из музея и еще даже не снял своей красивой золотисто-бежевой рубахи. Уже вечерело. Весь этот день в музее он репетировал разговор. Няня звала его из кухни – поесть «картошечки в мундире». Пока горячая.
Он услышал:
– Вы? Приезжайте!






