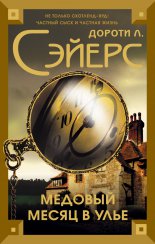Труба и другие лабиринты Хазин Валерий
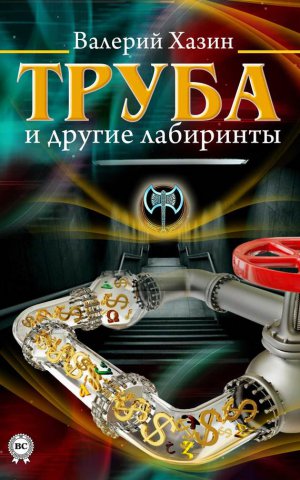
И, наклонившись к собеседнице, задал совсем уже странный вопрос: какой гонорар, сверх обычной зарплаты, она рассчитывала получить за материал?
И спустя еще полминуты, после нелегкого, но уважительного молчания, выслушав ответ, совоголовый Шафиров кивнул и предложил гостье сделку: ей немедленно будет выплачен названный гонорар, а к нему – годовой доход – с тем, чтобы она навсегда забыла о доме номер девять по улице Завражной, а еще лучше – покинула бы Вольгинск и отправилась куда-нибудь в Самару или Нижний Новгород, где талантам ее, вне всяких сомнений, нашлось бы более достойное применение. А пожелай она остаться для продолжения карьеры в родном городе – обещал Шафиров свести её с выдающимися членами самых авторитетных клубов, собраний и диаспор, дабы ни она, ни «Гламурама» впредь не испытывали недостатка в героях своего времени.
И гостья не успела заметить и никогда не вспомнила бы, откуда в ее руке возник теплый мерцающий бокал с каким-то головокружительным коньяком.
9
Знаменитый коньяк пили недели через две, под вечер, по случаю очередного скачка нефтяных цен на мировых биржах. Как всегда, чужеземный напиток больше дал, чем взял, и накрыло выпивавших теплой волной душевного разговора.
Поднимали тосты за поток в трубе (да не иссякнет сила его!), за благоприятное стечение обстоятельств, за тех, кому довелось с умом и талантом родиться в России.
Приняли предложение Марии Застраховой: решили нанять служебный автобус для жителей дома, выезжающих на службу в город; утвердили утренний и вечерний графики, определили маршруты.
Недолго спорили, поднимать ли уже со следующего месяца арендную плату узла, и – соответственно – повышать ли зарплаты всем, кроме немощных и детей, – и договорились о прибавке.
Обсуждали благоустройство двора и близлежащих территорий: не стоит ли, по теплу, высадить новые деревья вдоль оврага, разметить велосипедные дорожки, обновить урны и лавочки, оборудовать, наконец, приличную парковку неподалеку – ведь многие в доме номер девять на Завражной восстановили, отлюксовали, а некоторые и сменили машины?
Муса был деловит, напорист, то и дело хватался за калькулятор. Застрахов, выпивший пива с коллегами еще днем, по первому солнышку, много шутил и хохотал громче обычного. Шафиров казался погружен в глубокую задумчивость: кивал, соглашаясь с соседями, и, вопреки привычке, не развлекал их разговорами об именитом коньячном доме, к которому принадлежал сам Франсуа Рабле.
А потом отставил недопитый бокал и признался, глядя в окно, что опять помутилось сердце его, словно тенью. И вроде бы дом богатеет, и люди при деле, а груз за плечами как будто не убавляется. И почему-то не тревожит уже ни явление Хозяина, ни соглядатаи, ни те, кто приходит от обхода земли, – но что-то другое. И, кажется, деньги отданы в рост, и жизнь вошла в ровное русло, и рынок устоялся, а не отпускают по ночам сновидения, как бывает при множестве забот…[96]
«Дело понятное, весеннее, – сказал Муса, помолчав. – Сладок, говорят, лишь сон трудящегося, мало ли, много ли он съест, а пресыщение не дает уснуть богатому[97]. Да только у нас забот хватает, и грех нам предаваться унынию, а правильней будет заполнить дни трудами, и рассеется печаль, как туча весной».
Застрахов разлил всем еще понемногу.
«Странные люди, – усмехнулся он. – Те, кому выпало с умом и талантом родиться в России. Не умеют радоваться. И в светлые дни привыкли ждать беды. А чего её ждать, чего бояться? Сама найдет, когда надо, и сама догонит.
А пока не утихает ток в трубе, крепка взрывчатая цепь, надежны коды и планово переменчивы. Сами знаете: я отворю – никто не затворит, а закрою – никто не откроет[98].
И в Хозяина давно не верю я и не боюсь – нет его. А если б и был, то теперь он далеко. И много ли проку думать о дальних бедах? Что было – было, а что будет – будет[99].
Да и вам, вам-то чего бояться? У одного Роза на теплом море, у другого Муза – на Северном. Случись что – и нет вас: дальше Хозяина слетели, как птицы, с попутным ветром к дочерям, к чужим берегам. И кто остался на трубе? И некому молвить из табора улицы темной?
Так что – бросьте, соседи.
Никто не знает путей ветра и того, как образуются кости во чреве беременной; и не придумано лучшего для человека, чем есть, пить и веселиться в светлые дни, и радоваться плодам трудов своих.[100]
Пришли времена: и разливается привычно коньяк, какого я прежде и знать – не знал, и мечтать не смел, и название которого все равно не запомню.
Пришли светлые дни – и даже у Марии моей как будто складывается потихоньку: и работу освоила, и, похоже, встретила на море человека, и вроде бы поладили они.
Пришла пора: и дом богатеет, и люди при деле, и множится имущество.
Какая же тут печаль?
Вон во дворах уже набухла почва, напоена водой, и на ветвях лопаются почки, полные сока, и плоть моя сегодня налита пивом, напитана крепким вином винограда с чужедальних коньячных холмов.
И где позавчерашний снег[101], тревожиться ли мне о грядущих грозах?
Скоро зацветут сады, и переменится ветер по Волге, и прогреются берега.
Неужели же мы не выпьем, соседи?
Сбываются мечты патриотов!»
Часть третья
1
Когда затосковал Застрахов? Нетрудно сказать.
Весной, когда отцветали сады.
Посреди садов Заречья завязалось злосчастье, из-за дачи вывернула беда.
Был у Застраховых, как у многих жителей Вольгинска, клочок земли за городом на холмах, и маленький сад, и дачный домик для нехитрых трудов и летней отрады. И, видно, ещё с зимы повадились воры и в дом, и в сад.
Приехав по первому теплу, увидел Застрахов: вырыт напропалую кустарник с корнем, взломана дверь в доме, и вынесено оттуда всё – от посуды до старого белья. Не стали Застраховы жаловаться, недолго пеняли на судьбу: не мы первые, не мы и последние – и, по мере сил, восстановили утраченное. А еще через неделю повторился набег: выгребли всё оставшееся и всё, вновь привезенное, включая консервы и занавески. Но и тут не отчаялся Застрахов и даже посмеялся, благодаря обидчиков за то, что не спалили дом, – и снова заполнил его добром и врезал новую дверь с хорошим замком, и не верил, что придут в третий раз.
Однако пришли: но уже не тать в ночи, а будто бы шваль беспорточная и голь перекатная. И уже не знали меры: видно, сначала гудели ночь на чужом, а потом сволокли всё, что смогли, а что не смогли – испоганили: выбили стёкла, вспороли постели, раскрошили тарелки и чашки вдрызг. И запятнали дом изнутри блуд и блевотина, и мусорный ветер вокруг. И когда не нашел Застрахов самого дорогого – ящика с первоклассным инструментом, собиравшимся годами, когда понял, что не для работы тянули, а только пропьют всё в один миг – помутилось сердце его, словно тенью, и лицо покрылось тьмою: не буду, сказал он, терпеть больше, не отдам свое на поток и разграбление без расплаты.
И в третий раз расчистил дом и сад, и поднял из руин, и обновил дверь и окна. Но как не было на воров ни управы, ни защиты, и ни проку, ни пользы от пьяных сторожей – задумал Застрахов устроить засаду. И однажды, в начале недели, никому не сказавшись, уединился в саду. Расширил притолоки в доме, в сарае и в бане, закрепил над каждым входом по ведру. И подцепил через скобу хитроумной петлей к дверной ручке так, чтобы знающий мог легко отцепить веревку снаружи потайным крючком, а чужой, открывая дверь, получал бы ведро на голову. А в ведра слил Застрахов отработанное масло с моторов, и нефтяные подонки, и всякий шлам. И уехал, в мрачном злорадстве, в город до выходных.
А на другой день, с утра, в конторе жены его, темноокой Лидии, прорвало трубы, и решила она воспользоваться внезапным отгулом: прямо с работы поспешила в сад в неурочное время, чтобы заняться, наконец, долгожданной рассадой по солнышку…
Никто не скажет, куда, облитая первым ведром, бросилась она – в сарай, или в баню. Но домой на Завражную не вернулась.
Ошалевший Застрахов, узнав к вечеру от ее подруг, что еще утром она отправилась на дачу, кинулся в Заречье, но жены посреди ночи в саду не нашел, а подобрал только сумку ее в маслянистой луже и навеки умолкнувший телефон.
И никто не скажет, где и как провели ту ночь Борислав и Лидия Застраховы.
А под утро выяснилось, что спас ее от грязи сосед-садовод, случайно заночевавший у себя на даче через порядок: оттирал темноокую Лидию в собственной бане и переодевал в чистое, и помогал обрезать черные локоны, загустевшие вязкими узлами.
И еще неделю потом не видели ни Застрахова, ни жену его в доме номер девять по Завражной, но куда пропали они, и что было между ними – тоже никто не скажет.
А через время – и мало кто вспомнит, каким было это время, – уехала темноокая Лидия на родину, в страну с головокружительным названием Монтенегро, или Черногория. Уехала совсем, вместе со спасителем своим, соседом по даче, который оказался большим начальником в компании «Кирдымойл», и как раз был направлен в длительную командировку из Вольгинска на Балканы, к берегам Адриатического моря, на реконструкцию нефтепереработки, перетёкшей в руки новых русских хозяев[102].
И будто бы, прощаясь, говорила она:
«Нет больше сил. Девочкой выходила я за Славоню и мечтала поехать в страну, которую полюбила по дедушкиным сказкам. Думала, глупая, что Россия – огромная, светлая и сердечная. А вот оказалась она холодная, грязная и бандитская. И не научилась я понимать, отчего, почему на земле беспредельной, где нет никакого края простору, людям все время тесно?
И рождаются они в давке, и задыхаются в домах, придавленные бытом, и жмутся в очередях. И тесно им в поездах, неловко в туалетах, и даже на кладбище потом не хватает места. И куда ни придут – начинают толкаться локтями, толпиться и роптать, и вечно поджидают жадных до чужого.
Отчего это? Почему стиснуты зубы их, скованы лица, сжаты кулаки? Что теснит и стесняет их, когда кругом столько земли? И зачем воевали они германца, если живут на своей земле, как чужие – наспех да начерно, и почти каждый, кого догадал Бог с умом и талантом родиться в России, мечтает убежать?
Пел мне дедушка про русских богатырей, а Славоня – про Волгу широкую, и вот – утекли мои лучшие годы вдоль ее берегов, и дети мои выросли, а ничего почти не видела я из окон, кроме свалок и труб.
И раз уж выпало мне родиться на краю одной империи, а жить посреди обломков другой, то доживать лучше подальше отсюда – или как там учил ваш последний римлянин-изгнанник – «в глухой провинции у моря»?[103]
И уж если провоняла я нефтью с головы до ног, и не отмыться мне больше, и не увернуться от потока – хочу закончить дни в родном крохотном Которе. Чтобы были там дни дождей, когда надземные воды встречаются с подземными, и были дни ветров, когда воды пресные проливаются в соленые, а город, обоюдно омываемый, обтекаемый двояко, всасывает немного моря[104].
Там, по крайней мере, под каждой дверной осью – тысячелетний камень, и на каждом косяке – имя плотника, но все в городе подобно волнам: и улицы, и крыши, и старые стены крепости Йована.
Там, по крайней мере, или по мере приближения к краю, не тонет взгляд в пустоте, а радуется, скользя вверх по облачным склонам горы Ловчен, либо вниз – вдоль заливов самого теплого, самого южного фьорда – Боки Которской.
И, прежде чем закроешь глаза, там всегда успеешь увидеть многое: и теплые лестницы, и неторопливые корабли Европы, и пейзаж, будто нарисованный чаем[105]».
Так говорила темноокая Лидия, отправляясь к чужим, а вернее сказать – к родным берегам.
И Застрахов затосковал: запил горькую.
2
Был Застрахов хмелен и несловесен девять дней и ночей.
И в первые дни пытались Муса и Шафиров вразумить, выдернуть голову его из-под волны заливающей, а потом отступились. Взяли на себя долю работы его, договорились потерпеть, не менять пока взрывоопасных чисел пускателей, и стали звать Марию, и разыскивать Даниила Застрахова. Но Даниил куда-то пропал и не отзывался, а Мария, придя, опустила голову и сказала, чтобы не искали брата, потому что в Вольгинске его нет, и не будет какое-то время. И согласилась ходить за отцом, а ночевать у него отказалась: сына без присмотра оставлять не могла и не хотела, чтобы видел он деда в непотребстве.
А на девятый день позвала соседей к отцу, прошептав, что вина, по счастью, душа его не принимает уже, но не знает она, что осталось у него за душой, и боится.
И, войдя, смутились Муса и Шафиров: завернулся Застрахов в лоскутное одеяло в глубине дивана, обхватив согнутые колени, и даже с порога видно было, как колотит его мелкая судорога[106], несмотря на летнюю жару вокруг.
А когда заговорили с ним, огляделся он и заплакал горько. А потом насупился, отвернулся и проговорил[107], заикаясь, что готов через сутки вернуться к работе – вот только в подвал больше не спустится и к трубе не подойдет, поскольку слышен в ней теперь иной, непривычный гул, или гудение – не отдаляющееся, как прежде, а будто бы настигающее. А по обоим берегам Волги всякому известно: дурной это знак – к покойнику.
Шафиров и Муса не стали препираться, не понукали завернувшегося: «встань, очисти одежды, перешагни скверну»[108] – оставили его с Марией и решили подождать еще день-другой.
В беде человек, говорил совоголовый Шафиров, и холодно одинокому[109]. Вот недели катятся одна за другой, словно волны Волги, и каждая приумножает богатство, и прирастает имущество[110], но, похоже, таков этот город Котор на берегу самого южного фьорда, что нельзя его обмануть, а сам он обманет любого и никого не отпустит. Вот и дочерей в свое время с Завражной унесло: Розу – на теплое море, Музу – на Северное; и уж если сам Петр Великий обманулся когда-то, послав в мореходную школу того Котора девятнадцать лучших юнг Империи, и не один из них потом не вернулся в Россию[111], – кто упрекнет темноокую Лидию, кому судить мужа, оставленного женой? Досыта напоено вином тело Застрахова, и душа пропитана ядом, но ведь голова его – чистое золото[112], и руки золотые, и когда для окружающих болезнь его – проблема, для него самого, может быть, – решение. Подождать день-другой – выветрится недуг, и вздохнет человек, и вернется – если только и в самом деле не послано кем-то, и не передано что-то всем остальным через хмельные слова его о трубе…
«Не знаю, – отвечал Муса. – По мне, все это – не больше, чем речи людские, суесловие и пересказанное колдовство[113]. Нет, конечно, таких на земле, кто не вздрогнул бы при звуке трубы. Разве не передано и твоему народу Писания, и людям Креста, и правоверным, предавшимся слову Пророка, – разве не сказано всем страшится дня, когда протрубит труба?[114]
Верно, конечно: пронеслись наши годы вдоль берегов Волги, как бы коней косящий бег[115], и до сих пор еще как будто скачут в глазах некоторых огни и плывут дымы каких-то дальних Империй. Но разве скажет кто, особенно в Вольгинске: вот пришел день, и одни покоятся с супругами на ложах в тени, а иные встают, поднятые трубой, озираясь, и не знают родственных уз, и не могут расспрашивать друг друга, но идут войной одни на других?[116]
Верно, конечно: наступили дни тяжкие, но время ли теперь судить, что хотели тем самым сказать, словно притчей, и кому послано?[117]
Ведь не сосед наш Застрахов пугал нас, но говорила болезнь в сердце его. И много ли проку гадать, если труба в подвале, как была – осталась ни горяча, ни холодна, и стоит приложиться к ней – слышен внутри все тот же упругий, убегающий гул, в котором опытное ухо безошибочно опознает поток?
Нет, не время теперь. И потому надо вернуться к трудам, словно ничего не случилось, и сделать так, чтобы никому не потерпеть убытка, и ничьи усилия не были тщетны».
Шафиров кивнул, помолчав, и сказал, что до сих пор даже в земле Израиля трубит витой рог, именуемый Шофар, лишь при обновлении года и в день Покаяния[118], напоминая о заповеданном.
И оба согласились повременить с отпусками и поездками к дочерям, и перекроить заботы, постепенно возвращая Застрахова в общее русло, и все-таки, несмотря на то, что Мария молчит и таится, разыскать сына его Даниила, чтобы стало теплее одинокому посреди окружающих.
А долю доходов Застрахова сохранили и еженедельно откладывали целиком, как если бы трудился он по-прежнему, не покладая рук, и руки его не дрожали.
3
Уже летом, на третьей неделе – скорее, чем думали, – вернулся Застрахов к размеренной жизни: к вину не прикасался и положенную работу исполнял аккуратно, хотя и не в прежнем объеме.
Однако неспокойны оставались Шафиров и Муса, потому что сделался Застрахов ни холоден и ни горяч, а как бы тепл, и вокруг себя глядел, словно сквозь тусклое стекло, гадательно[119].
И дочь его, Мария, принося ежедневно отчеты и графики, была немногословна и рассеянна, и не хотела говорить ни об отце, ни о брате Данииле – но однажды, прямо посреди текущих прений, дрогнули губы ее, и заслезились глаза, и потекла быстротечная речь.
И сказала Мария Шафирову и Мусе, по слову пословицы – беда не приходит одна: вот уже седьмую неделю разрывается она между тремя мужчинами, не считая сына, и в который раз откладывает свой отъезд в Нижний Новгород, где ждет ее хороший человек и давно зовет замуж, а ей и оставить отца невозможно, и на брата положиться нельзя, поскольку теперь Даниил будто бы и здесь, и не здесь, вроде бы поблизости, но не дотянешься – ведь никуда не уехал он, а случилась с ним беда.
И рассказала Мария, о чем молчал старший Застрахов.
В те дни, когда отцвели сады, и расстелились меж отцом и матерью дымы компании «Кирдымойл», и замаячили горы города Котора, явился Даниил к отцу после трехмесячного отсутствия, и заметно было, что рука его крепка и речь тверда, а глаза – хмельны и прозрачны.
И долго говорил Даниил, что тошно ему в Вольгинске, и нет сил отбиваться от жадных до чужого или ловить за руки вороватых, что вот сделал он прошлой осенью евроремонт в ближней церкви на Каравайной за счет фирмы своей, но все равно, когда приходит весна, и совпадает, как в этом году, Пасха с Первомаем[120], – не получается у него радоваться, и не научился он понимать, гуляя по улицам Вольгинска, то ли и в самом деле Христос воскрес, то ли Ленин до сих пор живее всех живых… А потом признался отцу, что не мог устоять перед тоской накатившей и нырнул в первомайскую ночь – по привычке – в казино…
Муса и Шафиров переглянулись, догадываясь, что последует дальше… Но все же долго молчали, выслушав задыхающийся рассказ Марии о том, как Даниил обдернулся на пиковом флэше[121] и прогудел к утру за игорным столом и все наличные, и старенький «Форд», и свой магазинчик в полуподвале. И счастье еще, что не успел проиграть квартиру, хотя остался должен и сверх того. А отец, разумеется, тут же отдал ему почти всё накопленное, но и это покрыло чуть больше половины. И тогда слетел Даниил по собственной воле в скорбный дом в Заречье, и теперь то ли впрямь лечится там от нервного истощения, то ли скрывается от кредиторов…
Никто не скажет, что и как обсуждали потом Шафиров и Муса между собой, о чем договаривались с Марией, чем убеждали Застрахова. Но через неделю выписали Даниила из клиники и, памятуя о том, как помог он всем троим в трудные дни, выделили средства из резервного фонда, чтобы выплатить остаток долга его и покрыть хотя бы частично убытки отца. И заикнулся было Даниил, нельзя ли, мол, выкупить назад бывший его полуподвал у новых хозяев, – но Шафиров был категоричен в отказе: ведь это означало бы заплатить за помещение дважды, а с учетом издержек и душевного расстройства – трижды. А Муса кивал, говоря, что нет лучшего болеутоляющего, чем время и деньги, и недостаток одного, как правило, компенсируется избытком другого…
И решил тогда Даниил покинуть город, лишивший его благорасположения, и уехать с сестрой в Нижний Новгород – и выделили обоим приличные подъёмные, чтобы можно было открыть новое дело, начать заново.
И на удивление быстро согласился Застрахов со всем, что происходило вокруг, хотя по-прежнему вглядывался в окружающее, как в мутное зеркало, раздумчиво. И сказал, что не станет, конечно, виснуть камнем на шее детей. И пусть будет холодно одинокому в Вольгинске, но ведь нельзя удерживать тех, кому давно надо было оставить неласковый город – тем более, что обещали они приглашать отца к себе, как только устроятся, а в будущем – привозить внука на лето.
И переглянулись опять Шафиров и Муса, увидев впервые за несколько недель подобие улыбки на лице Застрахова, но не признался ни тот, ни другой, что оба подумали об одном и том же – о последних звонках и письмах дочерей, полученных недавно из города Кириат-Шмона и города Тронхейм.
Письма, само собой, сильно различались в выражениях: Роза писала о белоснежных склонах горы Хермон и цветущей долине Хула, Муза – об арках старого моста над зеркальными водами реки Нид-Эльв, – однако схожими были мольбы, упреки, просьбы, обещанья.
Для обеих осталось непонятным, в чем состояли непредвиденные обстоятельства, которые помешали каждому из отцов взять отпуск и навестить дочь: Розу – в городе Кириат-Шмона, Музу – в городе Тронхейм.
Но главное, писали обе, если сила этих обстоятельств, как обычно, оказалась непреодолимой, – какие еще требуются доводы, чтобы усвоить, наконец, простую вещь: никогда никому ничего хорошего не принесут волны Волги?
Может быть, и правда – говорили дочери – жизнь отцов налаживается мало-помалу, но разве Вольгинск не остаётся Вольгинском?
Наверное, случается – добавляли они – кое-кому разбогатеть и на волжских берегах, но что делать нормальному человеку с достатком посреди Ветловых Гор, на обломках Империи?
И когда зовут, приглашают и ждут стареющих родителей в городе Кириат-Шмона на земле Израиля, и в городе Тронхейм посреди благоденствия Скандинавии – ждут давно, и зовут не в гости, а приглашают насовсем – можно ли так безответственно относиться к собственной жизни и позволять себе непростительную роскошь – загнивать в панельном доме номер девять на улице Завражной?
4
Между тем богател дом номер девять на Завражной, множилось имущество, и росло число его обладателей[122].
Степеннее сделалась походка тех, кто в сумерках выгуливал собак вдоль оврага, и замечены были новые питомцы редких пород в дорогих ошейниках, а по утрам выходящие из дома шокировали сонных прохожих модной одеждой, блистающей обувью, броскими зонтами.
И праздники как будто бы зачастили в дом, и даже по будням, к вечеру, всё чаще стекались к единственному подъезду разухабистые компании и заныривали внутрь, разливая смех и музыку через край ночи[123]. И скоро добрые соседи по Завражной перешептывались по секрету о голенастых вечеринках в девятом доме, о затейливых огнях в окнах, об уклончивых горничных в каждой квартире.
Не утихал ток в трубе; исправно прибывали платежи по путям, проложенным Мусой; и все, не исключая Застрахова, получали свое, наделенные по силам заботами, прибылью – по трудам.
И однажды признался Шафиров Мусе, что тревожно у него на сердце: вот уже и на добавочной парковке не хватает места для новеньких машин, и экспедиторы из роскошных салонов уже примелькались и наизусть знают адрес, а не живется некоторым в спокойном довольстве – так и не научились радоваться, кроме как на пирах посреди скороспелых гостей. И, похоже, перестали кое-где взвешивать дармовое и заработанное, и распирает их богатство изнутри, и похваляются уже завтрашним днем[124]. А, значит, нельзя поручиться, что не придут опять толпиться и роптать, не примутся толковать без толку, допытываясь, кто первый и кто последний, где доля от поделенного, и кто главный, чтобы наделять. Но хуже того и того страшнее, если кто потеряет веру, но обманется надеждой увидеть сокрытое и получить излишнее, да измучает сам себя бесплодным розыском или желанием донести на соседа.
И что будет, когда просочится тайна либо уйдет самотеком, и попадет в недобросовестные мозги или нечистоплотные руки?
Нужны, подытожил Шафиров, упреждающие меры: всему, что так или иначе будет изливаться, следует дать сток, отмерить канал, проложить русло. Проще говоря, не ждать пока случится утечка, а протолкнуть самим.
Муса же, взглянув исподлобья на совоголового соседа своего, сказал, что, может быть, в первый раз не понимает задуманного.
Скоро третье лето, торопливо прошептал Шафиров, как живет дом в ожидании того, кто якобы явится доискиваться и расспрашивать. И вот, по всем признакам, наступает пора развязывать узлы и встречать ожидаемое, ибо кое-кого уже сводит с ума молчание этих равнодушных пространств, а неразделенная тайна разъедает душу. И если на днях придет в дом человек – чужой, но не опасный – и заведет с жильцами душевные разговоры, любому сразу станет ясно, что он послан людьми внимательными и компетентными. И можно не сомневаться: многое будет рассказано такому собеседнику, да еще с благодарностью и желанием обогнать соседа. И не важно, каких наплетут сказок, а где выболтают – со страху или от жадности – правду. Важно, чтобы всякий, кому и в самом деле вздумалось бы донести на соседа, был уверен в том, что слово его дошло, куда следует. А поскольку каждое слово, даже и лживое, должно быть впоследствии передано в точности – посылать нужно человека надежного, близкого и проверенного. И тогда успокоятся беспокойные, а всё, что потечет, будет утекать в нужном направлении, под контролем…
«Дожили, – хмыкнул Муса, – должны были дожить и до шпионов. Вот стала мне труба ближе, чем яремная вена, и, может быть, правда, пришло время развязывать узлы – но не представляю я, где взять такого человека – для всех чужого, издалека, и настолько близкого, чтобы можно было доверять».
Шафиров помолчал и прошептал еще тише: подходящая кандидатура имеется, и даже знакома кое-кому в доме, но при этом замечательно, что никто не смог бы назвать её, потому что речь идет об известной журналистке с именем, а точнее, с девятью псевдонимами.
«Что же, – прищурился Муса, – никого другого нельзя было подобрать? И потом, разве не уехала она, как собиралась, в Нижний Новгород или в Самару?»
Шафиров не очень уверенно дернул плечом и принялся, как всегда, растирать пальцами лоб над бровью – и когда перстень его сверкнул два или три раза, пробормотал что-то: мол, собиралась, но не уехала, да и о том, кому поручить работу отбывшей Марии, тоже надо бы думать, не всё же самим волочить…
«Понимаю, – вздохнул Муса. – Дерзкая мини-юбка, изгибы, блеск прибрежной ракушечки… Видно, придется тебе, сосед, отвечать не только за бутерброды с ветчиной или рабочие субботы…»
Но Шафиров отвернулся к окну, откуда слышался теплый шелест летнего ветра в листве.
5
И вот слова, что говорил совоголовый Шафиров[125] своей визави, журналистке с именем, в высокой ресторации на прибрежных холмах, под тенистым сводом трельяжа, посреди девичьего винограда, в видах переливчатой волжской излучины соловьиным вечером:
«Широк берег, скоротечна Волга, и длительна дуга её, и не закругляются «Гламурамой». Вольгинск остается Вольгинском. И не для того случилось то, что случилось[126] в доме номер девять по улице Завражной, чтобы перетечь в телесюжет, радиоочерк, фоторепортаж.
Но вот – случилось, и приблизило незнакомку, и вот вокруг – ореховый сад, и цветники душистые, и зелень ложбин[127]. А Вольгинск остается Вольгинском.
Для чего же? Нетрудно сказать.
Оглядишься, и станет ясно: жизнь человека – никудышный информационный повод, а по обоим берегам Волги – какое-то непрерывное недоумение, вечный бег, и постоянное опоздание.
И вовсе не тот бег, который некогда живописал популярный классик в своих сновидениях[128]. И не о тех речь, кто успел убежать насовсем, а о тех, для кого Вольгинск остался Вольгинском.
Вот, скажем, приходит муж домой к вечеру после дневных трудов и глядит телепрограмму с головоломным названием «Время»[129] – и кажется ему, что он живет в какой-то огромной стране, которую омывают два океана, и где происходят большие события. А жена его тем временем скользит пальчиком по глянцевой обложке, и радуются глаза её каждому узелку от Луи Вюиттон[130]; и мечтается, чтобы новый ошейник её пекинеса так же подходил бы к сумочке и туфлям. И обоих опьяняют ароматы далекого коньячного дома.
Чего в этом больше – коллективного или бессознательного?[131] Откуда бегут они, точно персонажи в поисках автора[132], и куда – в недоумении – боятся опоздать?
Этого никто не скажет.
Но если кто приблизится и обратит стечение обстоятельств в неспешное повествование – сделанное будет уподоблено празднику. Ибо только то оправдано, что передано слову, и лишь тогда утешает, когда становится книгой.
Оглядишься, и станет видно: может, для того и случилось то, что случилось в доме номер девять по улице Завражной, чтобы стать чем-то вроде сказания, повести или саги.
И с тем нужно снова приблизиться к дому и сделать то, что хотелось сделать, но не так, как хотелось раньше. А явиться в один миг – как бы автор и персонаж, как бы режиссер и актриса вместе, – так что будет не интервью, а преследование, диверсия и контрразведка.
И некоторые спросят: кто эта, что поднялась от пустынных пространств, как бы столбы дыма, и воспаряет, дыша духами и туманами?[133]
А другие нахмурятся: кто эта, блистающая, как луна, откуда грозная, как полки со знаменами?[134]
И ответом будет – от обхода земли и обмера берегов[135]. И начнется разговор о правилах привлекательности и Луна-парке в Вольгинске, об американских психопатах и «Гламураме», а потом надо лишь приступить с простыми вопросами: кто первый и кто последний; где доля от поделенного, и кто главный, чтобы наделять?
И скоро оглянешься и увидишь многих, обратившихся в информаторов, и начнут слова укладываться сами собой, и забрезжит праздник повествования, так что все романы мистера Брета Эллиса будут стоить меньше, чем Зеро.
И, может быть, семь раз придется обойти с первого этажа по девятый, прежде чем приоткроется, как обещано, сокрытое, и лягут в ладони все нити скоротечные, и сплетутся в узлы, и станут в руках полотном многоцветным, или книгой.
И дрогнут потом самые толстые животы, крутые задницы и выдающиеся члены самых важных собраний, клубов и диаспор, но никому не дано будет различить, где лгала сказка, а где смущала быль.
И никому уже не позволено будет дотянуться сквозь текущие огни дальних столиц, и только репортеры столпятся, толкаясь локтями, умоляя об интервью или хотя бы о росчерке пера на глянце…
А тем временем – изумительно легковесным будет это время – останется лишь посмеиваться, вспоминая «Гламураму», оглядывая Вольгинск с роскошных суперобложек…
И пронесутся дымом все псевдонимы, но останется имя – одно имя, трепещущее на ветру литературной славы.
И в кровь искусает свои пухлые губки от зависти сама Роксана Гобски[136]…»
Так говорил Шафиров.
И, по слову его, она приблизилась к дому, и восходила, как бы столбы дыма, с этажа на этаж, но не с собственным именем, а с каким-либо из девяти псевдонимов. И приступала с вопросами, и подбирала слова, и донесла, передавая Шафирову, девяносто девять тысяч слов.
А потом, прежде чем прекратить дозволенные речи[137], опустила глаза долу и ладони на колени: и если невозможно – промолвила – увидеть или потрогать сказочный хронограф, оставленный благородным норвежским гостем, нельзя ли хотя бы узнать, к какому ювелирному дому принадлежал он – Шопар, Булгари[138] или все же Луи Вюиттон?
6
И вот имена тех, кто был осажден расспросами, и что было передано поименно.
Подблюдновы и Чихоносовы переуступили ночные смены Кочемасовым, а те, на приработках, начали оборудование студии звукозаписи прямо в квартире.
Сморчковы и Тимашевы стали пропадать по выходным – то ли в клубах, то ли в казино; семейство Агранян чуть ли ни еженедельно принимало у себя очередную делегацию армянской диаспоры.
Бирюковы, Волковы и Одинцовы отказались говорить сами, и никто ничего не мог сообщить о них.
Аргамаковы и Буртасовы переселились на дачи, почти перестали выходить на отмеренные вахты – поднанимали вместо себя через Можарских каких-то бездомных бродяг и проходимцев с Завражной.
Ушуевы, Любятовы и Невеличко сделались завсегдатаями массажных кабинетов, косметических клиник и спа салонов.
Каракорумовы, помимо домработницы, обзавелись поварихой, Сорокоумовы – садовником и сиделкой для сестры Полянской.
Урочковы приобрели гаражный блок на Ветловых Горах в складчину с Волотовскими, и зять их Сливченко устроил там автомастерскую, обещая первые дивиденды уже с осени.
Стали подумывать о переезде в хороший район Эрзяновы, и Зыряновы, вслед за ними, принялись подыскивать арендаторов для квартиры на Завражной, а Мордовцевы купили, будто бы для внуков Подлисовых, домик в деревне Заречья.
И только Бочашниковы ничего не тратили в Вольгинске, но каждые три месяца отправлялись в новый тур по Европе, и зачастили в Средиземноморье братья греки Адельфи.
И если кто и донес на соседа, то в пределах разумной самообороны, но больше шептались о каком-то взрывном празднике, приближающемся к дому, по обещанию Застрахова, вместе с днем города…
И не стал совоголовый Шафиров, как прежде, обходить этажи, а говорил лишь с некоторыми. И слова его были ясными, твердыми и острыми, как сапфир: смех глупых – говорил он – что треск тернового хвороста под котлом, и пронесётся дымом[139]. Одно дело – гости в доме, совсем другое – наемники пришлые, и не нужно путать туризм с эмиграцией, а место в среднем классе – с персональным лайнером.
Никому не простительно оставлять вахту без спроса и ставить чужих на работы.
Никто не уйдет безнаказанным, если явятся в дом незваные.
Никому не будет позволено самовольно покинуть Завражную.
Ибо все это, говорил Шафиров, – только гонка в недоумении и вечное опоздание.
И, подступившись, спрашивал смутившихся:
Откуда ждать помощи или ответа тем, кто пожертвует необходимым в надежде получить излишнее, и выйдет из общего дела?
Готов ли кто-то отсечь себе пути к дому номер девять на Завражной, и обратить жизнь свою вдали не в дым даже – а в тень, бегущую от дыма?[140]
Знает ли кто-то, какова цена вопроса и цена отсечения?
И, проговорив так, долго еще потом перешептывался Шафиров с Мусой, прохаживаясь вдоль оврага под шелестящими тополями: не стоит ли установить – вокруг да около дома, и по периметру, и внутри – новую круглосуточную систему видеонаблюдения, и прослушку на телефоны?
И оба недоумевали, отчего это не убавляется забот, и время не делается легковесным, хотя вот уже третье лето истекает, и всё растут нефтяные котировки на рынках, и благоприятны кросс-курсы мировых валют и перепады цен в портах Джейхана и Вентспилса, и не утихает ток в трубе; и прибывают исправно платежи, и каждый получает свое?
Но обоим было понятно, что главный разговор их – с Застраховым – впереди.
7
Собирались долго, и всё же решили рискнуть: выставили нефритовые рюмки и коньяк, хотя и поглядывали на Застрахова с тревогой. Однако уже третий глоток развеял все опасения: осталась рука Застрахова крепка, и речь тверда, а глаза заблестели мягко, без всяких признаков болезни.
Шафиров не преминул заметить, что сегодня пьют они нечто совершенно особенное: именно эта, крайне ограниченная, партия знаменитого коньячного дома получила золотую медаль Миллениума на всемирном конкурсе в Сан-Франциско[141].
И, как прежде, накрыло выпивавших теплой волной душевного разговора: стали спрашивать Застрахова, о каком это празднике нашептывают жители дома, и не задумал ли он чего-нибудь втайне?
А когда выслушали, прокряхтел Муса, как бы злословя: «Ёрмунрёкк!»[142].
Шафиров же спросил, нахмурившись, не залило ли в самом деле Вольгинск тенью дальних столиц, не затмило ли глаза соседу, и что за имена произносит он поминутно – Саша, Даша и Глаша?
И Застрахов насупился, а потом отвернулся и сказал: вот уже третий август на исходе с того дня, как прогудела труба, а время почему-то не делается легковесней… И просит душа большого праздника, чтобы не гостем явиться туда, не жадным до чужого, и не тем, кто приходит от обхода земли, – но хозяином.
Вот, говорил он, приближается по осени День Города, но Вольгинск останется Вольгинском: растечется праздник по руслам его, и соберутся горожане на площадях толкаться локтями и толковать без толку, и станут толпиться и роптать, и будет только голенастая пьянка, и недоумение, и цветастая горячка с опозданием.
И потому хочется сделать такое, что не под силу даже первым лицам, но чтобы разорвало от зависти самых влиятельных в собраниях, клубах и диаспорах. Ибо нет такого человека в Вольгинске – ни мужчины, ни женщины – кто не открыл бы рта от восторга, оказавшись на приеме с участием Саши, Даши и Глаши. И нет таких, кто не позавидовал бы званым, когда не приглашен сам. И не нашлось бы тех, которые не позавидовали бы завистникам, едва станут они называть имена званых.
Так говорил Застрахов, и переглянулись Шафиров и Муса. И дошло до них в невеселом изумлении, чего хочется их соседу: сделаться хотя бы на один вечер распорядителем пира и покровителем трех самых именитых красавиц, давно оглядывающих русские города с глянцевых обложек, – Саши Сволочковой, Даши Живодяновой и Глаши Субчак…[143]
И после нелегкого, но уважительного молчания промолвил Муса: «Не знаю. Мы, конечно, не братья Дубинины, и не похож я на Хаджу Тагиева, хотя и стала мне труба ближе, чем яремная вена. Но ведь и тебя, сосед, не сделала она инженером Семеновым или Игнасием Лукашевичем[144]. И зачем же желать славы чужой, кого удивлять, к чему опьяняться ложной надеждой?»
А Застрахов отвечал: разве не передано, что нет лучшей доли для человека, кроме как есть, пить и веселиться, наслаждаясь плодами трудов своих?[145] Разве не обещаны некоторым сады прохладные, где не иссякают источники, и щекотливое круженье красавиц, чей вздох сладок и свеж каждое утро?[146] Разве не болезнь – печаль? Ведь что было – было, а что будет – будет. И почему бы не быть в Вольгинске тому, чего еще не было, дабы утолились печали?
Шафиров же запахнул свой черешневый халат и осторожно предположил, что уважаемый сосед вполне представляет себе цену вопроса, но ведь тут возникает уже и не вопрос цены, а спрашивается, чем заманить Дашу Живодянову в Вольгинск, как подчинить её европейский график воле приглашающих, и каким образом дотянуться и свести в одном месте Сволочкову и Субчак, когда они на дух не переносят друг друга?
И снова нахмурился Застрахов и покачал головой: всё верно, но вот стоит лишь узнать двум вечным соперницам о визите Живодяновой в Вольгинск и о категорическом условии её, чтобы не было на приеме Саши и Глаши, – тут же и накроет обеих волной нежной дружбы, и явятся вместе, куда нужно по первому зову, потому что нет таких жертв, которых не принесли бы Саша Сволочкова и Глаша Субчак ради ревности своей к Даше Живодяновой. А поскольку пишут про Дашу, будто и в замке своего норвежского князя не забывает она ни дом, ни Волгу, ни родной город, – приглашать северную красавицу следует ни на светский раут, а на благотворительный вечер в пользу сирот Заречья, предупредив при этом: мол, две российские звезды, Саша и Глаша тоже согласились приехать, но не раньше, чем узнали, что мероприятие почему-то не сможет посетить Даша…
И нет сомнений, продолжал Застрахов изменившимся, горловым голосом, что соберутся все трое, как в старом анекдоте. Только к подготовке нужно приступать заранее, уже сейчас. А для начала попробовать разыскать благородного норвежского посланца Даши Живодяновой, который приезжал в Вольгинск по её делам и провел нежданным гостем несколько дней без памяти в доме номер девять по улице Завражной, где и был спасен от зимней беды…
И опять переглянулись Муса и Шафиров. Нельзя, конечно, сказал первый, запретить кому-либо грезить о несбыточном… Но ведь не было, добавил второй, никакого норвежского гостя в доме…
«Не было, – кивнул Застрахов. – Да только и самому мне порой не верится, что это с нами случилось то, что случилось. Может, и не было гостя, но должны же служить у таких звезд секретари, референты, помощники? Кто-то же занимался поездкой Даши Живодяновой в Вольгинск и Заречье пару лет назад? Разве не по силам и нам потянуть за те же нити, развязать узлы? Вот уже третье лето не утихает ток в трубе – и неужели все труды человека только для рта его? И для чего же случилось то, что случилось в доме номер девять на Завражной, если и теперь мы не можем обустроить праздника, какого еще не бывало в городе? Ведь не тот богат, чьё имущество множится, а тот, кому доступна радость. Но Вольгинск остается Вольгинском, и чем насытится душа на берегах Волги, где весна духовита, лето душно, осенью тошно, а зимою скучно?»
Помолчали.
Шафиров налил всем еще понемногу.
И заговорил неторопливо, вспоминая, как сказано было в одной волшебной русской повести: счастье и стыд не живут вместе – приходит счастье и прогоняет стыд, а гонимый стыдом не бывает счастлив[147]. И потому, может быть, прав Борислав Вячеславович, уважаемый сосед Застрахов: хочешь подманить счастье – попробуй прогнать стыд, а не уверен в счастье – устрой хотя бы праздник. Ведь вера есть ручательство о делах невидимых, а праздник делает видимым сокрытое. Прав сосед: своя у каждого печаль, а праздник должен быть общий, и радость одна на всех, как один на всех поток в трубе (да не оскудеет сила его!).
Вот уже третье лето катятся недели, словно волны Волги, и прибывают исправно платежи, но никто не скажет, сколько еще будет уделено дому номер девять по улице Завражной. И потому прав уважаемый сосед Застрахов еще и в другом: пришла, похоже, пора прокладывать новые русла, и нужно прислушаться к тому, что передано и послано – как притчей – словами, обстоятельствами и даже самим именем его.
Почему бы, качнул головой Шафиров, и в самом деле не быть в Вольгинске тому, чего никогда прежде не было, о чем по обоим берегам Волги всякий сказал бы: это не имеет места быть, ибо нет для этого ни места, ни времени?
Почему бы не выделить, наконец, время и место для праздника, на котором некому будет спрашивать, кто первый, кто последний и кто главный, чтобы наделять? Почему бы не устроить такой праздник, куда не стыдно было бы пригласить и дочерей уехавших: Марию – из Нижнего Новгорода, Музу – из Тронхейма, Розу – из городка Кириат-Шмона – даже если они не откликнуться? Во всяком случае, как сказано в другой волшебной повести, – пусть французской, и пусть по поводу совсем другого города, – это успокаивает и интригует[148].
А уж если задумано соблазнить на празднование, то есть запечатать в глянец, названных красавиц – Сашу, Дашу и Глашу – поспешность, неряшливость легкомысленность здесь не уместны.
Большой праздник – большая работа, и главное в празднике – воля и представление[149]. И должно быть взвешено в нем далекое и близкое, дармовое и заработанное, видимое и сокрытое. И, значит, потребуются не только время, место и деньги. Нужен еще помощник, секретарь, референт – словом, управляющий потоками, связной, человек, как бы отдаленный и в меру приближенный, чтобы можно было доверять…
И тут настал черед переглянуться Застрахову и Мусе, и обоим стало понятно: опять успел придумать что-то совоголовый сосед их Шафиров, и снова ведет речь об известной журналистке с именем, хотя не было произнесено ни одного из девяти ее псевдонимов.
8
И было девять вечеров и еще один вечер[150] затейливых прений, извилистых споров, весёлых препирательств в ресторации на прибрежных холмах, под зыбкой сенью девичьего винограда, уже по-осеннему медно-лиственного, в глубине переливчатой, но ещё теплой, как бы коньячной, сентябрьской тени.
И перед лицами троих умудренных соседей опять обнажались в улыбке и влажно мерцали зубки юной наперсницы. И если б можно было, Шафиров сказал бы, что они подобны стаду овец белоснежных, выходящих из купальни; Муса сравнил бы с гранатовым яблоком румянец щек её; а Застрахов просил бы уклонить от себя сумеречный взор[151]. Но никто из троих не смог бы вспомнить потом ни одного из девяти её псевдонимов, потому что уже не собеседница гламурная располагалась напротив, но союзница, соратница по заговору, журналистка с именем – грозная, как полки под знаменами.
И дошло до них, что если все-таки забыть о дальних столицах, то и среди сотен, даже самых малых, даже взятых наугад городов найдется много таких, чье имя или стены давно очерчены праздником либо расцвечены сагой – и только Вольгинск молчит и не отзывается. Вот, к примеру, Тронхейм, в прошлом Нидарос, был же когда-то гордой столицей Норвежского Королевства, где пировали викинги, покорившие полмира; или какой-нибудь, с позволения сказать, Кириат-Шмона у Ливанских гор – прославил же в земле Израиля русского офицера Трумпельдора; или крохотный Котор, бывший Акрувиум, чья гавань уже сотни лет принимает почтительную дань лучших мореходов Европы, поминающих тех, кого не вернуло море… И только Вольгинск остается Вольгинском, где некому молвить из табора улицы темной, и никому ничего не дано услышать в имени его – но лишь устрашает горожан и путешественников молчание беспредельных заволжских пространств.
А Муса говорил, смеясь, что дед его слышал от своего прадеда: стеклись как-то под Ветловы Горы у изгиба Волжской дуги волгари, мишари да булгаре, и притекли черемисы и чуваши, эрзя и мокша, и просочилась даже весь и меря, и прочая чудь[152]. И стали спорить, чтобы назвать новое городище. И препирались, чьи имена по Волге красивее[153].
Левобережные наседали: была, мол, Хохлома, но постарше будет Везлома, а еще древнее Чухлома. Есть Бабино, но есть и Гагино, а встречается и Какино. Стоят Каменищи да высятся Столбищи, а иногда – и Ендовищи.
А правобережные перечили: одно дело – Шалдёж, совсем другое – Елдёж, но случается и Шалдёжка. Бывают Овчары, бывают Бочары, но попадаются, однако, и Можары, и порою – Сноведь, а то и Шишковердь.
И толковали долго, но к общему толку не пришли, и назвали город, по имени одного из спорщиков – Вольгинск – просто, никому не обидно и всем понятно…
А Шафиров, улыбаясь, возражал: может, и было просто и понятно – но только шестьдесят недавних лет, во времена Империи, пока носил город имя, а вернее, псевдоним революционного журналиста, бывшего метранпажа захолустной типографии. А когда распалась Империя, и вернули Вольгинску наименование историческое, стародревнее – чуть было не потеряли лицо первые лица города, и едва не сломали себе языки, головы и шеи, – поскольку никто не мог ответить, как теперь жителей Вольгинска следует называть. Волжане? Общо и неточно. Вольгинцы? Нелепо. Воляне? Старомодно и странно. Вольгиногородцы? Громоздко и непристойно. Волчане? Неверно и жутко. И собирали даже большой городской совет с приглашением выдающихся членов самых важных собраний, клубов и диаспор. Но к решению не пришли и утвердили лишь официальное приветствие «Дорогие жители города Вольгинска», хотя и не договорились, какое определение считать более правильным: «славного города» или «вольного города Вольгинска». И еще в одном согласия не нашли: кому именно из жителей приличествует обращение «дамы и господа»…
А в ответ усмехался Застрахов: все верно – широк берег, скоротечна Волга, и длительна её дуга. И чем дальше уносит беседу по волнам имен, тем быстрее – прямо на глазах – сжимается Вольгинск и превращается в то, что ученые называют исчезающей величиной. Но не на этих ли землях испокон веков встречались Большой Север с Большим Югом? Не сюда ли, если верить просвещенным соседям, доходил знаменитый посол багдадского халифа Ахмед ибн Фадлан? И разве не здесь составил самый точный перечень рек и волжских притоков, разве не описал похороны норманнского князя, или же ярла, конунга, докатившегося до Волги мимо холмов Гардарики от своих просвистанных фьордов?
А раз так – что мешает представить, будто именно здесь, у Ветловых Гор, а не на вымерших равнинах, располагался полюбившийся историкам царственный Итиль – столица грозных хазар?[154] Кому под силу оспорить, что тут и завершилась некогда громкая хазарская полемика, был сожжен последний хазарский словарь и остановлено идолопоклонство волгарей? И коль скоро вера есть ручательство о делах невидимых – не всё же нынешним жителям Вольгинска плыть по течению, вглядываясь в перепады нефтяных цен в портах Джейхана и Вентспилса: можно подумать и о празднике неподражаемом – широком и долгом, как Волжская дуга…
И хохотали, изумляясь, Муса и Шафиров, и хлопали в ладоши, и поднимали бокалы.
Муса говорил: верно – чем хуже Вольгинск, если уж в Казани огораживали, точно плывун, собственноручно сооруженное тысячелетие, а когда докопались и раструбили по всему миру – взяли и в дни юбилея закрыли иногородним въезд в город, и даже Венера Мукадясовна, родственница, не захотела прислать приглашение или хотя бы выслать пропуск на машину? Чем хуже жители Вольгинска, и разве не найдется у них места и времени для собственного праздника?
И Шафиров говорил: верно – ловко скроено и складно сказано. Не зря голова соседа – чистое золото. И пусть не найдется в Вольгинске и трех человек, слыхавших о «Книге хазар» и, тем более, об авторе её, знаменитом еврейском поэте и враче[155], который жил в Испании, о хазарах писал на арабском, а погиб по дороге в Иерусалим, – быть празднику неподражаемым. Ибо в таком празднике взвешено будет тёмное и внятное, видимое и сокрытое, далекое и близкое. И встретятся в Вольгинске не только сквозящий Север и томительный Юг, но всякий званый, встречая праздник, невольно промолвит про себя – словно бы вспомнит – слова сладострастного испанского еврея: «сердце мое на Востоке, а тело приковано к крайнему Западу»[156]. А восхитительной собеседнице, союзнице, соратнице по заговору останется лишь сделать так[157], чтобы просочилось сказанное и ушло самотеком по надежным руслам, и упаковать потом переданное в глянец – но без суеты, ведь подлинное тщеславие меланхолично…
И недели не прошло: растеклось по Вольгинску и еще неделю наплывало волнами известие о каком-то закрытом приеме, благотворительном вечере, или историческом торжестве, якобы приближающемся вместе с Днем Города – якобы настолько эксклюзивном, что удостоят его своим появлением и Саша Сволочкова, и Даша Живодянова, и Глаша Субчак.
Дошла ли волна до первых лиц города, вполне ли доверяли они тому, что было передано? И да, и нет. Самые опытные и проницательные не могли указать источник сведений, о развилках истории с географией рассуждали уклончиво, и не осмеливались даже предполагать, кому в Вольгинске было бы по силам придумать, спланировать и выстроить подобное необычное ответвление обычного городского праздника. Очевидно, пошутил кто-то из острословов, речь должна была идти об очень значительной, но какой-то совершенно исчезающей величине. Многие, однако, с неприятным удивлением подтверждали: число звонков из столичных журналов и телекомпаний с просьбой уточнить программу пребывания в Вольгинске Саши, Даши и Глаши день ото дня угрожающе возрастало.
Представлял ли кто-нибудь из наиболее влиятельных горожан уж если не содержание, не смысл, не форму мероприятия – то хотя бы время и место? И да, и нет. Дата как будто бы не вызывала сомнений. Само же торжество оказалось настолько закрытым, что попасть на него можно было лишь по специальным приглашениям, и количество приглашенных объявлялось крайне ограниченным – неизвестно, правда, кем и почему. Между тем нашлись журналисты, которым удалось раздобыть программу празднования, где значились концерт, аукцион-сюрприз, фотографирование со звездами, автограф-сессия и роскошный ужин. Указывался вроде бы и контактный телефон, но при этом подчеркивалось, что условия бронирования, а также место и время приема будут уточнены дополнительно.