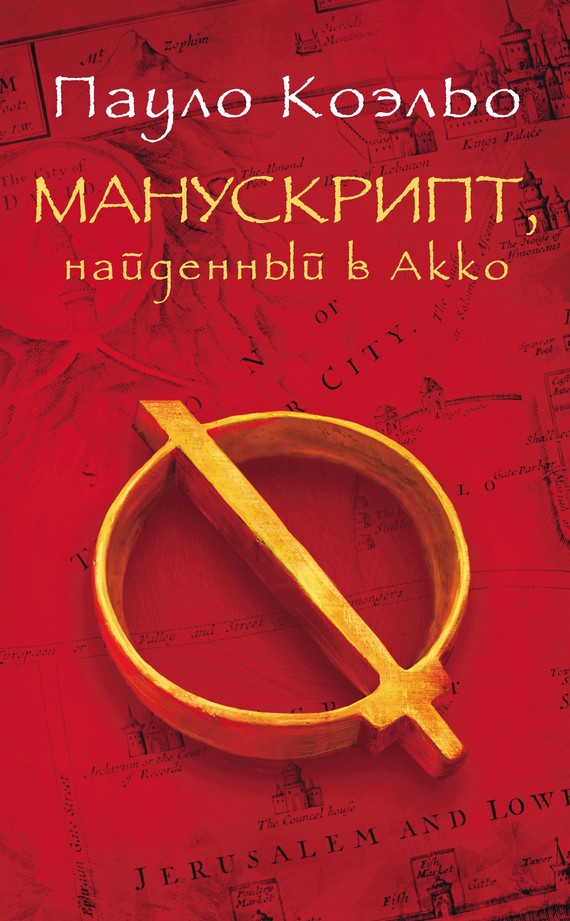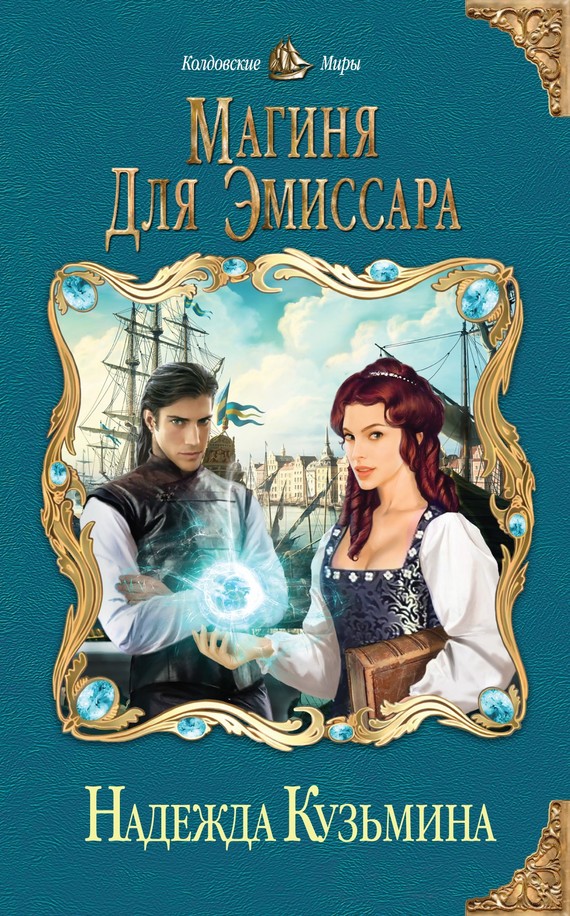Красный свет Кантор Максим

Он теперь просил всех подряд. Просил у Рихтеров, просил у жены Щербатова: «Вам, в вашем ведомстве, может быть – выдают? Пожалуйста». Он просил даже свою бывшую возлюбленную – пришел в ту самую квартиру, где прежде прятался: «Ты ведь любишь Пашеньку, достань нам пенициллин». Но бывшая возлюбленная подняла брови, поджала губы – она горько переживала обиду. И где же ей пенициллин взять. Сказала: «Вы уж как-нибудь сами. От души сочувствую».
– Помогите мне, – сказал Холин.
Господи, думал Холин, сделай так, чтобы помогли. Господи, спаси сына, Господи, прости меня! Я не верил в тебя, Боже мой, прости меня, Господи.
Он сказал Фрумкиной:
– Мне нужен пенициллин, не знаю, где взять, помогите.
Фрумкина поглядела твердыми вороньими глазами. Она презирала Холина.
– Придите в себя. Стыдно. Размазня.
– Сын болен.
Фрумкина спросила:
– Сколько лет ребенку?
– Пять. Началась скарлатина. Потом легкие. Воспаление. – Господи, зачем я все это говорю? Кому?
Вороньи глаза смотрели пристально. Фрумкина не поверила.
– Придумали про сына. Какой позор! Знаете, что немецкие фашисты убивают детей? – вдруг сказала Фрумкина. – Пока пьете водку и трусите, фашисты убивают еврейских детей.
– Доктор Розенблюм сказал, что у еврейских детей слабое горло. Вот и Паша заболел. Воспаление началось. – Он говорил невпопад и думал: что я говорю, Господи, зачем говорю? Они меня слушают и смеются. Оглянулся на сотрудников редакции; действительно, все на него смотрели.
– Не знала, что вы еврей, – сказала Фрумкина.
– Я не пью больше. Еврей, да. Какая вам разница! Как это – детей убивают?
– Убивают детей. Расстреливают детей немецкие фашисты. В Румбульском лесу расстреляли семь тысяч еврейских детей. Возраст до десяти лет.
– Где это?
– Неважно. В Латвии. Под Ригой.
– Детей убивают? – Он не понимал.
– Ступайте домой, к сыну. Пенициллина мало. Только для нужд фронта. Вы не можете достать пенициллин.
– А на рынке? Я ходил на рынок. – Он всем рассказывал теперь про рынок, оправдывался, что не смог достать лекарство. Но ведь старался. Холин каждому объяснял, что он старался. – Я ходил на Тишинский рынок. У соседей спрашивал.
– При чем тут соседи? Владейте собой, Холин. Вы мужчина.
Он заплакал. Нельзя было плакать, унизительно это, позорно. У всех на виду плачет бессильный человек. Стоял посреди комнаты и плакал, икал от слез, а сотрудники редакции на него смотрели. Сквозь слезы он глядел на их знакомые бессердечные лица. Смотрите, смотрите, как человека раздавили. Нравится вам?
Вернулся домой, а дома был доктор Розенблюм, сидел у Пашиной кроватки. Нос у доктора очень длинный, очки запотели. И не говорил доктор ничего, уколы мальчику делал, спиртом обтирал. Тельце у Паши стало тонкое, легкое, прозрачное. И глаз не открывает уже. Сидели втроем у постели: Люба, Розенблюм и Холин.
Холин несколько раз хотел сказать слова для Любы, но, сказав их про себя, понимал, что это глупые слова.
Ночью в дверь стали стучать. Розенблюм поглядел на Холина вопросительно.
– Это за мной пришли, – сказал Холин.
Когда рушится жизнь, рушится сразу все: война, сын, работа, арест. Фрумкина ведь предупредила меня, думал Холин, она сказала, что пошлет доклад. Теперь быстро приезжают: раскрыли конверт, прочли – и поехали. Пряничек мой, не увижу тебя. Не помог я тебе. Прости меня, пряничек. И беспомощный Холин вышел в прихожую. Пока поворачивал ключ в скважине, смотрел на свою руку – слабая, бесполезная, ничего делать не умеет.
За ним следом вышел врач Захар Абрамович, встал рядом:
– Если вам что-то нужно. Ну, вы понимаете.
– Я от отца отказался, – сказал ему Холин, – понимаете, от отца отказался. Когда страх пришел. Фотографию на пол бросил. – Ему было страшно от самого себя, и слова не выговаривались. – Это все уже потом… понимаете… дико мне, что я сделал…
– Успокойтесь. Если что нужно, скажите. Я останусь здесь до конца.
Холин открыл дверь.
– Покажите мне вашего сына, – сказала Фрумкина. – Покажите ребенка. Где мальчик?
Прошла без приглашения к кровати, отодвинула Любу, нагнулась над ребенком низко, вороньими глазами буравит белое личико. Даже пальто не сняла; пришла проверить – болен ли ребенок. Проверяет, как цензор, ищет в мальчике – как в статье, к чему придраться.
– Уйдите пожалуйста, – сказал Фридрих Холин, – вам здесь нельзя быть.
– Уходите, – сказала Люба. – Наш мальчик очень болен.
Не слушает Фрумкина, смотрит. Привыкла, что она везде главная.
– Вон, – сказал Холин. – Вон идите отсюда.
Фрумкина протянула вперед большой костлявый кулак, разжала. На ладони пять ампул.
– Пенициллин.
8
Вальтер Модель полагал, что все решится в ближайшие десять часов. Бой начался 28 января и длился две недели. Сам Модель находился в войсках постоянно.
Бои шли за остов любой избы; люди устали. Танки, пушки, лошади проваливались в болото – от взрывов лед на болоте трескался, и трясина вылезла из-под снежной корки.
Отто Кумм с полком общей численностью 650 человек занял позицию у деревни Клепенино, в пяти километрах от замерзшей Волги; неделю подряд полк отражал атаки свежих частей РККА, рвущихся на соединение с окруженными русскими дивизиями. Кумм сказал своим солдатам, что на этом участке решается исход битвы за Ржев. Отступить – значит не только отдать Ржев, это значит отдать жизни товарищей по 9-й армии. Товарищи поверили в нас, сказал Кумм. Надо выстоять.
Он сказал правду, на эту длинную неделю важнее участка на Центральном фронте не было. А потом эта неделя кончилась и настала другая, такая же тяжкая. Истребительно-противотанковая 10-я рота полка имела на вооружении противотанковые пушки числом двенадцать. Еще была 2-я рота тяжелых вооружений, эта рота состояла из взвода легких пехотных орудий и двух батарей штурмовых орудий. Имелась одна зенитная пушка – калибра 88 мм – пушку перевели в состояние настильного огня: бить по танкам. Требовался хороший канонир.
– Лейтенант Петерсон, рассчитываю на вас.
– Благодарю за доверие, оберст.
Оснащены были хорошо – но людей мало; силы неравны: помимо кавалерийской бригады у русских был танковый дивизион, две роты саперов и полк пехоты. Сергей Дешков четыре раза атаковал плацдарм Отто Кумма. Потом Дешков отступил в лес.
Танковый дивизион, который придали Дешкову, весь сгорел у деревни Клепенино. К 3 февраля противотанковые пушки лейтенанта Петермана подбили двадцать Т-34. Орудийные расчеты сменились трижды, сам Петресон был убит, но русские танки не прошли. 4 февраля появилось еще тридцать советских танков, остановились в пятидесяти метрах, начали стрелять по пехотным землянкам и пулеметным точкам. Через два часа в штаб полка «Адольф Гитлер» из расположения 10-й роты приполз человек. Это был ротенфюрер Иоахим Вагнер. Вагнеру помогли подняться, ввели в помещение. Тяжело раненный, с отмороженными руками, он попытался встать и доложить как положено. Упал и докладывал лежа на полу:
– Герр оберст, из моей роты в живых остался я один.
Кровь толчками выходила у него из горла, Вагнер замолчал, и 10-я рота перестала существовать.
– Кто пойдет к орудиям? – спросил Кумм.
– Герр оберст, где наша авиация? – спросил его капрал Нойманн. – Где эскадрилья Йорга Виттрока? Почему нет помощи?
– Так случилось, капрал, что Йорг Виттрок мой друг. Если бы майор Виттрок мог помочь, был бы здесь. Его нет, значит, майору тяжелее, чем нам. Значит, мы должны помогать ему. Еще вопросы будут, капрал?
– Никак нет, герр оберст.
– Кто пойдет к орудиям? – повторил Кумм и пошел к орудиям сам.
С ним пошли водители и повара; больше никого в полку не осталось.
Опять налетел с фланга Дешков, его всадники прошли батарею насквозь. Кавалерист Додонов полоснул капрала Нойманна по глазам, когда капрал поднял голову от защитного щитка. Отто Кумм не мог повернуть длинный ствол так, чтобы достать ближних всадников, – он ждал, пока Додонов зарубит Нойманна и пока лошадь не вынесет красноармейца на открытое пространство. Потом развернул тяжелый пулемет, навел прицел на кавалериста, пропорол Додонова очередью. Додонова вышвырнуло пулями из седла.
– К орудиям, – сказал Кумм. Живые еще оставались, слышали его приказ.
Нойманна сменил водитель Хаберль. Через десять минут Хаберль был убит.
– К орудиям, – сказал Кумм.
Через сутки тридцать советских танков сгорели.
Боялись атаки пехоты – на рукопашную сил не было. Но русская пехота не подошла. Уже в сумерках к русским подошла свежая пехота.
Когда стемнело, русских от штаба полка Кумма в Клепенине отделяло 50 метров. Ночь провели сжавшись от холода, готовясь умереть. Ждали последней атаки до утра.
Под утро русская пехота ворвалась на позиции, а из леса пришла кавалерия – красный полковник Дешков атаковал Кумма в шестой раз. Конники Дешкова растоптали последних солдат, державших батареи, орудийных расчетов больше не было. Пушки и пулеметы Кумма были взорваны. 2-я рота полка «Дер Фюрер» полегла до последнего человека.
В этот момент в Клепенино прибыл мотоциклетный батальон дивизии «Рейх». Ударили по русским с фланга, тяжелыми пулеметами перебили ноги лошадям; советские конники копошились в снегу – их расстреляли. Кровь на снегу сразу становится черным пятном – русские ползли в черной каше. Вдобавок на помощь Кумму были переброшены части 189-го дивизиона штурмовых орудий под командованием майора Муммерта. На позиции вышли минометы. Били по раненым в снегу.
Остатки кавалерии ушли в лес – спустя час конники опять пришли, не могли успокоиться; но конников осталось совсем мало. Последние кавалеристы прошли Клепенино околицей, ушли в дальний лес, чтобы избежать окружения. Кумм даже не стал стрелять вслед.
39-я и 29-я русские армии не сумели соединиться – плацдарм был закрыт германскими войсками.
Русские отошли; коридор прорыва, от Клепенина до берега Волги, пять километров черного снега – удержан, 29-я русская армия окружена. Вопрос нескольких дней – остатки этой армии уничтожить.
1 февраля Вальтеру Моделю присвоили звание генерал-полковника. Следующие две недели Модель доводил сделанное до совершенства, шлифовал созданный наспех шедевр. Написал обращение к солдатам, чтобы 18-го числа зачитать перед строем. 18-го парад был построен, он еще раз взглянул на текст.
Главнокомандующий Штаб армии,
9-й армии 18 февраля 1942 года
Солдаты 9-й армии! Мои испытанные зимой бойцы Восточного фронта!
После устранения прорыва западнее Ржева 9-я армия в тяжелых, неделями длящихся боях разбила одну из прорывающихся вражеских армий и полностью уничтожила другую.
В этом боевом успехе каждый командир и каждый солдат армии имеет свою долю!
Ваша готовность от командира до бойца к участию в боях доказывает, что мы превзошли русское оружие и солдат советской России, невзирая на продолжительную жестокость русской зимы.
Фюрер наградил меня сегодня «Дубовыми листьями к Рыцарскому кресту Железного креста». Я буду носить его с признательной гордостью за вас, солдат 9-й армии, в особенности за тех из вас, кто отдал свою жизнь за выполнение наших задач, и как очевидный знак вашей солдатской стойкости.
Ваша боевая выдержка в этой зимней войне, которая войдет в историю великого немецкого народа, дает твердую уверенность, что мы и в будущем успешно справимся с любым врагом и любой задачей, которую поставит перед нами фюрер.
Готовился выйти к бойцам; адъютант сообщил, что Отто Кумм явился в штаб армии с докладом. Услышав об оберштурмбанфюрере Кумме, генерал-полковник Модель вышел навстречу. Жилистый, статный, маленький, монокль в правом глазу.
– Благодарю за отличную службу, оберст.
– Люди проявили геройство, господин генерал.
– Знаю, что понесли потери. Ваш полк мне по-прежнему нужен, герр оберст.
Отто Кумм показал рукой в сторону окна, сказал:
– Господин генерал, мой полк построен.
Модель подошел к окну. На площади выстроился полк «Дер Фюрер» дивизии СС «Рейх»– тринадцать человек.
9
Соломон Рихтер написал Фридриху Холину письмо:
«Подходит конец нашему обучению, через месяц мы станем полноправными штурманами и стрелками-радистами. Нам объявили, что мы скоро едем на фронт. Пока неизвестна конкретная часть, где будем служить, но все уверены, что будем сражаться под начальством генерала авиации Голованова, человека легендарного. Александр Голованов славен тем, что ставит перед летчиками трудные задачи и показывает пример, как надо трудность преодолевать.
Думаю, скоро война закончится. Я чувствую в себе столько сил для приближения победы! И что самое главное, теперь я отчетливо знаю, зачем эта победа нужна.
Дорогой Фридрих, я благодарен последнему году: я смог сосредоточится и понять, ради чего идет эта война.
Хочу, чтобы ты знал: с первого дня войны я был готов отдать жизнь за Родину, за близких, за любимую Таню, за нашу Москву. Это было неосознанное, инстинктивное желание защитить свою страну, свой город и своих любимых людей. Верь мне, я высоко ставлю жертвенное сознание, которое ведет солдат вперед. Мои товарищи движимы желанием подвига во имя Родины, и думаю, это даст им силы для решительной победы над фашистскими оккупантами.
Но философ обязан сформулировать вещи очень точно, и я хотел предельно ясно понять, чем эта война отличается от любой другой войны, на которой убивают людей, а солдатам говорят, что они гибнут за Родину. Не столь давно была Мировая война в Европе, которую сумел остановить Владимир Ильич Ленин. И конечно, убитым на ней солдатам тоже говорили, что они гибнут ради своей Родины. Так ведь на первый взгляд и было. И во время Галльской войны Юлия Цезаря, и во время Франко-прусских войн, и во время войн Рима с Карфагеном – во все века солдатам говорили их генералы одно и то же. Я считал своей задачей понять, почему наша война с фашизмом – особенная. Это другая война, не такая, как все прежние войны.
Сегодня политработники много говорят о патриотизме. Заместитель начальника политотдела нашего училища капитан Халфин читает нам лекции о патриотическом характере войны, о том, почему данная война является аналогом войны Отечественной 1812 года. Капитан Халфин много говорит о том, что войны делятся на справедливые и несправедливые, на освободительные и захватнические. Эти лекции очень нужны курсантам, которые завтра будут на фронте. Но думаю, что с научной точки зрения лекции не представляют большой ценности. К моему сожалению, фашисты тоже, вероятно, считают войну, которую ведут, – освободительной. Гитлер, вероятно, убедил нацию в том, что немцы возвращают себе земли, которые у них отняли другие капиталисты. А потом Гитлер придумал аргументы, почему надо захватить чужие земли, несложно догадаться, что он сказал немцам: если они первыми не захватят земли русских, русские захватят их земли. И поскольку в истории было много войн, люди всегда верят в то, что лучше напасть первому, пока не напали на тебя, – и в этом смысле всякая война в какой-то мере выглядит как освободительная, даже если эта война захватническая.
Капитан Халфин не позволил мне возразить, наш политрук – человек, убежденный в своей правоте, отвергающий иные мнения. Возможно, он считает, что на войне нужны упрощенные схемы. Так, капитан Халфин настаивает на мысли, что Россия всегда вела освободительные войны, и сравнивает битвы с татарами с нашей сегодняшней ситуацией. И в этом пункте я, к сожалению, вижу досадную слабость политической агитации. Именно перед лицом смерти я хочу все понять. Именно потому, что я могу исчезнуть и скоро буду неспособен думать, я хочу понять, ради чего я отдам жизнь. И мне представляется неприемлемым желание дать упрощенную картину мира тому, кто завтра уже не увидит этого мира.
Я отказался принять схему. История, сказал я Халфину, – живая и не схематичная вещь. Я процитировал Гёте: «Теория, мой друг, суха, но зеленеет жизни древо». Ты, несомненно, помнишь слова Фауста.
Пример с татарским игом – во всех отношениях плох. Дмитрий Донской был классический феодал, действовавший во имя интересов своего класса феодалов. Его конфликт с татарами не исключал его сотрудничества с татарами на предыдущем этапе ига, его взаимодействий с Ордой и тесных контактов с правящей элитой татарского военного лагеря. Интерес Донского состоял не в освобождении русских людей от кабалы, но в создании таких условий для угнетения крестьянства, при которых русским князьям доставалось бы не меньше оброка, нежели татарским баскакам.
Война с фашизмом – совершенно иная. Нам с тобой, Фридрих, надо отчетливо понять природу этой войны, надо знать, за что мы отдаем жизнь. Война – так раньше думали, и про это, в сущности, пишет Клаузевитц, есть квинтэссенция истории. Когда Клаузевитц называет войну продолжением политики иными средствами, он, собственно, прямо утверждает, что война – есть предельное воплощение истории: в мирное время мы получаем продукт социальной жизни в разжиженном виде, а война представляет концентрат социальных законов, война есть наиболее полное выражение исторических интенций. Подчеркну мысль еще раз: по мнению большинства, история и война есть одно и то же, но война предъявляет историю в беспримесном выражении, это, так сказать, идеальная химическая реакция.
В таком случае проблема, стоящая перед человечеством, заключается в преодолении истории, в создании над-исторического общества, которое тем самым будет лишено войн. Это звучит неожиданно, не правда ли?
Однако тебе не покажется неожиданной та мысль, что коммунистическое общество (в котором, как мы знаем из «Капитала» и «Манифеста», уже не будет государства) – в известном смысле находится как бы вне истории. Уверен, что Маркс именно это, внеисторическое, а точнее, надысторическое состояние общества имел в виду, когда писал о «царстве свободы». Согласись, что человечество утверждало всякий новый этап своего развития – кровопролитной войной. Люди, точно дикие звери, выражают себя преимущественно через насилие. Даже благие пожелания отцов церкви находили свое выражение в жестоких Крестовых походах – напомню тебе кровожадные проповеди Бернара Клервоского. И что же скажем мы о Реформации, которая, как учит нас история, способствовала развитию промышленных отношений, но ввергла Европу в длительные гражданские войны? Признаюсь тебе, Фридрих, часто размышляя над Гражданской войной в России, над гражданскими войнами в Германии, Польше, Венгрии, которые прошли вчера, – я не смог избежать аналогии с реформатскими войнами, предшествующими Вестфальскому миру. Как бы я хотел дискутировать с тобой этот вопрос!
Я сегодня набросаю тезисы этой беседы, а после победы мы обсудим этот вопрос детально. По рукам?
Если история неизбежно движима войнами, а война предъявляет нам наиболее радикальное выражение исторических процессов, следовательно, человечеству необходимо от истории отказаться. Пусть лучше не будет никакого поступательного движения, нежели движение, утверждающее себя в убийствах! Как же так? – воскликнет сторонник линеарного развития, защитник хрестоматийного понимания прогресса. Ведь если остановить прогресс, скажет нам этот человек, тогда остановится наука, люди не будут производить новые лекарства, новых машин. Тогда и человеческая смертность будет расти, причем не по причине войн, но от варварства. Защитник прогресса предложит нам иной способ мышления: однажды, скажет этот защитник, произойдет некая финальная война, которая объединит всех, в последней победят наиболее прогрессивные силы, и тогда воцарится вечный мир, так как некому будет уже воевать. Так думал почти каждый император – и Александр, и Фридрих, и Наполеон, и даже Гитлер, я уверен, думает так же. Даже в моей любимой песне “Интернационал” поется: «Это есть наш последний и решительный бой!» – признаюсь тебе, Фридрих, – эта строка всегда мне казалась сомнительной. Объясню тебе, почему я так думаю. Фактически императоры говорят нам так: войны – это своего рода необходимый налог на прогресс; человечество собирает жатву жизней людей в качестве платы за то, что прогресс подарит другим людям продолжительность жизни новыми лекарствами, новой наукой, новыми открытиями. Война – есть налог на прогресс, с этой очевидной истиной спорить трудно. Не случайно после войн бывает подъем рождаемости, в ходе войн проявляются великие человеческие свойства – героизм, жертвенность, инициативность, – и эти яркие качества помогают прогрессу в дальнейшем. Война оказывается катализатором мира – люди платят высокий налог, а потом живут спокойно и хорошо. Можем ли мы придумать государство без налога? Можем ли мы придумать историю без войны? И главное: зачем придумывать то, что не может осуществиться, и отказываться от разумно-неизбежного?
Так вот, я не считаю войну неизбежностью. Война, как я думаю сегодня, утверждает не принцип исторических накоплений и приобретений (многие это называют движением и прогрессом), война утверждает принцип неравенства. Властный принцип неравенства люди прежде всего утверждают в мирной жизни, а потом им кажется, что они отстаивают свою свободу, в то время как они отстаивают иерархию социальных отношений. Армия и война, как я вижу это сегодня, прежде всего характерна иерархией – необходимым подчинением. Да, на войне надо беспрекословно исполнять приказы – но человека буржуазная жизнь доводит до автоматизма исполнения приказов и в мирное время! Он уже солдат задолго до того, как началась война. Ты помнишь фильмы Чарли Чаплина? Помнишь беспомощность маленького Чарли перед конвейером, перед бездушными людьми, действующими в угоду механизмам? Подчинить человека миру вещей, миру приобретательства, иерархии производственных отношений – это уже означает производство пригодного к использованию пушечного мяса. До того как убить на войне, они убивают в мирное время. Вот поэтому капитализм (и особенно империализм!) и есть преддверие войны. Капиталистические тирании создают в мирной жизни подобие военного лагеря заранее – они нуждаются в экстенсивном росте пространства рынка! А для завоевания земель требуется оправдание. Капиталисты постоянно изобретают военную угрозу, словно людям нельзя просто жить в таком мире, где существует равенство всех перед всеми, и где нет нужды в приказе и в подчинении. Мир – не должен быть военным лагерем!
Я уверен, что именно об этом мечтали наши учителя Маркс и Ленин. Они противопоставили войне – революцию, именно революция, только революция является тем огнем, который может потушить пожар войны.
Мой любимый поэт Маяковский говорит: «Да здравствует революция, радостная и скорая! Это единственная великая война из всех, какие знала история!»
Я скажу коротко – знаю, ты любишь афоризмы! Революция – это война бедняка. Война – это революция богача. Единственная, последняя война – это война за общее равенство, которое сделает невозможным войны в дальнейшем. Революция исключает войну в принципе. Вот в чем состоит наше радикальное противоречие с фашизмом – мы ведем бой за равенство людей. Они – за неравенство.
Именно революционная война за тот мир, который не будет знать ни Россий не Латвий (помнишь строчку?), и есть то, чего они боятся! Они испугались, что из мира уйдет иерархия, то есть уйдет военное положение, введенное уже в мирное общество заранее! Вот чего капиталисты боятся, вот из-за чего они производят пушки! Их пугает равенство людей!
Ты скажешь мне: но ведь культура предполагает неравенство, не могут все люди равно быть талантливы в музыке, врачевании, живописи, науке! Не могут! А значит, основания для неравенства есть, скажешь ты! На это я отвечу – но в любви и защите слабого люди равны! Поэтому величайшей революцией мира я считаю даже не Октябрь Ленина – но революцию Иисуса Христа, которого признаю теперь первым социалистом. Именно Христос произвел революцию по отношению к Ветхому Завету – уравняв всех людей в любви и взаимной заботе! Именно христианство и есть тот идеальный союз, который коммунистами был продуман практически, чтобы воплотить на нашей планете царство свободы. В этом – именно в этом! Ни в каком ином! – смысле мы можем говорить о «конце истории». Конец истории? Да! Но одновременно начало истории! Да, заканчивается история приобретений, заканчивается история экспансий и насилия человека человеком. Наступает пора взаимной ответственности. Это и есть революция – против войны. История – против прогресса. Я считаю Ленина и Маркса наследниками христианского прочтения истории, хотя, возможно, тебе покажется мой взгляд слишком упрощенным.
Ты спросишь: как же я трактую современную войну? Отвечаю: это Армагеддон.
Дорогой Фридрих, прости за длинное письмо – скоро я еду на фронт, и возможно, свободного времени для сочинения философских трактатов уже не найду».
Это письмо Соломона Рихтера, как и письмо предыдущее, было передано в Особый отдел – капитану Халфину.
10
Дешков поддерживал голову умирающего Додонова. Додонов смотрел прямо, не закрывая глаз, был в сознании. Боль делала взгляд тусклым, слепым, но Додонов еще жил, жизнь цеплялась за тело, задерживалась в умирающем человеке.
Говорить он не хотел: когда открывал рот, воздух проникал в простреленные легкие, и боль становилась нестерпимой. Додонов лежал на ледяной корке снега, и кровь сворачивалась от холода – поэтому тело жило дольше и боль иногда отступала.
Он не чувствовал ног, и правую руку не чувствовал, и боль живота и груди волнами сотрясала то, что осталось от существа.
Дешков искал, что сказать умирающему, но сказать было нечего. И Додонов не хотел ничего слышать. В те мгновения, когда боль не закрывала мир, он видел серые стволы деревьев. Потом боль накрывала его, и стволы слипались в серое полотно, закрывшее мир.
Дешков поддерживал голову умирающего и ждал, пока Додонов умрет. Пальцы замерзли, он устал держать голову, но Додонов еще жил. Додонов молчал, экономил силы, хотел прожить хотя бы на полчаса дольше, и это получилось.
Так прошел час, кровь вытекала медленно, но вытекла, потом наступила смерть. Серое лицо Додонова стало белым, окаменело. Глаза закатились, и Дешков, высвободив ладони из-под головы мертвого, опустил ему веки.
Подошел Мырясин, протянул перчатки:
– Отморозите пальцы, товарищ полковник.
– Спасибо.
– Будем двигаться на Ржев? Назад дороги уже нет. На Ржев?
– Да.
11
Андрей Щербатов прибыл в расположение 20-й армии в январе, когда наступление еще не захлебнулось. В январе 1942 года власовская армия была головным отрядом контрнаступления, имевшего целью окружить немецкие части в районе Можайска, Гжатска и Вязьмы. Была сделана попытка соединиться с кавбригадами генерала Белова в районе Середы и Сычевки, но действия эти успехом не увенчались – да и трудно везде успеть. Генерал Власов старался избегать авантюр, впрочем иногда получаешь такой приказ – хлеще любой авантюры.
Щербатов был командирован начальником Особого отдела армии – пост значительный. Лейтенант контрразведки Егор Фалдин предложил Щербатову чаю с дороги, но тот не ответил, даже не поблагодарил – только плечом пожал: какой может быть сейчас чай? Особист Фалдин поставил синий эмалированный чайник на стол, спросил, какие будут распоряжения. Никаких распоряжений у нового начальства не нашлось.
Щербатов чемодан поставил на пол блиндажа, шинель снимать не стал – сел у окна, он ждал немедленного вызова. Шло наступление, и всякая минута, как считал Щербатов, была важна. Он ожидал подробного разговора со старшими офицерами, ждал, что его введут в курс текущих кадровых вопросов, ожидал встречи с командующим армией, однако в штаб его не пригласили; времени у генерала не нашлось.
– Очень занят генерал? – спросил Щербатов у лейтенанта Фалдина.
– Журналистка у него, – сказал лейтенант Фалдин, который сам мечтал стать журналистом и сочинял иногда заметки, – француженка.
Генерал Власов последние три дня провел в разговорах с французской журналисткой, писавшей большую статью о русском фронте для американской печати. Эв Бенуа говорила по-русски с пленительными мягкими ошибками, которыми француженки украшают русскую речь. Присутствие француженки в генеральской избе, где быт был организован по-генеральски: с обильным застольем, непременной водкой, жирной пищей, хрустким огурцом, – придало походным будням шарм парижских кафе. В Париже генерал не бывал, но имел о городе представление, назвал Париж «серой розой», вызвав улыбку у милой Эв. Генерал также отозвался о былых русских военачальниках, которые живут сегодня в Париже, – о генерале Деникине, например. Хорошо уже и то, что белые офицеры не присоединились к Гитлеру – в отличие от Краснова. Впрочем, чего и ждать от атамана Краснова.
– Вы в Париже живете?
– О нет, сейчас живем в Нью-Йорк, это много больше, чем Париж.
– Милая Ева, я обещаю через год освободить Париж, и вы сможете вернуться домой.
– О, это слово солдата!
– Почему не пьете? Пейте! Это приказ!
– По-солдатски, да? По-русски?
И зажмурившись, с очаровательным страхом, залпом – всю рюмку.
– Сильная водка для сильных людей.
– Да, слабых не держим.
У генерала имелся переводчик, впрочем, Андрей Андреевич чувствовал собеседника: симпатия к молодой журналистке помогала преодолеть языковой барьер. Мадмуазель Бенуа писала о Власове как об одном из молодых командиров, чья слава быстро растет и который судит о войне со стратегической точки зрения. Рассуждая о стратегии войны, генерал Власов говорил о Наполеоне и Петре Великом, упомянул Шарля де Голля и Гейнца Гудериана, генерала вермахта, командующего германской 2-й танковой армией как выдающихся стратегов современной войны. Французская журналистка поинтересовалась, какие именно особенности видит генерал в современной войне – и, соответственно, в современной стратегии.
– Понимаете, Ева, в современной войне участвуют огромные массы населения. Идет, как подчеркивает товарищ Сталин, народная война. Это особенность нашего века. Военный лагерь сегодня – это вся страна. У нас всякий человек – солдат. В этом наша сила.
Эв Бенуа писала о том, что Власов видел в Сталине своего прямого начальника, как в военном, так и в политическом отношении.
– Вы, как многие русские, называете Иосифа Сталина – родной отец, n’est-ce pas? Он для вас pe`re Staline?
– В русской армии есть такая поговорка: слуга царю, отец солдатам. Так про генералов говорят. Иосиф Виссарионович – отец сразу всем, в том числе и генералам.
– Значит, pe`re Staline – отец генералам, а генерал – отец для солдат?
– Что вы, я так не говорил! Иосиф Виссарионович руководитель всех советских людей.
– Вы встречали лично своего отца – Сталина?
– С Иосифом Виссарионовичем встречался трижды и уходил окрыленным.
Андрей Андреевич был пьян. Объяснялось это тяжелой усталостью и отчаяньем. За последние три дня произошли изменения в дислокации Западного фронта. Приказом Верховного из боя вывели 1-ю ударную армию, армию отозвали в резерв Ставки. Жуков с Соколовским будто бы воспротивились приказу; во всяком случае, так рассказывали. Кто-то якобы присутствовал при телефонном разговоре – будто бы Жуков сказал, что вывод 1-й армии ослабит сразу всю группировку.
– Товарищ Верховный главнокомандующий, фронт у нас очень широк, на всех направлениях идут ожесточенные бои, исключающие возможность перегруппировок. Прошу до завершения наступления не выводить армию из состава правого крыла Западного фронта.
– Вывести армию без разговоров, – сказал Сталин и оборвал разговор.
Теперь на широком фронте, чтобы закрыть брешь, приказано было растянуть 20-ю армию. Три дня они потратили на то, чтобы перейти от наступления к обороне. Наступление на Гжатск стало невозможно.
– Голубчик, – сказал Шапошников, – ничего не могу сделать.
Генерал Власов пил водку, беседовал с мадмуазель Бенуа и думал о том, что он мог бы сделать силами своей армии, которая теперь обездвижена.
– Уходил окрыленным, мадам, – сказал Власов, вложив в эти слова много чувства. – Позвольте-ка вам предложить…
– О, генерал…
Пока генерал Власов беседовал с мадмуазель Бенуа, майор Щербатов осматривался на новом месте.
– Может, все-таки чайку? – подсел к нему особист с петлицами капитана. Лицо странное, глаза у капитана желтые, вбок смотрят. – Согреться с дороги. Меня Полетаев зовут, Константин.
– Тогда уж и поесть надо, Костя.
– Это мы раздобудем, мигом. Пойду разнюхаю. У меня на еду нюх волчий.
И верно, посмотрел на него Щербатов внимательно – похож капитан на волка, даже оскал у него волчий.
12
– Поправился мальчик, – сказал Моисей Рихтер. – У соседского сына, Паши Холина, температура упала.
– Основные трудности впереди. Надо воспитать достойного гражданина, чтобы он трудился на благо человечества, – сказала его жена, старуха Ида.
Ида говорила прописи страстно; Моисей Рихтер никогда не отвечал на подобные фразы, тихо уходил в кабинет. Квартира без сыновей стала огромной, длинные пустые комнаты. Моисей долго шаркал к письменному столу; придвигал рабочее кресло, зажигал лампу с зеленым абажуром. Прежде чем начать работу, долго смотрел на фотографии четырех мальчиков. Самый любимый сын, Саша, был сфотографирован в солнечный день, он щурился на яркий свет. На Саше была матроска. Вошла Татьяна, жена Соломона, постояла подле письменного стола.
– Скажите, Моисей Исаакович, а детей любят по-разному? – Она давно хотела спросить, но про погибших трудно спрашивать. – Вот говорят, что всех надо ровно любить.
– По-разному, – сказал старик.
– Вы какого сына больше любили?
Он показал пальцем.
– А почему?
Моисей Рихтер не ответил. Как объяснить? Нет таких слов.
– Он вернется, – сказала Татьяна. – Я именно про вашего Сашу думаю, что он обязательно вернется. И Соломон написал, такая радость! Опять будет большая семья.
– Нет, не вернется, – сказал старик.
– Почему, почему вы так говорите! Все бывает! Вот Пашенька Холин поправился.
– Он был такой… такой… – Старый еврей не мог подобрать слово. Татьяна подумала, что он ищет слово «совкий». У нее в семье говорили такое слово; «совкий» – это значит, что человек везде суется, неосторожный. А еще говорят «срывистый» – не удержишь такого. Вероятно, в семье Рихтеров таких русских слов не знают.
– Отчаянный, да? – подсказала Татьяна.
– Справедливый, – сказал старик.
Глава девятая
Заговор гибеллинов
1
Век демократии краток, я знал об этом из трудов Моммзена и Тацита. Когда германский народ в 1933-м голосовал за Адольфа, я предвидел, что терпения вождя хватит не надолго: он не желал быть консулом Августом – он хотел быть Августом-императором. Я убеждал его не спешить; великий Август был равен себе всегда – и разве в титуле дело? Чтобы создать вечный рейх, рассчитывайте на долгий Августов век, говорил я. Но он чувствовал, что времени ему отпущено мало, – и спешил.
Он поторопился ввести запрет на другие партии, и куда важнее то, что он форсировал переход к имперскому сознанию. Ах, как бы я хотел многократного консульства, плавно перешедшего в императорскую власть! Секрет современной политики в том, чтобы постепенно вылепить из любимца народа демократического императора, – комбинация более хитрая, чем византийская симфония в лице базилевса, сочетавшего духовное и светское главенство. Императора-демократа западная история ищет на протяжении всего существования, это труднейшая задача. Любимый массами консул, который вопреки своей воли венчается короной: ему предлагают, а он корону не берет, и наконец его насильно коронуют – вот к чему я вел Адольфа. Увы, Адольф спешил, хотел воплощения своих дерзаний немедленно – фюрер заказывал Шпееру имперские проекты городов, он полюбил пышную гвардейскую экипировку, ввел имперский этикет до того, как империя сформировалась. Спешил он напрасно.
Демократия со своими эгалитарными статутами, в конце концов, играет служебную роль – я ждал, когда в Германию сами собой вернутся монархические настроения. В том, что однажды это произойдет, я не сомневался. То был вопрос времени – а в известном смысле, вопрос пространства. Так и произошло – но, к сожалению, этот естественный предел, после которого монархия становится желанной, был перейден страной уже тогда, когда Гитлер провозгласил себя наследником императоров и в сознании нобилей стал выглядеть самозванцем. Он немного опередил естественный ход вещей. Едва пространство рейха приблизилось к границам Священной Римской империи, как германской истории опять потребовался император. Да-да, идея имперской власти сама соткалась в воздухе, едва Эльзас, Лотарингия, Силезия, Судеты, Австрия, Моравия вновь стали германскими. Едва Аахен и Реймс, Париж и Регенсбург собрались под единой рукой – руке потребовался скипетр. Они бы выбрали Адольфа сами! Они сами надели бы на него корону! Подожди, торопливый политик, не беги к Капитолию – тебя доставят туда на руках! Подожди, и Ломбардской железной короной увенчают тебя в Монце, Муссолини сам предложит тебе венец; и в Реймсе, в соборе Нотр-Дам, тебе воздадут императорские почести. Императору Римской империи короноваться надлежит трижды – и нарушить последовательность нельзя. Я приводил ему пример Наполеона и его тогдашнего придворного Шпеера – суетливого архитектора де Сегюра. Но Гитлер торопился, не хотел ждать, он взял корону сам. Адольф и не подозревал, что превысил свой масштаб, заявив о себе преждевременно, – ведомый собственной железной волей, он перехитрил сам себя.
Забегая вперед, скажу, что Сталину хватило сообразительности (природного чутья) удержаться в границах империи Екатерины – он не мог претендовать на большее, он был не авантюристом, но царем. Чтобы остаться русским царем, нельзя было брать больше – и он не взял. Чтобы пребывать демократическим вождем племени тевтонов, фризов, пруссов, саксонцев и вестфальцев, чтобы быть Арминием – надо было остаться в пределах большой Германии; едва Адольф приблизился к границам империи Шарлеманя, как потребовалась корона.
Я ждал момента, когда смогу возложить на него корону в Реймсе, по правилам Каролингов, вот тогда великая идея Запада оживет. Я с трепетом ждал – так ждет живописец, когда придет время последнего мазка, так скульптор ждет момента, чтобы нанести финальный удар резцом. Пространство обладает волей, оно ведет нас само, оно дышит великим замыслом.
Так случилось, что Гитлер оперировал понятием «пространство», трактуя это понятие схожим образом с моим знакомым (в какой-то мере коллегой по игре в любовь), профессором Хайдеггером. Для Мартина существенным было не пространство, но время, скажете вы, поскольку бытие выражает себя через историчность. Но Адольф понимал пространство (то есть место) в его экзистенции, иными словами, чувствовал историчность пространства. Для Адольфа «подручность» (любимый термин Хайдеггера: профессор толковал «подручность» как онтологическое определение сущего) – оборачивалась обоснованием его насущных претензий. Присвоить Адольф хотел лишь то, что выявляло его собственное историческое бытие. Его бытие-в-мире определялось ориентацией внутри-бытия-как-такового, если я верно воспроизвожу наши беседы с Мартином.
Как-то мы отдыхали в холле отеля, я заказал профессору и себе немного сухого шерри, мы сделали по глотку – и я поинтресовался, чем именно руководствовался профессор при вступлении в наши ряды. Мне лестно, сказал я, приветствовать партийца столь высокого уровня сознательности – но объясните свой выбор. Мартин ответил кратко: его впечатлил пафос, с которым феноменологический аспект бытия переведен в чистую онтологию.
Затем мы с Мартином перешли на разговор о дамах, он в превосходной степени отозвался о темпераменте Ханны, но его ответ касательно онтологии я запомнил хорошо.
Адольф алкал именно сущности вещей. Когда он говорил о «жизненном пространстве», он имел в виду нечто большее, нежели рейнские земли и Силезию, а когда убивал евреев, он уничтожал не столько самих евреев, сколько сущность еврейства. То, что Хайдеггер называл «бывшим бытием» (Gevesenheit), бытием, которое прошло, но которое нельзя отменить, поскольку оно присутствует всегда, – не давало покоя и Гитлеру. Он был из тех, кто не принимает настоящее. Адольф был инстинктивный враг феноменологии. Lebensraum, широкий пояс евразийского коридора, heartland, сердцевина земли, как сказал вместе с Хаусхофером англичанин МакКиндер, – для Адольфа являлась онтологизированной категорией пространства, оккупированного историческим бытием.
Мы с Адольфом жили во времени, которое растворяло в себе прошлое и будущее, оно было всесильным – беда состояла в том, что этого времени было крайне мало. Вспышка величия. Так, дойдя до пика горы, останавливается путник, озирая мир под собой, – помните картину Гаспара Давида Фридриха? Я не раз испытывал сходное ощущение, стоя рядом с Адольфом на балконах правительственных зданий, – мы глядели на военный город, а воображение фюрера уже рисовало широкие проспекты, музеи, колоннады; мы входили в империю – торжественный миг, самая волнующая страница истории, повремени, читатель, не переворачивай страницу слишком быстро. Разве ты не знаешь, что империи не стоят долго?
Коль скоро я вспомнил тот разговор с Мартином в отеле, воспроизведу наш диалог до конца. Мы говорили о Ханне, а когда наш боккаччиевский задор пошел на убыль, я спросил его:
– А дальше? Вы ее увезете?
Помню, я заметил, что у нас нет времени на бытие – может быть, осталось три года, может быть, пять лет. Не больше, нет, не больше. Я так чувствовал в те дни. Сочетание слов «время и «бытие» зацепило самолюбие университетского преподавателя, и профессор стал говорить длинные немецкие фразы. Как любил он эти ложные многозначительности: противопоставить warten и erwarten, «ждать» и «ожидать»! Он втолковывал, что «ожидание» есть уже конкретное представление того, что придет. Я прервал Хайдеггера.
– Я знаю, что будет завтра, – сказал я. – Грядет конец. Очень скоро все рухнет. Начнется с монархического заговора против Адольфа. Выразитель воли народа никому не нужен. На этом эпопея Третьего рейха закончится; неважно, что конкретно нас погубит, – английское лицемерие, германское долдонство, русское варварство. Скорее всего, совокупность причин. Начнется с монархического сознания – и дальше все сложится само собой.
– Вы не годитесь в авгуры, Ханфштангель.
– Сказать, что будет дальше? Я умру в тюрьме, Ханна – в эмиграции, вы, профессор, – у себя на даче, вдали от бурь. Warten und erwarten? Ожидаю распада. Но сказать, что я жду этого? Всеми силами стараюсь распад предотвратить.
– Что вы такое говорите? – усики профессора встали дыбом.
Приближенный Адольфа мог себе позволить крамольную фразу, я мог сказать о зреющем заговоре и грядущей гибели рейха, но верноподданный профессор такого позволить себе не мог. Он округлил свои небольшие глазки. Он стал говорить привычные всем длинные фразы – речь шла о придании смысла зияющей пустоте времени, о том, как духу деятельного труда укротить Хроноса. Профессор был настроен позитивно.
А в меня уже тогда вошел страх. Я предчувствовал: Адольф не завершит намеченного мной – ему просто не дадут.