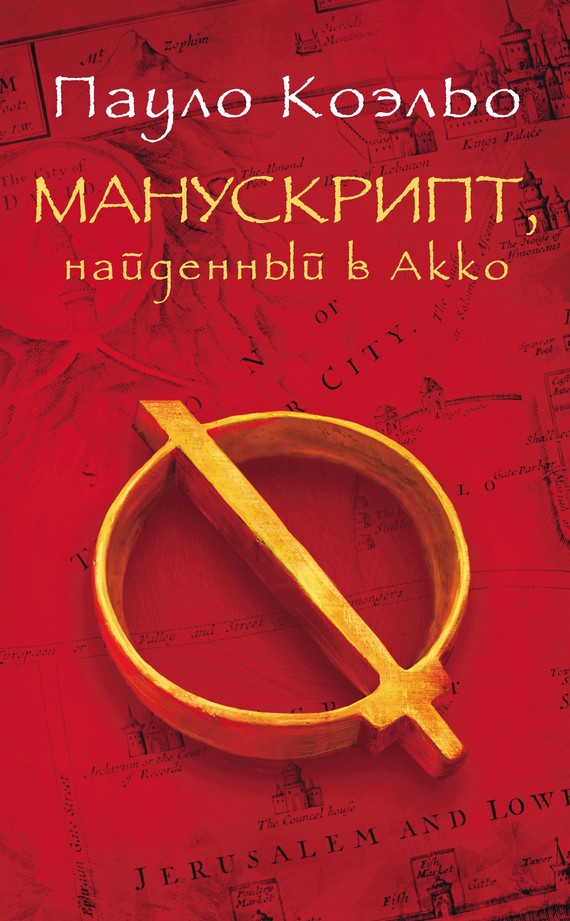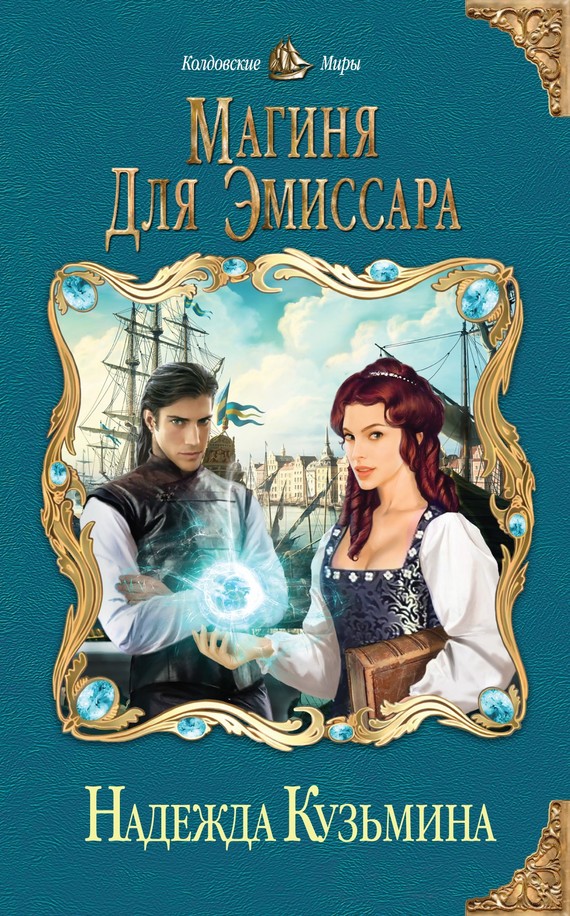Красный свет Кантор Максим

– Каждый отвечает за свой участок работы. Охранники делают свою работу, комендант – свою. И заключенные делают работу. Тяжелая работа, согласен; сегодня у всех тяжелая работа. Война.
Адъютант не уточнил, что работа в этом лагере (как и во многих других) заключалась в бессмысленном труде – переносили камни и балки с места на место. Только малая часть пленных была занята на строительстве моста через Волгу. Некоторых заключенных использовали для строительства бараков; впрочем, в иных лагерях – в том числе в Ржевском лагере – под бараки использовали готовые помещения, никак эти помещения не утепляя и не закрывая открытых пространств. Часто это были просто огороженные проволокой загоны – если не требовалось, как в случае с удушением евреев, особых технологий. Некоторых заключенных использовали для рытья могил. Но общая масса должна была заниматься бессмысленным тяжелым трудом – они носили тяжести из конца в конец лагерного двора. Так придумали нарочно, чтобы убить людей. В совокупности с голодом и холодом эта мера давала высокую смертность.
Подобно врачам на обходе палат с умирающими, адъютант и комендант лагеря обменялись понимающими взглядами.
Адъютант не задал вопроса, но комендант кивнул: да, в день умирает примерно 60–70 человек, это нормальный показатель по пенитенциарным заведениям. В Майданеке тысячами душат, в Биркенау ротационная способность огромная – так что мы здесь рекордов не ставим, но показатели держим. Перетаскивание тяжестей в сочетании с морозом помогало держать показатели на хорошем уровне – вот и все.
Я знал статистику из отчета Маршалла.
«Опыт показал, – писал полковник Маршалл в отчете, – что число смертных случаев в 240-м пересыльном лагере в Ржеве в значительной мере зависит от холода. Так, в чрезвычайно холодные дни с 5-го по 12 декабря оно выросло до 88—119 человек в день. А с ослаблением холодов в декабре снизилось до 98–62 человек. Затем, с наступлением оттепели, количество смертных случаев сократилось до 47 человек. С возобновлением холодов кривая смертности постоянно шла вверх. Статистика следующая: 23 ноября комендант принял из 7-го армейского пункта сбора военнопленных 5582 человека. Всего между 25 ноября и 14 декабря умер 1191 пленный, то есть около 22 % от общего числа заключенных дулага № 240».
Это был средний, далеко не самый драматический показатель; повторяю, в целом смертность достигала 57–65 %. Скажем, в дулаге Вязьмы смертность составляла 350 военнопленных в день. Однако и эта цифра видится не самой радикальной. Собибор мог бы предложить нам еще более высокий уровень. Разумеется, в целях объективности я должен признать, что ни один лагерь в иных странах (включая, разумеется, сталинские лагеря) такой статистикой похвастать не может.
Лазарет в лагере № 240 действительно имелся, комендант нам не лгал. Он лишь дал неточную информацию по поводу порядка размещения в лазарете. «В лазарет, – согласно докладу Маршалла, – помещают только таких больных, которые, согласно медицинскому заключению, еще могут выздороветь. Те больные, которые не имеют надежды встать на ноги, как ни сурово это звучит, должны ожидать своей участи в прежнем бараке». Этим и объяснялся тот факт, что нижний ряд людей в спальном бараке не шевелился. «В декабре 1941 года пленные в среднем получали в день 300 г хлеба и 30 г конины», – сообщает Маршалл. Хлеб заключенных («русский хлеб») состоял на 50 % из ржаной муки, на 20 % из целлюлозной муки, на 20 % из свекольной ботвы, на 10 % из листьев и соломы.
Графиня фон Мольтке получила отчет о лагерном питании и читала эти данные, надев очки. Кое-что она читала вслух, чтобы слышала Елена. Адъютант светил фонариком на бумагу. Рудольф Мэкер притоптывал ногами в легких сапогах: мы все уже стали замерзать. Пора было идти к автомобилю.
Что касается судьбы заключенных, меня в увиденном сегодня не удивило решительно ничего – я знал общую установку Адольфа. Советские пленные должны были погибнуть. Да, некоторых это шокировало. Некогда Макиавелли писал: «Люди всегда защищены от смерти – доспехами, когда сражаются, и сдачей в плен, когда сражаться не могут». Сегодня мы опровергли Макиавелли.
Адольф составил уравнение, которое вызубрили мы все: еврей-марксист-большевик-русский. Любая часть этого уравнения спорна, но в целом оно стало аксиомой. И кривляка-публицист Розанов, который порой сравнивал два народа, не сумел бы сделать большего. Отныне судьба русских пленных была решена.
Они замерзали насмерть и дохли от тифа. Когда окоченевшего больного человека заставляли нести бревно, человек ломался как сосулька. А их заставляли работать.
Над воротами Ржевского лагеря, как и над воротами Освенцима была укреплена надпись «Arbeit macht Frei» – «Работа делает свободным» – буквы были вырезаны из кровельной жести и соединены проволокой. Глядя на эту надпись, доходяги переносили бревна. Концепция трудовой повинности напомнила мне о Мартине Хайдеггере.
12
Труд делает человека свободным – это совершенно хайдеггеровская мысль.
В своем выступлении перед студентами Фрайбургского университета (помню, Елена и Ханна заставили меня пойти и слушать эту речь). Хайдеггер опроверг противоречия труда и капитала, сформулированные Марксом, Мартин посмеялся над постановкой вопроса. Хайдеггер показал, что труд – есть единая и цельная мистерия бытия, есть общий неразъемный процесс: и банкир и рабочий – суть со-участники общей мистерии, но никак не антагонисты. Хайдеггер настоял на том, труд не может оскорблять рабочего, он позволяет ему принять участие в том великом деле, которое сплотило нацию. В сущности, Юнгер в своих сочинениях повторил эту мысль.
Данное определение труда Хайдеггером лежит в основе различия гитлеровских и сталинских лагерей. Не следует путать цели пенитенциарной системы Адольфа и большевистские лагеря – социальная философия различается. Не перевоспитание через труд, как то декларировали большевики в своих трудовых лагерях. Сталин тщился сделать из уголовников ударников коммунистического труда. Никто не собирался перевоспитывать славян или поляков, работавших на наших рудниках. Разве они могли бы в процессе труда стать не-поляками? Это исключено. И уж вовсе сомнительно перевоспитать трудом еврея. Вы скажете, что евреев никто и не старался особенно приобщить к труду. Это верно, их сразу отправляли в газовые камеры; но некоторым все же приходилось вооружиться кайлом и лопатой и поработать, хороня своих соплеменников. Существовали еврейские команды, выполнявшие обязанности надзирателей по отношению к прочим евреям. И что же? Была ли надежда на то, что они станут иными, сделаются не-евреями, оттого что вошли в общий трудовой процесс? Ни малейшей надежды.
Чего же мы ждали от труда?
Еще раз и медленно: труд не есть унижение, как то считал неопрятный еврей Маркс. Труд не есть перевоспитание, как то считали комиссары в Москве.
Труд – это в чистом виде субстанция свободы.
Понятие труда как мистического действа – его передал нам Хайдеггер.
Впоследствии, живя в Лондоне и общаясь с литератором Ройтманом, я услышал от него стихи другого еврейского барда, Бродского. Звучали они так:
- Маркс в производстве не вяжет лыка,
- Труд не является товаром рынка,
- Так говорить – оскорблять рабочих.
- Труд – это суть бытия и форма,
- Деньги как бы его платформа.
Как верно понял этот поэт (хоть иудей, но талантливый ученик англосаксов) самую суть труда. Мистический процесс, не расторжимый на части, – вот что имел в виду Мартин. Пусть один человек генерал и командует войском, а другой человек чистит ему сапоги; и что же? Они оба участвуют в мистическом действе. Не следует тому, кто катит вагонетку, считать себя униженным. Труд – един! Вспомните книгу Юнгера «Рабочий», вспомните речь Геринга на заводе Круппа в Эссене! «Крупп, – сказал в тот день Геринг, – это и есть подлинный образ труженика».
Не унижение трудом, не отчуждение продукта труда, отнюдь, мы отвергаем эту марксистскую выдумку – Мартин считал, что корень марксистского зла именно в этом догмате об унижении рабочего. Приобщение к общей трудовой мистерии – вот что такое концлагерь в Германии.
Большевики тщились перевоспитать наказанных, желали получить пользу от каторжного труда узников. Посылали их рыть канал – бесчеловечная азиатская выдумка. Но нам не нужна была польза от каторжного труда, и перевоспитывать каторжан мы не собирались. Германский концлагерь помещал людей в состояние высокой мистерии работы – в мир перманентной свободы, как ее понимали Хайдеггер, Юнгер и Геринг.
Доходяги перетаскивали камни туда-сюда, с места на место. Но разве не о том же пишет Камю в своем изящном эссе о Сизифе? Сизиф, который вечно катит камень в гору, а камень всегда вырывается из рук, вынужден повторять все снова и снова. Камю бодро заключает, что следует представлять себе Сизифа счастливым – ведь он совершает бесконечный подвиг усилия! Пока он катит камень, Сизиф может думать о вечном, а в переливах кварца – видеть звезды Вселенной, уверяет Камю. Сомневаюсь, впрочем, что умирающие видели звезды Вселенной в кирпичах, которые переносили с одного места на другое. Труд и холод убивали их быстро, они не успевали присмотреться.
Имел ли Хайдеггер в виду буквально опыт концлагерей, мне неизвестно. Ханна Арендт сделала все, чтобы оправдать былого возлюбленного. Много после войны, когда я уже жил у американцев, она приезжала в гости к Мартину; кажется, они даже научились ладить с его женой. Ханна написала много книг, бичующих тоталитаризм, и сделала много для того, чтобы сравнить нацизм с большевизмом, особенно на стадии концентрационных лагерей.
Нахожу, что в своем – таком извинительном! – рвении спасти честь своего возлюбленного и уравнять нацизм с коммунизмом, Ханна пошла на некоторые неточности. Например, Ханна совершенно исключила из анализа тоталитаризма феномен войны – этот пропуск делает ее работу наивной. Впрочем, тут же оговорюсь – разве Шпенглер не выбросил из анализа культур – христианство? Для удобства схемы надо всего лишь исключить самое важное, дальше дело пойдет легче. Мы воевали всегда; вне войны нет истории народа, а партия – это военный штаб для Адольфа и для Сталина. О чем же говорить, если не о войне. Но и это не все – милейшая Ханна так старалась, что искажала факты не хуже Геббельса. Я слишком горжусь тем усилием, которое сделал однажды, чтобы стесняться унизительных подробностей. Полагаю, моя позиция тем тверже, чем она честнее и документально строже. Нет, большевистский лагерь не был похож на лагерь нацистский – это две несхожие конструкции.
Да, в сталинских лагерях сидели и перевоспитывались (или расстреливались) враги народа, а в гитлеровских лагерях умерщвляли тоже врагов народа – но метод определения врага народа был иным, разным. Для большевиков врагом был так называемый эксплуататор и контрреволюционер, саботажник и вредитель – для Адольфа врагами прежде всего являлись расово неполноценные. Коммунисты – тоже враги, но потому лишь, что коммунисты настаивают на равенстве людского племени, а эта доктрина губительна для цивилизации. Этого мы принять не могли.
Принципиальная разница в политике умерщвления врагов выражалась в том, что кулак или белогвардеец теоретически мог быть перевоспитан; но перевоспитать еврея невозможно.
Соответственно, организация лагерной системы была совершенно иной. И, когда некоторые деятели сегодня, в безудержном благородстве своем, в желании обнять зло единым взглядом, сравнивают и объединяют оба метода – я как честный хронист обязан возразить. Мы знали, что делаем, мы отдавали себе отчет в поступках – и зачем же postfactum принимать подачки от истории, уравнивая базарное классовое чутье с железной логикой расового истребления.
Лагерей двадцатый век породил великое множество: помимо так называемого ГУЛАГа, были американские и японские лагеря, лагеря Лаоса, Вьетнама и Северной Кореи (в последних теория «перевоспитания» использовалась с большим задором), были лагеря Салазара и Пиночета, венгры знают про лагерь в городе Речк, а сербы помнят Голи-Оток; существовали лагеря военопленных во время Первой мировой войны – и в изобилии. Лагерная система, охватывающая всю страну, возникла в революционной России с размахом, дотоле невиданным, – она была направлена на искоренение враждебных классов, и практически одновременно в германском рейхе возникла сеть концентрационных лагерей, предназначенных для убийства людей низшей расы. И не надо в этом пункте колебаться – прочь застенчивость. Да, мы их не перевоспитывали, не отсекали от общества, не подвергали унижениям – мы их убивали как скот.
Я знаком с попыткой историка Эрнста Нольте объяснить ликвидацию по национальному признаку – реакцией на террор по классовому признаку; соблазнительно считать ликвидацию евреев – паритетным ответом на ликвидацию помещиков и кулаков. Так сказать, вызов истории – и тут же ответ, если использовать терминологию еще одного историка, Арнольда Тойнби. Это соблазнительная уловка, но я вынужден отвергнуть и эту уловку. Да, в сталинских лагерях многие гибли от невыносимых условий и многих расстреляли по ложным обвинениям; но там не уничтожали всех мужчин, всех женщин и всех детей как представителей одной нации, обреченной на тотальное истребление. Этого не было никогда и нигде. Это не равновеликий, не симметричный ответ. Мы убивали всех и перекрыли все показатели сталинских репрессий. Я не стесняюсь этой арифметики. И знаете, что впоследствии сделало сталинский режим уязвимым? Я расскажу об этом подробнее, сейчас лишь ограничусь словом: полумеры. В тридцать седьмом арестовали почти миллион человек – но в тот же год и вышли из лагерей 364 тысячи. Это как понять? Их перевоспитали? Или из них готовили ту саму пятую колонну, которая потом развалила несчастный Советский Союз, колосса на глиняных ногах? Сталин не сумел наладить репрессивную машину – ему приходилось постоянно оправдываться за необходимое насилие, врать, выдумывать каких-то несуществующих шпионов. И как результат, через тридцать лет он получил государство лицемеров. Да, на строительстве Беломорканала гибли заключенные – из 170 заключенных на строительстве канала погибли 25 тысяч человек. Извините, не понимаю. То есть за полтора года 15 %? А потом 145 тысяч выйдут на свободу и будут кривить рот при виде портрета усатого вождя. Этот реверанс вы, Иосиф Виссарионович, сделали кому? Фейхтвангеру? Брехту? Роллану? Полю Робсону? И вы надеетесь на успех режима?
Гитлер ясно сказал, без кокетства: уничтожить всех. И логика создания рейха нас к этой черте подвела.
Германская государственность может существовать лишь как прусская государственность, во всяком случае до сих пор было именно так, – именно эту прусскую идею Адольф и подхватил. Я позволю себе внести ясность в понимание роли Пруссии – здесь не должно быть ошибки. Возвышение Пруссии и объединение романтических княжеств под властью железного Канцлера было связано с антинаполеоновским, то есть антиреволюционным движением. Дух германской государственности – это дух антиреволюционный по определению. Состояться немецкое государство может только через подавление европейской революции – иначе это будет какое-то иное государство.
Ах, бедные мои романтики, любители безопасных революций, салонного авангарда, дармовых коктейлей и уикендов на чужих виллах! Вы, которые трепещете ноздрями при словосочетании «пакт Молотова – Риббентропа»! Поверьте старому человеку: Польшу захватили совместными усилиями ровно на том же основании, на каком в 1831 году объединялась Пруссия с Россией для подавления польских мятежей. Это логика империи, это логика большой войны, это логика централизованного управления – и Польша была обречена.
Евреи и марксисты являлись родовыми врагами Прусской государственности, и они должны были уйти с дороги. Столь же неумолимой, как расправа с природным врагом в животном царстве, была расправа с недочеловеками, носителями идеи равенства и революции.
Идея прусского юнкерства и прусской империи – война. Войну мы всегда противопоставляем революции, империю противопоставляем республике. Это два несхожих метода управления человечеством, им никогда не примириться. Имперская мысль – это и есть воля к власти, описанная Ницше. Ницше ценен тем, что отверг Христа и Сократа, людей слабохарактерных; мы философствуем молотом.
– Знаешь ли Йорг, – сказал я сыну Елены на той памятной прогулке, – что именно погубит империю, что погубит идею гибеллинов? Ваша аристократическая гордыня. Вы не способны иметь национальную идею. Немецкий патриотизм обусловлен привязанностью к той династии, именем которой они себя называют, – это в свое время беспокоило Бисмарка. Династии Брауншвейгская, Брабантская, Виттельсбахская теснят представление о едином долге перед миром. Даже Баварию вам не удастся вообразить единой: аугсбургский шваб и майнский франк будут соперничать за право воплощать баварский дух. Что есть Европа, сын мой? Набор амбиций дряхлеющих баронов – или торжество единой воли? Выбери сам. Под началом у Вальтера Моделя имеются саксонцы, вестфальцы, фризы, баварцы, померанцы, рейнцы – но разве не прусский дух объединяет этих солдат? Разве не прусский дух выразил Адольф? Чего же вы добьетесь, лишив Германию единого животворящего начала? Вы хотите романтической империи – но такой не бывает. Вы боитесь революции, хотите истребить революцию, но стесняетесь жертв? Если не вырезать опухоль, она вырастет снова. Не совершите ошибки!
В тот день Йорг не стал мне отвечать. За сына ответила мать: сегодняшняя поездка была ревизией прусского духа.
Сумасшедшую женщину увели в барак. Широкозадый охранник Сиповский толкал сумасшедшую в спину, и она, прижимая ребенка, поплелась в барак для женщин с детьми – там имелись стены. В сумраке мы ее быстро потеряли из виду.
– Скорее в машину, – сказал Мэкер, – я окоченел. Уверен, что генерал Модель пригласит всех на обед. Он грозился угостить нас охотничьими трофеями. Хайль Гитлер, – это коменданту.
– Хайль!
Елена, оттолкнув графиню фон Мольтке (та удерживала ее), приблизилась к коменданту.
– Майор Клачес, – сказала Елена, – мне надо сказать вам важную вещь. – Елена вздрагивала, но речь ее была ясной. – Хочу, чтобы вы знали. Вы думаете, эти люди умрут, а вы нет? Я вас убью. Если я не смогу это сделать, это сделает мой сын. Вы умрете!
13
Майор Клачес подал рапорт; в отличие от докладной записки Хельмута фон Мольтке, его рапорту дали ход; инспекция Красного Креста была отозвана; обед, который нам посулил Вальтер Модель, не состоялся. Мы вернулись в Берлин в санитарном эшелоне, полном раненых немецких солдат.
Графиня фон Мольтке была слишком горда, чтобы волноваться; Елена была слишком возбуждена, чтобы думать о последствиях; если бы не мое присутствие, последствия могли быть фатальными.
В дороге – а дорога длилась пять дней: на сей раз мы ехали через Варшаву, и нам пришлось стоять почти сутки – мы разговаривали мало. Дамы не приглашали присоединиться к их беседе. Впрочем, я не стремился. Я понимал, что говорить мне следует не с ними. В дороге Фрея принимала участие в перевязках – оказалось, она знакома с профессией сестры первой помощи.
В Берлин прибыли 9 марта, отчетливо помню мокрый от дождя перрон. Снег уже сошел.
14
Я сказал Ройтману:
– Извольте, скажу, что войну начал Сталин; скажу, что Гитлер – сталинский ученик; скажу, что рабочие-интернационалисты и нацисты хотели одного и того же, а именно власти. Извольте, я профессионал. Вам нужна пропаганда… Думаете, что победите… Ну-ну. Действуйте, Ройтман. Вообразите, что будет после победы… Надеетесь приблизиться к трону? Вам дадут черную работу, Ройтман… Много я видел на своем веку еврейских комиссаров, ни один не кончил хорошо. Вот, вы уже громите русские храмы, как Каганович… Готовы ли строить лагеря для бессловесных русских, которых Бисмарк называл «крещеными медведями»? Вам надо будет это делать.
Ройтман ответил так:
– Верю ли в новую империю? Ни единой минуты. Думаю ли, что приблизят к трону? Сомневаюсь. Быть евреем – плохо при любом сценарии.
– Тогда зачем? Зачем, Ройтман?
– Затем, что надо бороться с ложью. Начинаем запись. Буду говорить как актер, простите актерские интонации. Итак, начали. Ведущий программы «История и современность» политолог Борис Ройтман снова в эфире. Программа выходит в скорбные часы. Брошен в тюрьму либеральный предприниматель Панчиков. Композитор и мыслитель Аркадий Аладьев арестован. Под следствием находится гражданка Франции, правозащитница мадам Бенуа. Убит, – Ройтман сделал эффектную паузу, – убит Мухаммед Курбаев. Полагаю, настала пора сказать, что происходит.
– Мухаммед Курбаев? – раньше я не слышал этой фамилии.
– Свершилось кровавое преступление режима. Убит идеолог либерализма, лидер национально-освободительного движения. Светлый ум.
Ройтман пошелкал клавишами, дал музыкальную заставку: полились звуки Малера. Ройтман поглядел на меня смущенно – мол, законы жанра. Потом продолжал:
– Назову это памятным каждому словом: сталинизм. Мы думали, что сталинизм ушел в прошлое. Культ личности разоблачили. Но сталинизм вернулся. Я настаиваю на этом диагнозе. Скажу более: именно потому, что мы не понимали природу сталинизма, эпидемия смогла вернуться. Сегодня покажу, как давно готовились сегодняшние события. У меня в гостях уникальный человек – тот самый, что привел к власти Адольфа Гитлера и присутствовал при его секретных переговорах с Москвой. Все тайное рано или поздно становится явным, прошлое оживает в настоящем – поприветствуем, в гостях Эрнст Ханфштангель!
Ройтман пощелкал пультом, раздались звуки аплодисментов. Ройтман продолжал:
– Эрнст, спасибо, что согласились дать интервью. Вы долго молчали, теперь решили говорить. Вы, несомненно, сочувствуете новой российской демократии – идеям Феликса Гачева, Николая Пиганова, Дмитрия Бимбома. В вашей среде популярны эти имена?
– Да, – сказал я и поглядел в оконо на ямайских негров, – очень популярны.
– Начнем ab ovo. Нашим слушателем важно понять, как внедрялся в их сознание тоталитаризм. Варварский раздел Польши, пакт Молотва – Риббентропа. Генерал Гудериан и советский комбриг Кривошеин, как выясняется, принимали совместный советско-нацистский парад в Бресте – после того как в польский город Брест-Литовск вошли советские войска. Всего за год до героической обороны Брестской крепости советские танки сами эту крепость захватили! Прокомментируйте эпизод.
– Россия передала город Украине в девятнадцатом году, – сказал я устало, – а затем Украина передала Брест Польше – в обмен на польскую военную помощь в борьбе с Советской Россией.
– Не будем! – сказал Ройтман. – Не будем пересматривать итоги международных соглашений! А германско-советский договор о разделе Польши иначе заставляет смотреть на войну. Парад большевиков вместе с нацистами! Расскажите подробности.
– Брест занял Гудериан с 19-м механизированным корпусом, а затем Гудериан вывел войска, когда через неделю пришел комбриг Кривошеин. Выход германского корпуса из города ошибочно принимают за парад. По соглашению от 23 августа к России отошла та часть Польши, которая прежде была русской.
– Благодарю, что позволили узнать больше о преступном сговоре. Германская и российская тоталитарные машины договорились о подавлении польской свободы! Поистине, только Сталин мог додуматься до такого цинизма. Расскажите, как реагировал Гитлер на предложение о разделе Польши.
– Адольф отнесся уважительно к дипломатической традиции. Договор о совместном российско-прусском подавлении Польши называется «конвенция Альвенслебена», и составлена данная конвенция сто пятьдесят лет назад, в 1863 году, в Петербурге, совместными усилиями князя Горчакова и Густава фон Альвенслебена.
– Альвенслебена? – перспросил Ройтман, теряя нить беседы.
– Понимаю ваше недоумение, – сказал я, – вы интересуетесь, тот ли это фон Альвенслебен, что командовал 4-м корпусом при Седане во время Первой Франко-прусской кампании в 1870–1871 годах? Конечно же да. Кстати, внуки его во время Третьей Франко-прусской войны воевали в Дюнкерке. Третьей Франко-прусской я называю Вторую мировую войну, так мне удобнее. Вам будет любопытно знать, что именно внуки Альвенслебена в составе корпуса Гудериана входили в Польшу в 1939-м. Видите, друг мой, как длинна нить Ариадны.
– При чем здесь Ариадна? – спросил Ройтман. Беседа рассыпалась на глазах.
– Нить Ариадны есть метафора истории, – сказал я, – восходящая к Криту. В истории жизненное пространство, то есть Lebensraum, сознательно искривлено до состояния лабиринта. Вы ждете, что нить выведет к Сталину? Терпение. Начнем с конвенции фон Альвенслебена. Дух конвенции состоял в том, что свободной Польши в принципе быть не должно. По мысли Бисмарка, анализировавшего этот вопрос, свободная Польша невыгодна великой Германии в большей степени, нежели России. Военный союз Пруссии и России против независимой Польши ослабляет Францию – именно в этом смысл данного союза. Ровно этого добивался и Адольф в августе 1939-го. Неужели силы двух крупных военных государств были направлены против собственно Сикорского – ну что вы, право! – и я продолжил, усугубляя занудство: – Разумеется, это старый добрый прусский план, который приводят в исполнение всякий век. Кстати, именем Альвенслебена был назван легендарный Бранденбургский полк, о котором вы несомненно слышали.
Ройтман глядел на старого зануду с ненавистью; я же не испытывал к еврею неприязни. Но и жалости к нему не испытывал. Ты хочешь отработать свой хлеб перед хозяевами? Изволь, старайся, но облегчать работу не собираюсь. Ты хочешь участвовать в истории? Я отвечал на исторические вопросы аккуратно; просто слушать меня было невыносимо. Современный интеллигент жаждет обладать знаниями, готов сделать усилие, чтобы знания присвоить, но усилия не должны быть чрезмерными.
Ройтман выключил магнитофон.
– Неужели я сорвал вам путч? – спросил я. – Никогда себе не прощу. Надеюсь, танки не успели вывести на площадь?
– Историю остановить не в вашей власти, – сказал Ройтман. – Вы просто вели себя глупо.
– Зачем ссылаться на историю? Я именно историю рассказал – другой не бывает. Вы хотите обмануть историю… это иное… И напрасно, Ройтман, напрасно…
Я поглядел на майора Ричардса и понял, что историю уже обманули. Они начали операцию.
15
Я приехал в имение Крейсау через два дня после нашего возвращения в Берлин; Хельмут Джеймс фон Мольтке принял меня.
Я бы предпочел говорить с ним в Берлине. В кабинете в здании абвера, где он исполнял скромные обязанности юриста по международному праву – или в любом кафе – разговор сложился бы иначе.
Но Мольтке захотел принять меня в родовом имении, и я поднялся по ступеням, прошел в высокие двери, и камердинер сказал, что граф спустится, а я могу обождать его в гостиной.
Хельмуту фон Мольтке было 34 года, он был высок, худ, с крупной головой, прямым носом и высоким лбом. Он всегда одевался строго, как подобает юристу, всегда был при галстуке.
– Рад вас видеть, Эрнст, – сказал он, – надеюсь, с Еленой все в порядке.
– К сожалению, – ответил я, – в порядке далеко не все. Именно об этом я и хочу с вами говорить, граф.
– Слушаю вас. Если могу помочь… – Как ненавидел я в ту минуту это дежурное высокомерие аристократа!
Он указал мне на кресло, но я остался стоять.
– Помочь вы можете себе, – сказал я, – помочь, вероятно, вы можете Елене и ее сыну, если не поведете их за собой. И помощь нужна срочная.
– Прошу вас не говорить со мной в таком тоне, – сказал фон Мольтке.
– Хочу передать вам ваше собственное письмо, – сказал я. – Вы несомненно узнаете свой почерк. Письмо вы послали в Англию через Швецию, но оно оказалось у меня. Пока я не передал его другим людям, но должен это сделать.
Он взял у меня конверт, опознал его. Письмо читать не стал, наверняка помнил, что написал. Адресату в Лондоне он писал так: «Ты знаешь, что я с первого дня боролся против нацистов, но степень угрозы и самопожертвования, которая требуется от нас сегодня и которая потребуется завтра, предполагает большее, чем наличие добрых нравственных принципов, поскольку мы знаем, что успех нашей борьбы будет означать тотальный национальный крах, а не национальное единство».
Мольтке не стал этот текст перечитывать.
Он не порвал конверт, не сжег письмо, не спрятал. Если бы он скомкал письмо и бросил на пол, это было бы естественным жестом – поднял бы лакей и выкинул в мусорную корзину. Но граф протянул мне письмо обратно со словами:
– Благодарю, содержание мне хорошо известно.
Он протянул мне письмо равнодушным жестом, точно отдавал распоряжение лакею.
– И что вы посоветуете мне делать с этим письмом?
– Право, не могу вам советовать. Поступите, как считаете нужным. Я бы, разумеется, передал письмо адресату. Когда беру на себя миссию почтальона, поступаю именно так.
Он точно хлестнул меня перчаткой по лицу.
– О, вы, граф, не задумываясь, отправите почтальона в тюрьму и на эшафот. В письме вы всего-навсего говорите, что боретесь за крах Германии. Вы, аристократы, выше заботы о безопасности, об этом беспокоится ваш лакей, не так ли? Вы же не сомневаетесь, что я доставлю письмо, не выдам вас, стану соучастником?
– На вашем месте я бы именно так и поступил.
– Скажите, – спросил я, теряя самообладание, – вы не видите в ваших действиях досадного противоречия? Ждете от меня, нациста, проявлений порядочности, не так ли? Вам кажется естественным – требовать порядочности. Но когда вы втягиваете Елену и Йорга в авантюру – где ваша собственная порядочность? То, что для вас, аристократов-генералов, обычная игра в заговор – для них вопрос жизни и свободы! Вам – дробить империю на княжества, вам – выбирать нового монарха, а вассалов вы пустите впереди своей славной конницы!
– Видите ли, – сказал граф фон Мольтке, – я прихожусь внучатым племянникам фельдмаршалу, но сам человек не военный. С генералами знаком плохо. О заговоре генералов мне ничего не известно.
– Прекратите, – сказал я, – времени нет. Времени нет на бытие. – Хорошо, что Хайдеггер не слышал моей реплики. – Вы стоите на пороге, граф фон Мольтке, а за дверью – пропасть. Ваш силезский кружок заговорщиков объединится с кружком фон Вицлебена и фон Трескова – вы собираетесь вернуть монархию. Знаю, знаю! У вас все продумано, фронт вас поддержит! Но победы не будет! Если убьете Адольфа, развалится рейх и придет сталинизм, азиатчина; а если вас схватят – вы унесете с собой на тот свет много невинных.
– Вы в плену заблуждений. Мы отнюдь не собираемся никого убивать, – сказал фон Мольтке. – Я противник агрессии, мы даже Адольфа Гитлера не собираемся убивать. Хотя он из немногих людей, заслуживших насильственную смерть.
Граф говорил надменно, скрестив на груди руки. Он каждым словом показывал, что в своем родовом поместье говорит то, что хочет, и сдерживать себя не собирается. Ему было безразлично – донесу я на него или нет. Это было самым оскорбительным.
– Вы сталинист?
– Мне глубоко несимпатичен Иосиф Сталин.
– Вы большевик?
– Ни в коем случае.
– Вы не замышляете переворот?
– Полная ерунда.
– И никакого заговора нет?
– Конечно нет. Я открыто написал все Кейтелю.
– Для чего вы написали доклад Кейтелю? Вы знали, что это не будет иметь результата.
– Результатом является моя чистая совесть. Я не могу принять методы этой войны. Однако заговора нет.
Я говорил с человеком, который не интересовался моей реакцией, – он не старался предстать невинным, он говорил ровно то, что думал, и это было гораздо опаснее, нежели ложь. Я сказал ему так:
– Вы не один, граф фон Мольтке. Вокруг вас и за вами десятки заговорщиков. Вы не можете о них не знать. Мне безразлично, что будет с вашими друзьями-генералами. Предупреждаю: я не дам втянуть Елену в авантюру. Я вас разоблачу!
– Как будет угодно, – сказал Мольтке. – Но уверяю вас: мне неизвестно о монархическом заговоре генералов. Я далек от подобных идей. И цели военных генералов мне несимпатичны.
– А как же честь аристократа? Я уверен, что вы и ваши знакомые переживаете. Разве ваше достоинство графа не ущемляется соседством с колбасниками и булочниками?
– У вас неверное представление о чести дворянина, господин Ханфштангль, – ответил Мольтке. – Особенность чести дворянина в том, что она точь-в-точь такая же, как честь булочника или колбасника. И если вам кто-то сказал, что эта честь в чем-то более честная, этот человек ошибся. Дворянин по праву рождения отвечает за страну, власть и народ, но и булочник отвечает точно так же. Я не знаю и не хочу знать о тех заговорщиках, которых вы называете гибеллинами. Вы можете мне не верить, но я с ними не связан. Возможно, кто-то из баронов хочет вернуть монархию – мне это представляется дикой мыслью.
– Разве ваш кружок не занимается программой будущего Германии?
– Да, мы пишем программу. Но будущее – не монархия. И не генералов мы приглашаем писать сценарий.
– Какое будущее Германии видите вы? Если не монархию – то что же? Вы верите в национал-социализм?
– Я не знаю ничего более гнусного, чем нацизм, – ответил Хельмут фон Мольтке. Он не посчитал нужным выбрать более мягкое выражение. – Все свои силы я отдам его поражению. Но я против убийства Гитлера. Это превратит негодяя – в мученика. От души надеюсь, что поражение Германии в войне приведет к власти нового лидера. Крах военной Германии буду приветствовать. Но монархию я приветствовать не намерен.
– Демократия? – Я вложил всю язвительность в свой вопрос. – Вы, как вижу, сторонник демократии? А то, что демократия всегда приведет к власти Гитлера или Сталина, вас не смутит?
– Полагаю, так будет не всегда.
– Нет! – крикнул я. – Не обольщайтесь, фон Мольтке, родовитый граф из семейства фельдмаршалов! Потомок фельдмаршала, проживающий в имении на территории покоренной Польши! Так будет всегда! Гибеллины будут рвать власть из рук гвельфов, императоры будут душить коммунистических главарей, а сталинисты станут подкладывать бомбы под банкиров. Не будет иной истории! История – это вопрос власти!
– Вы заблуждаетесь, – сказал фон Мольтке очень спокойно. – Это крайне плоская картина истории.
– Однако до сих пор иной не нарисовали.
– Я христианин, – ответил фон Мольтке, – и будущее Германии я вижу в христианстве. Я говорю так несмотря на то, что христианской Германия никогда не была в полной мере. Сейчас заканчивается эпоха, которая началась еще при Лютере, я отсчитываю время Гитлера со времен Реформации. Эпоха Реформации закономерно закончилась капитализмом и нацизмом – это позор и гибель для моей страны. Тому, что вы называете историей власти, – придет конец.
– Считаете, что эра капитализма и нацизма пройдет?
– Безусловно. – Граф выдержал паузу и сказал еще раз: – Безусловно.
– Вы желаете видеть германское христианское государство? – спросил я. Этому человеку надо было все объяснять с азов, объяснять Ницше и историю Германии. – Полагаете, возможно такое? Такое благостное государство, вероятно, возникнет на развалинах рейха, как возникла республика Иисуса Христа – на развалинах медичийской Флоренции? Себе вы готовите роль монаха Савонаролы?
– Нет, – ответил фон Мольтке, – себе я отвожу более скромную роль. Я по образованию юрист и законник. Я не проповедник. Буду писать социальные законы и следить за их исполнением. Буду настаивать на том, чтобы бедных не притесняли богатые, чтобы ни один человек не был унижен на основании своих убеждений, своей нации, своего достатка. Буду заниматься пособиями для нищих, больницами для рабочих, школами для сирот. Я буду следить, чтобы не появилось монопольных прав в производстве и сбыте. Буду бороться с централизацией. Я считаю, что субсидиарная демократия есть наиболее разумная форма общественного устройства.
– Иными словами, вы – социалист?
– Правильно, – сказал фон Мольтке. – Я христианский социалист.
– По-вашему, это сочетается? Христианство – и социализм?
– Полагаю, что это единственный разумный выход, – ответил граф.
– И вы верите, что Германия, страна кайзеров и баронов, может стать христианской и социалистической?
– Было бы странно верить во что-то иное. Уж если верить – то обязательно в хорошее.
– Скажите, – спросил я, – вам не кажется это диким сочетанием: аристократ-социалист-христианин? Вы сами не видите здесь противоречия?
– Это естественное сочетание, – ответил граф, – насилие и капитализм мне представляются крайним плебейством.
– Вы знаете, граф, – сказал я, – что данного разговора достаточно для того, чтобы вас повесили? Вы отдаете себе в этом отчет?
– Я полагаю, – сказал граф фон Мольтке, – что неоценимым преимуществом является возможность умереть за то, что действительно считаешь стоящим делом.
Ровно эти слова он потом написал своей жене Фрае, графине фон Мольтке, из тюрьмы Плотцензее за несколько часов до казни.
– Вы не боитесь меня? – спросил я его.
Хельмут фон Мольтке ответил:
– Не боюсь ли я того, что вы донесете в гестапо? Нет, предательства не боюсь. Боюсь другого.
– Чего именно? – Я ждал, что он скажет про жену и детей.
– Боюсь не исполнить свой долг.
Я спустился по лестнице, камердинер подал пальто, я сел в машину. Письмо я передал по адресу через шведского дипломата.
Через две недели началось наступление русских в районе Ржевского выступа, и в течение четырех месяцев продолжалась битва, в которой погибли полтора миллиона человек. Затем Вальтер Модель отвел 9-ю армию – ему удалось отступить, сохранив порядок. А спустя еще два месяца генерала Моделя перевели на участок фронта под Курском. Считалось, что исход кампании решится именно там.
16
– Надеюсь, я вас не очень подвел, – сказал я майору Ричардсу. – Поступил приказ лишить меня порции овсянки? Было бы досадно, майор. Я уверен, что ваши планы не пострадали.
– Я к вам привык, – любезно сказал Ричардс. Отечное британское лицо изобразило улыбку. – Мы не особенно ждали помощи. Нет, наши планы не менялись. Важно было занять московскую интеллигенцию.
– Спектакль был очевиден: англосаксонский империализм караулит германский фашизм, а в дверях топчется русский либерализм. Слишком марионеточно. Понял, что главное происходит за сценой.
– Right, – сказал майор Ричардс. Англичане всегда говорят «правильно», чтобы подвести итог разговору. Это не немецкое richtig. – Мы действительно провели ряд отвлекающих маневров.
– У вас покраснели уши, майор. Не волнуйтесь, вы вели себя безупречно, ничем себя не выдали. Я был готов к пьесе абсурда. В театре Запада актеры поменялись ролями давно, еще на войне. Романтики сыграли роль мясников, рабам досталась роль освободителей, банкиры выглядели гуманистами, коллаборационисты предстали патриотами. С тех пор роли перепутаны.
– Верно, – сказал майор Ричардс, – но роль Британии не изменилась.
– Дорогой майор, вы обольщаетесь! Все поменялось… Теперь национальное освобождение есть первый шаг к государственной зависимости… Авангард теперь не социалистический, а капиталистический: вместо утопий равенства – декорации неравенства. Хотели интернационал трудящихся без государства – построили интернационал рантье без труда. А вы говорите…
– А Британия, – сказал упрямый майор, – осталась без изменений. Уверяю вас.
– Сегодня, – сказал я майору, – мне понятно, что именно произошло. В частности, понял и вашу пьесу. Хотите, расскажу, кто убийца?
– Буду признателен.
– Начну издалека. Прежде все тщились объяснить четырнадцатый год. Вот и я, подобно Шпенглеру, Сталину, МакКиндеру, Черчиллю, нашел универсальную отмычку истории. Помню, мы гуляли с Адольфом по Мюнхену и говорили об искусстве авангарда. Говорили о художниках, а я думал о Тридцатилетней войне. Знаете, как это бывает… говоришь об одном, думаешь о другом…
– Нет, мне это незнакомо.
– Понимаю, у вас в разведке люди последовательные. Со мной так бывает часто. Так вот, мы говорили об искусстве авангарда, и я подумал о Тридцатилетней войне.
– Прямой связи я не вижу.
– Авангард объявил существующий порядок вещей фальшивым, это была ревизия христианской этики. Вы согласны? Авангард показал несостоятельность христианского порядка – показал, что ценности искусственны. И началась варварская мировая война, неожиданная для цивилизованной христианской Европы. Девятнадцатый век прогресса кончился мировой резней. Господа во фраках стали друг друга убивать.
– Допустим.
– Мне это напомнило хаос, царивший до Вестфальского мира. Триста лет, задолго до современной Тридцатилетней войны, – было такое же брожение.
– Вы правы, можно сравнить.
– Вы уловили связь. Хаос, как на полотнах авангардистов. Союзы былых врагов и ссоры друзей. Что для нас интересно в Тридцатилетней войне?
– Да, – спросил вместе со мной майор, – что интересно?
– Интересно то, что планы национальных государств обслуживались религиозной пропагандой. Совсем как в двадцатом веке, когда роль религии стал играть коммунизм. Интересно то, что союз против габсбургской империи оказался возможен благодаря защите новой веры – протестантизма. Протестантизм сделал так, что кальвинист понял лютеранина – Реформация сделала проницаемыми перегородки между культурами: отныне германский крестьянин мог сражаться за интересы адмирала Колиньи, хотя раньше он делал все, чтобы убежать даже от налогов своего непосредственного господина. Что ему французский адмирал? Но ради религии, которую они считали выразителем своей свободы, люди шли на жертвы, на какие никогда бы не пошли по приказу государства. Германские княжества никогда бы не набрали такое войско, если бы надежда на особую духовную свободу не связала разных по характеру людей. Это ведь был мираж, что-то вроде обещанного Марксом коммунизма – но за фантом шли умирать. Не за князей умирали: что, они своих князей не знали, что ли? Граждане Европы отдавали жизнь вовсе не за глупых князей, но за собственную свободу – так гражданам, во всяком случае, казалось. Вы согласны?
– Я не так хорошо помню то время, – заметил майор.
– Ради государства не поступились бы ничем, ради религии отдавали все свои земные надежды.
– Всегда так было, – сказал майор, – солдатам всегда что-нибудь обещают. А потом и медали не дадут. Я, например, не рассчитываю.
– Нет, так было не всегда. Это был пример интернационального братства, которое использовали в войне, – но интернационал предали ради интересов национальных государств. Любопытно, не правда ли?
– Как это – предали?
– О, предавали друг друга все, постоянно. Меняли союзников каждые три года. А завершилось большим обманом. Тридцатилетняя война показала тоску Европы по единой семье, по единой нравственной системе ценностей – но итогом стал Вестфальский мир, ущемивший германские княжества. Тем самым германским ремесленникам, которые пошли умирать за Реформацию, предложили отдать Эльзас и Лотарингию Франции – своему былому союзнику. Они-то думали, что сражаются за свое будущее, – а что вышло? Странно, да?
– Типично, – сказал майор.
– Франция желала ослабить Австрийский дом, Швеция с Данией бились за балтийскую торговлю. Только германским ремесленникам померещилось, что они воюют за религиозные взгляды.
– Теперь я вижу, что вы хотите сравнить эту войну с войной коммунистов и фашистов. А зачем?
– Майор, я о другом. Тридцатилетняя война была битвой империи и национальных государств. Религию в той войне использовали, но потом про нее забыли, религия исчезла из мира как фактор политики. И меня заинтересовало: где снова отыскать подобный инструмент. Мы гуляли с Адольфом, говорили про русских художников… про авангард… социализм…
– И что же? – спросил майор.
– Сначала я подумал так: авангард есть лингва франка современного мира – надо использовать этот язык… мы шли вдоль набережной, и я думал упорно. Понимаете? Авангард – язык демократии, как иконопись – язык христианства… Вы следите за моей мыслью?
– Стараюсь, – сказал майор.
– Представьте, что перед нами холст Кандинского.
– Да, кляксы и черточки.
– Выглядит как бессмысленный беспорядок.
– Именно.
– Однако многие считают, что этот хаос отражает неизвестные порядки и связи.
– Вряд ли, – сказал майор.
– Но какую-то часть космического порядка он воплощает; а Малевич – геометрический и казарменный – воплощает другой фрагмент космической гармонии. А Маринетти, который кружится, как метель – говорит о третьем компоненте.
– Этак вы всех переберете. Англичан не забудьте вставить.
– Я объяснял Адольфу, что обилие художественных направлений, разрушивших единую Болонскую школу, надо воспринимать как обилие варварских диалектов по отношению к латыни. Когда распадается большая Римская империя, на ее месте возникает много племен, которые как бы припоминают былую речь Рима. Наречия лангобардов, бургундцев, франков, алеманов – носят в себе следы латыни. Диалекты стремятся к универсальному языку, к большому словарю. Так и современные художественные стили вспоминают об античной гармонии. Все вместе: экспрессионисты, футуристы, дадаисты, сюрреалисты – все они тщатся образовать единую гармонию заново. Это осколки разбитого европейского зеркала. Понимаете?
– Нет, – сказал честный майор, – не понимаю. Война есть борьба за власть, а не за гармонию. Откровенно говоря, безразлично, на каком языке говорят в Молдавии.
– Но война – это и есть гармония, майор! Раздробленная однажды на фрагменты усобиц, гармония вселенской войны пытается собрать себя заново. Помните, как сломался Шалтай-Болтай? Вся королевская конница пыталась его собрать. Об этом, в сущности, Гегель написал тома. Хаос Тридцатилетней европейской войны – суть не что иное, как стремление собрать диалекты в единую латынь. Простая мысль, не правда ли?