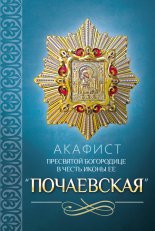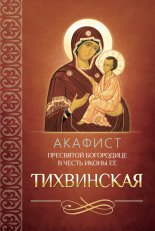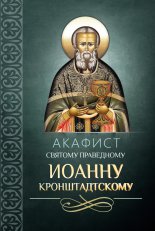Господи, сделай так… Ним Наум

— У нас все основательно, — смеялась Галка.
— А твой-то каков? Наверное, шибздик? Скачет по тебе вдоль и поперек да нарадоваться не может…
— Не-а… Он весь в меня — только трохи нижей.
— И как вы, — Серега покрутил ладонями одна перед другой, — два таких роскошных шарика?
— А у тых Тимкиных листочках все есть, — хохотала Галка, — и для шариков, и для жердочек… А ты с какими любишься — с шариками или с жердочками? Или уже не хочется?..
— К сожалению, хочется гораздо реже, чем хотелось бы… — хмыкнул Серега. — Ну расскажи, как живешь? Как муж — не бьет? Он у тебя не из этих? — Серега щелкнул по горлу. — С чего Вадика бросила? Где дети? Сколько их у тебя? Наверное, целый взвод настрогала?.. Твой-то, видимо, генерал? Ты у нас всегда хотела быть генеральшей. А где он сам, твой генерал?
Серега засыпал Галку вопросами, но ее можно было и не спрашивать. Она и сама по-прежнему трещала без перерыва, накрывая на стол, наливая нам по рюмочке “для разгону”, похохатывая вдоль своим же откровениям и радуясь, что есть с кем наговориться всласть.
“Мой Николаша — чистая прелесть… Он у меня ласковый, как теля, и такой трогательный — бывает, я разозлюсь на что-нибудь, а он подойдет и давай утешать — лапает-лапает, тискает-тискает, трогает-трогает, ну и злости как не бывало, а я вся становлюсь такой растроганной — до слез прям… Это он с подчиненными на службе зверем рычит, а дома нежней нежного… Сейчас время худое, что-то пишут непотребное, разоблачают, а он у меня совестливый до не могу — так расстраивается, что ему ни есть, ни спать невмочь… Вось на тыдне, помню… Нет, вру — на прошлым тыдне, в общем, звонок ночью, представляете?.. Николаша трубку, значит, берет — у нас телефон у постели, но с егоной стороны, чтоб, если что, то адразу… Короче, звонит какое-то чмо, и ни здрасте, ни как дела, а с ходу: ты, говорит, падла последняя, тебя, говорит, убить мало — такой ты гадина, чтоб тебе, говорит, жизнь твоя паскудная поперек глотки встала… Просыпаюсь позжей — нет Николаши… Просыпаюсь под утро — а его все нет. Я на кухню, а он там сидит бледней простыни и трясется. Галочка, говорит, если бы ты знала, какой я гад… Как, говорит, стыдно — сил нет… Я его успокаиваю, мол, без стыда рожи не износишь, а он все об своем. Как только, говорит, меня земля носит!.. А в руке пистолет… Нет мне, говорит, прощения, но ты, мол, не беспокойся — тебя и детей я всем обеспечил. На даче, говорит, под печкой пошукай и знойдешь — на всю жизнь вам хватит, а я больше не могу — такой, мол, я гад… Даже подумать боюсь, как бы все кончилось, но тут звонок. Звонит тот же мерзавец, что и ночью, и говорит: извините, мол, ошибся номером, простите, это я не вам звонил и никакой вы не гад… Слава богу, что так. Но ведь столько нервов зазря истрепетал… Николаша мой адразу повеселел, потребовал водочки, и так вот счастливо все обошлось… Совестливый он настолько, что уже и нельзя так… А уж как по службе убивается — весь испереживался… Только летом чуток успокаивается… Мы же летом на даче все. Это сегодня на самом рассвете за ним приехали — вот вы нас и застали так удачно. У них там какой-то переполох, навроде тревоги. У нас эти учебные тревоги — все время. Вот и сейчас так неожиданно раптам — учебная тревога. Надо срочно лететь в Москву и учить тамошних москвичей уму-разуму… Только вы про это никому — это у нас военная тайна… Так я и говорю, что летом мы завсегда на даче. Там сейчас все наши детки и остались. Их у нас трое, и младшенькая — ну вылитый Николаша, только с кудряшками… А старший почему-то на Вадика похож, хотя мы тогда уже с Николашей жили. Напэуна я тогда об Вадике переживала, что такую боль над ним сотворила, вот сын и стал на него похожим. Ему в этом годзе двадцать стукнуло… Вот уже сколько годочков я с Николашей своим — даже и больше… Меня Вадик когда привез с собой, я прям ахнула — голая пустыня кругом и ветер песком фр-р в одну сторону, фр-р — в другую… Первые дни прям плакала с тоски… Вадик целыми днями на службе и всего себя тратит так, что домой возвращается уже ни на что не годный. Не то чтобы по Тимкиным листкам учиться — ему и по-обыкновенному ничего не надо… А дом наш? Дощатая будка, и ветер об нее песком — фр-р… Хоть помирай, так было тошно… А потом Вадик меня устроил работать в офицерскую столовую, и стало повеселей. Вот вскорости и появился мой Николаша. Я его сначала и видеть не видела — ходит какой-то плешивый капитан да облизывается, а мне и смотреть на него сорамна. Пущай, думаю, облизывается, мне-то что? Вокруг такие парни пригожыя… А одним вечером вот как сейчас — тревога у них учебная и никого в столовой. Все повара и официантки (я официанткой там работала) по домам разбежались, а я Вадика жду — он меня всегда сам из столовой домой забирал… Ну и заходит этот капитан… Я его холодными закусками обслужила, а больше-то и нет ничего — все разбежались… Стала за ним прибирать, а он следом за мной — на кухню. Ну, тут он меня маленько придушил и немножко снасиловал… Так у нас и началась наша семейная жизнь… Вадик спачатку…”
Зазвенел, затеребенил нутро властный звонок, и Галка поплыла открывать дверь. Мы с Серегой встали в ожидании хозяина дома. Серега мне подмигнул и поправил волыну за поясом, укрытую рубашкой навыпуск.
Генерал вкатился, сверкая лысиной и приглаживая скудный волосяной венчик сзади нее. За генеральской спиной маячил еще какой-то сухонький и малоприметный организм. Замполит Николаша и вправду был под стать Галке, однако все равно до ее пышности недотягивал, хотя бы и потому, что при всем старании не смог бы отрастить себе такую необъятную грудь, но лицо он отрастил…
— Николаша, это мои школьные друзья — я тебе говорила, — представила нас Галка, подставляясь щекой под генеральский чмок.
— Ну, здравия желаю, — вполне приветливо глянул на нас Галкин Николаша. — Хлопотунья моя, — обратился он к жене, одобрительно осмотрев приготовленный стол, — дай-ка нашему Степанычу рубликов двести в долг. Совсем не умеет хозяйство вести — даром что до полковника выслужился…
Галка быстренько прошелестела в соседнюю комнату и мигом вернулась, отсчитывая на ходу деньги и торопясь спровадить запинающегося благодарностями полковника. Расселись за столом. Галка раскладывала закуски, рассказывая, как она все это готовила, как спешила и старалась, а генерал внимательно разливал водку в солидные стопарики, которыми по его взморгу Галка заменила прежние мелкие рюмки.
— За нашу славную армию! — трубанул тост генерал и сделал даже движеие, чтобы встать, но передумал и остался как есть. — За нашу единственную защитницу ото всех на свете несчастий.
Видимо, генерал ждал от нас какого-то одобрения своему тосту, и повисла странная пауза, в которой генерал с поднятым стопарем сверлил Серегу востренькими глазами.
— Молчи громче, солдат, — непонятно потребовал он.
— Не понял, — поднял свой стопарь Серега, — это за армию или за Галку?..
— За обоих, — одобрительно хмыкнул шутке генерал. — Спрашивается вопрос, — прервал свое вдумчивое жевание генерал и прицелился вилкой в Серегину грудь. — Кто ты таков?
— Ну, Николаша, я же тебе говорила, — начала было объяснять Галка.
— Про школьных друзей я понял… Я спрашиваю, чем ты занимаешься?.. Что ты делаешь на благо нашей великой Родины? — Он одобрительно кивнул Галке, наполнявшей опорожненные стаканчики.
— Да делаю то же, что и ты — по соответствующему приказу мочу врагов нашей правильной жизни…
Серега сидел, отвалившись на спинку стула и чуть отодвинувшись от стола. В левой руке он держал стопарь, а правая лежала готовно — на бедре. В глазах у него плясало хорошо мне знакомое по детским дракам шалое веселье. Я замер дышать…
— Молодец, солдат, — одобрил генерал. — Тогда — за погибель всех врагов… Но в твоем возрасте, солдат… — продолжал он после глотка и занюха, раздумчиво выбирая, чего бы подцепить на свою вилку из заново наполненной Галкой тарелки перед собой. — В твоем возрасте уже пора не выполнять чужие приказы, а отдавать свои.
— И в твоем тоже, — не остался в долгу Серега.
— Ты думай, что говоришь! — возмутился замполит. — Я генерал… а ты солдат. Ты мне даже тыкать не могешь…
— Здесь ты генерал, а сидели бы у меня — я был бы генералом… И у меня — я отдаю приказы, а ты и у себя — по чужим бегаешь…
Замполит недоверчиво оглядывал Серегу, но тон на чуток сбавил.
— Как это — по чужим?.. Я здесь главный…
— Ты в Москву летишь по своему приказу или по чужому?
— Откуда ты знаешь про Москву? — Генерал попробовал грозно встать в рост, но это было хлопотно. — Откуда ты вообще взялся?..
— Да брось ты туман надувать — весь город знает, что летите в Москву… Там приказали, и вы, как бобики…
— Вона им с их приказами. — Генерал выставил жирную фигу и подробно показал ее всем нам по очереди. — Никуда не летим. — Он налил очередной стопарь и заглотнул без тоста, не предложив нам присоединиться. — Где Язов? Где Крючков? Почему их не было на пресс-конференции, рядом с этой новой властью? Откуда нам знать, что они поддержали этих… этих клоунов с трясущимися руками?..
У замполита и у самого изрядно тряслась рука, расплескивая водку мимо стопки.
— Так что — никто мне не указ… А вас кто подослал? — Генерал снова глотнул и, забыв о закуске, опять прицелил вилкой в Серегу.
— Да побойся Бога, — расслабленно смеялся тот, скоренько разливая водку. — Мы Галкины одноклассники…
— Николаша, я же тебе говорила…
Кажется, я только теперь заново начал дышать. Расслабилось скрученное в жгут тело, и не передать, как славно растекалась по нему холодная водка. Серега взялся тамадить, и генерал еле успевал покрякивать вслед его тостам. Очаровательные парочки пастушков и пастушек, ранее мирно беседовавшие на розовых обоях со всех сторон вокруг нас, вдруг взялись приплясывать, кружить, а некоторые, кажется, приспособились даже исполнить сложные композиции камы-с-утра, хотя сейчас никакое им не утро, а самая глубокая ночь. Я попытался сказать про то, что надо быть снисходительными к этим пастушкам, и даже если они и занимаются тем, что не всем нравится, — не надо никаких солдат и вообще никого натравлять на них, но сильно нетрезвые мысли цепляли слова так же неловко, как пьяные пальцы пытаются уцепить иголку — и роняют, не успевая сшить фразу…
Я смотрел на дату Серегиной записи в Мешковой тетрадке о том, чтобы десантура не вылетала в Москву, и прикидывал, когда он успел написать эту строчку, если у нас с собой Мешковой тетрадки не было. Наверное, в те полчаса, когда он еще в Богушевске бегал кому-то звонить? Может, он и вообще все это написал уже потом специально для спокойствия Мешка, потому что не может быть таких совпадений… А если и не так, то все равно — это лишь совпадение, и ничего больше…
Но в любом случае Серега очень точненько придумал, что тогда надо было для справедливости завтрашних дней. Хорошо было это придумывать той звонкой порой, а сейчас, когда полотно жизни прогнило, изъеденное лжой, как молью, — попробуй придумать!..
Я вспомнил, как верно назвал Серега это наше нынешнее время — “время шнырей”… Такое время… Даже самые успешные и вроде бы состоявшиеся — всего лишь шныри… И позавидовать некому. Хотя совсем недавно одному старику я сильно позавидовал. Он передо мной покупал в киоске очки и просил такие, в которых удобно читать лежа.
— Что вы там такое читаете — лежа? — презрительно спросила девица в киоске.
— Жюль Верна, — радостно заулыбался старикан.
Вот бы и мне так.
А вместо Жюль Верна мне надо исполнить вырванное Мешком обещание и придумать какую-то хрень, что могла бы сделать более справедливой всю хрень вокруг… Я злился на Мешка, но чувствовал, что мне самому это надо. Не для записи в дурацкую тетрадь, которой Мешок будто бы передал свое выдуманное могущество. И не для Мешка, который тихо сходит с ума в своих выдумках. Мне самому стала интересна эта игра: можно ли вообще придумать что-то конкретное для защиты любого-каждого от беспредельного измолота властных (и всех прочих) над ним жерновов?
Что колет мою душу самой болючей несправедливостью?
Пожалуй, постоянно нацеленный на меня властный контроль. А еще год-два — и контроль станет тотальным… Большой Брат видит тебя… Братец, конечно, умом не блещет и не сильно отличается от Серегиных братков, но все рычаги унизительного контроля у него. Интернет, телефон, почта, камеры слежения — все, чем я пользуюсь в жизни, можно повернуть против меня. Детально обрабатывать всю эту бездну информации властвующим братанам, конечно, не по уму, но нацелить на любого, кто стал им поперек горла, — это запросто. При этом сами они — за черной стеной нашего неведения…
Защититься от их контроля законами или воплями о правах человека — дохлый номер. Будут кивать, соглашаться, но в каждый момент возникшей им надобности используют все системы, которые есть в наличии, и закажут в разработку еще более мощные. Это неравновесие разрывает единую ткань жизни. Так и распадаются связи времен…
Прогресс не запретить и не остановить, и, значит, могущество контроля будет только усиливаться.
А если бы все эти технологии развились так, чтобы у любого оказались в руках все те возможности, которые сейчас только во властных лапах? Пусть кто угодно может узнать, что ему угодно и о ком только угодно…
Вроде бы — неуютно… Но почему просвечивающий взгляд какого-то пети-васи хуже такого же взгляда васи-в-штатском? А ведь эти, что все в штатском, могут просвечивать нас уже сегодня… и просвечивают…
Итак, информационные системы такие совершенные, что каждый и о каждом может узнать что ему угодно. Сначала, разумеется, шок от того, что все на свете гады, сволочи, подонки, обманщики, хапуги и вообще — не очень интеллигентные люди. Но потом все более и более люди станут поворачивать глаза и уши и избирательные голоса к тем, кто почище и почестнее. Глядишь, и возникнет заново ценность репутации, честного слова, достойной жизни — все то, что сегодня втоптано в прах…
Конечно, неуютно жить, сознавая, что любой момент твоей жизни может быть освещен и выставлен на обозрение. И за какие-то моменты может стать невыносимо стыдно, но вдруг все это и так на обозрении — например, у Бога? Так что же нам станет более стыдно перед соседом, чем сейчас — перед Богом? Да и не будет никакой сосед тратить свою жизнь на изучение твоей. Он бы и сегодня мог накупить жучков и изучать — недорого… Частная жизнь частного человека если и будет кому интересна, то его близким, а с ними он как-нибудь договорится — на то они и близкие. Но вот если ты захотел пробраться во власть или чего-нибудь умное вещать и проповедовать другим, тогда — извини. Тогда — будь весь на виду, а не за черным занавесом…
А как быть с преступниками, которые в вооружении таких возможностей чего только не натворят? Стоп — это ерунда. У сыскарей возможности те же, и числом они — побольше. Наоборот, после какого-то первого всплеска вся преступность увянет — кому охота идти на заведомо провальное дело, если все просветят и до всего дознаются. Это как в открытой нараспах деревушке, где все про всех знают — там и сейчас только обычные бытовые происшествия: сдуру или по пьянке, но никакой тебе организованной преступности или иных спланированных злодейств. Вот так и будет — как в открытой любому соседскому глазу деревне…
А военные тайны? А всякие государственные секреты? Их же тоже не станет…
Но, может, это и хорошо. Пусть договариваются в открытую. При полном знании планов противника исчезнет само это понятие — противник. Придется становиться партнерами, коллегами, соседями…
А права человека? А право на частную жизнь?
Ну, это уже смешно… Можно представить, например, что где-то все люди рождаются с закрытыми веками. Так и живут со склеенными веками и не знают возможностей зрения. Все у них как-то развивается, и в том числе — права человека, защищающие частную жизнь от излишнего ощупывания гэбэшными спецами-слепцами. И вот кто-то догадался новорожденным расклеивать веки, и, конечно, вокруг сразу шум — права-человека-права-человека…
Сейчас при громких криках о правах человека все молчаливо признают безграничные возможности властного контроля и от бессилия запретить его готовы уже и оправдать. А в моем варианте будет обеспечено главное право: все знать, и в частности — о тех, кто властвует над тобой…
Мне все больше нравилась моя придумка. Четкими буквами я написал в Мешковой тетради: “Надо, чтобы информационные технологии развились до такого уровня, чтобы у каждого человека была безусловная и ничем не ограниченная возможность в любой момент и в реальном времени увидеть и услышать все, что делает любой другой человек”.
Поставил дату…
Посмеиваясь над собой, приписал Мешкову формулу: “Господи, сделай так”…
Оставалось поставить точку.