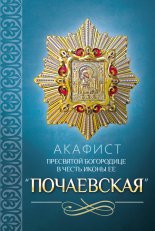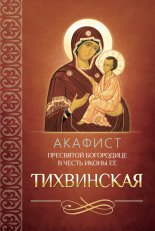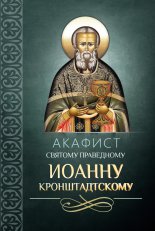Господи, сделай так… Ним Наум

— Так просто? — не отставал доктор.
— Очень даже непросто, — вздохнул Мешок. — Очень трудно придумать что-нибудь правильное и справедливое, но совсем не для себя.
— Чего же трудного? Например, мир во всем мире…
— Так разве ж это не для себя тож?
— Действительно. — Баканов хохотнул, а потом долго и молча смотрел на Мешка. — Жалко…
Ему было и вправду жалко этого увальня из Андрейкиного класса и жалко его бабку, которая сидела сейчас на краешке стула большой сторожкой птицей и только вертела головой вслед за словами: то повернет к врачу, то к своему внуку… Баканов думал о том, что Мешка и вправду могут упрятать под замок, и не знал, как уберечь его от такого будущего. Может, и взаправду сильно-сильно этого пожелать? Это ведь и будет абсолютно справедливо… и точно — не для себя…
— Ваш внук совершенно здоров, — успокоил Баканов Клавдюванну. — Пусть себе молится… Только не на людях…
— Это понятно, — отозвалась въедливая посетительница. — Кто ж на людях молится?.. Но он молится неправильными словами.
— Пусть молится как хочет.
— А он с из дому не уйдет… как тот граф? Тот тоже неправильно молился.
— Какой граф? Толстой? — Баканов рассмеялся. — Не уйдет. Ты же не уйдешь от бабки? — Баканов смотрел на Мешка.
— Куды мне итить? — отмахнулся Мешок.
— Вот и хорошо. Вопросов-жалоб нет? — дежурно спросил доктор, заканчивая этот необычный врачебный прием.
— Есть один, — все-таки решился Мешок, покоренный первым взрослым, который, кажется, что-то понимает. — Вот Гитлера убить — было бы правильно?
— Конечно.
— Не-е, не тогда, когда уже все знали, что он Гитлер и враг всего человечества, а раньше — когда он еще вынашивал?..
— Наверное, правильно, — растерялся Баканов. — Хотя — не знаю. Это очень трудный вопрос.
— Знаю, что трудный, — согласился Мешок.
Тем временем мы уже учились в шестом классе, чувствовали себя совершенно взрослыми, щелбанили на переменах суетную малышню и еле досиживали до конца нудных уроков, чтобы вырваться из-под пригляда приставучих взрослых к своим неотложным занятиям и забавам. Но вырываться приходилось с трудом, потому что нас то и дело сгоняли на всякие внеклассные мероприятия: то в школьный перекосившийся спортзал, то в поселковый клуб, то на стихийный митинг на школьном дворе, которым почти всегда заканчивалась учебная неделя. Одни лишь осенние дожди могли сорвать этот митинг, но те же дожди срывали и наши забавы, так что мы им не очень радовались, хотя все-таки радовались, потому что хуже митинга и всех этих сгоняемых сборищ трудно что-либо и придумать. Там наши охрипевшие учителя по-заученному осуждали мировую военщину, готовившую нам и всему прогрессивному человечеству третью мировую войну себе на погибель, потому что мы сокрушительно накажем всех поджигателей войны, и в первую очередь главного поджигателя — Америку…. Впрочем, все, что только могло говорить, говорило про то же самое, пока не выключишь.
Мешка эти речи попросту вгоняли чуть ли не в летаргический сон (Серега рассказал нам недавно жуткую историю про покойника, который, оказывается, умер не насовсем, а в этот сон… в общем — не дай бог…).
К началу зимы Мешок решился.
Всего за какие-нибудь полчаса он нарисовал в своей тетрадке ровными буквами: “Пусть кто-нибудь убьет главного поджигателя войны… Начальника Америки… Господи, сделай так”. Вздохнул — и поставил точку.
Вечером этого же дня у меня дома, когда мы, по словам моей матушки, “готовили очередную пакость”, Мешок увидел по телевизору симпатично улыбающегося начальника всей Америки (по ихнему — президента) и сильно забеспокоился.
Перед сном он опять открыл свою тетрадку и собрался зачеркнуть написанное им донесение, но вспомнил, что ничего нельзя исправить назад. Мешок снова поставил то же число и быстро написал: “Надо остановить того, кто должен убить начальника Америки”. Зачеркнул два последних слова и заменил на “призидента Америки”. Мешок даже начал задыхаться — так он переволновался впервые в жизни, решившись на самое настоящее убийство и осознав вдруг, что это такое — убийство. “Обязательно остановить. Любым способом”… В общем, понаписал.
Похороны Кеннеди мы смотрели по телевизору дома у Сереги. Когда мелкий кеннедёныш отдал честь у гроба своего отца, Мешок зарыдал. Это было впервые в жизни. Мы привыкли, что из него не то что рыданий — слезинки не выдавишь. Мы даже между собой полагали, что Мешок начисто обделен возможностью плакать, как, например, и возможностью быстро бегать, и если за вторую недостачу мы его жалели, то за первую — сильно уважали, а тут вдруг такое. Оказывается, Мешок все чувствует так же, как и все — ну или почти так же, — и тогда его слезы вполне понятны, потому что и мне, например, было жалко улыбчивого американца, и у меня тоже при виде салютующего клопа перехватило горло…
Истинной причины тех рыданий мы, разумеется, знать не могли.
Тем же вечером Мешок снова открыл свою тетрадь и написал туда, чтобы никто и никогда не разузнал тайну убийства президента Кеннеди. Теперь, кроме него самого, только эта его тетрадь хранила страшный секрет. Тетрадку Мешок запрятал в один оклад с домашней иконой, полагая это самым для нее правильным и самым укромным местом на свете…
Следующий раз он ее достал через пару недель, чтобы помочь Тимке, вернее, Галине Сергеевне, потому что Мешок все еще не был уверен в том, что он имеет право помогать непосредственно Тимке. Тем более что Тимке и не нужна была никакая помощь. Все это время Тимка жил вольно и как вздумается, завидно наслаждаясь небывалой свободой.
Ночевал он у кого-то из нас, и чаще всего — у Мешка, а с матушкой виделся каждый день, когда после школы приходил к ней на почту и они вместе шли обедать в поселковую столовую. Оттуда Тимка срывался на свою неожиданную свободу, как необъезженный жеребенок, а Галина Сергеевна возвращалась на почту, где теперь и жила с позволения почтового начальника и к его огромному удовольствию.
Пытаясь заработать на строительство нового дома, она одна заменяла всех ночных дежурных на телеграфе, выполняла еще кучу разных обязанностей в дневное время и такую же кучу специальных распоряжений начальника почты, для придумывания которых тот все чаще отлучался из дому, объясняя домашним про неотложные служебные дела.
Его жена Зинаида Павловна, работавшая бухгалтером на древесно-мебельной фабрике, как-то специально пришла вечером к мужу на службу, чтобы лично посмотреть на эти его неотложные дела. Она внимательно и со всех сторон оглядела засмущавшуюся яркую Галину Сергеевну, потом перевела глаза на своего мужа — потрепанного и обтерханного жизнью предпенсионера в полувоенной начальственной униформе, привычно пощелкала костяшками счетов где-то в глубине своего черепа и сказала:
— Вам, милая Галина Сергеевна, надо квартиру получить.
Та развела руками.
— В поселковом доме, который скоро будет готов, — пояснила Зинаида Павловна.
— Так там же…
— Знаю-знаю — дом строит наша фабрика, но две квартиры там выделяются для самоотверженных ударников коммунистического труда, которыми должен гордиться наш поселок. — Она поподжимала губами и добавила: — Лучшей да ударней кандидатуры и быть не может. Надо собирать бумаги, дорогуша, и я вам помогу…
Галина Сергеевна завертелась в оброненной на нее мечте да в сборе необходимых документов и измоталась до того, что на нее нельзя было уже и смотреть без жалости…
Вот тогда Мешок и пожелал, чтобы Галина Сергеевна обязательно получила квартиру в первом на весь поселок точно как городском двухэтажным кирпичном доме, который построила фабрика.
И Галина Сергеевна эту квартиру выхлопотала. Так у Тимки появилось новое жилье…
5. Тимка (Пробуждение страсти)
Мешок удовлетворенно рассматривал маленькую, но абсолютно личную комнату Тимки в их новой квартире на втором этаже почти городского дома.
Собственно, городским этот дом назывался только потому, что был кирпичным и двухэтажным. Более ничего городского в нем не было — ни отопления, ни воды, ни остальных удобств. Квартиры обогревались обычными дровяными печами, воду для рукомойника и других нужд надо было таскать ведрами из колонки на улице, все прочие удобства, как и в обычных хозяйствах, тоже располагались во дворе. Еще одной похожестью с городскими домами было полное отсутствие у его жильцов земельных участков и хозяйственных построек, кроме дровяного навеса, разгороженного на клетушки по числу квартир. Тимкины соседи ворчали, писали, жаловались и втихую самозахватывали куски общего небольшого двора у дома для постройки крохотных своих сараюшек, в которых потихоньку заводилась мелкая домашняя живность. Галина Сергеевна, к огромной радости Тимки, никаким приквартирным хозяйством не обзаводилась, и всех домашних забот было у них — это заготовить дрова на зиму, а у Тимки еще — принести воды и дров в квартиру да истопить печь. Галина Сергеевна хоть и сбавила обороты в поисках заработков, но продолжала вкалывать на две ставки для приобретения телевизора и разных мебелей, так что дома она бывала мало, и ничто уже не мешало Тимке жить своей жизнью и так, как ему нравится.
За год-полтора этот дом превратился в склочную грязную коммуналку. По изгрызенным лестничным ступенькам пробираться можно было с трудом, переступая через ведра с соленьями, узлы и кадушки и рискуя свалиться вниз (благо — невысоко), потому что самой большой ошибкой было бы искать опору в болтающихся лестничных перилах. Болталось все, что только могло болтаться, а что не могло — перекосилось, провисло, разъехалось. Из щелей тянуло сквозняками с запахами горелого, испорченного да сопревшего, и все это же лезло в глаза и даже в уши, когда на некоторое время от слуха отступала обыденная соседская переругань. Ругались в основном женщины, и даже не ругались, а разговаривали, как они привыкли по-соседски разговаривать через забор, не сходя с крыльца — над всем огородным простором.
Но сейчас дом дружно готовился к новоселью. Торжественное открытие и заселение первого коммунистического дома затянулось в зиму, и новоселье было решено совместить с новогодним праздником, потому что такое важное дело никак нельзя было свершить с бухты-барахты и требовалось хотя бы запастись самогоном для грандиозного гулянья. А пока что новые соседи ходили друг к дружке в гости, осматривали чужие хоромы, радовались, что у них не хужей, или огорчались, если хужей, и делились секретами нехитрых закусок, свято оберегая тайну лично своего самогонного рецепта. Другие посельчане тоже постоянно захаживали, цокали языками, желали, чтоб — полной чашей, и требовали немедленной выпивки, чтоб уже точно сбылось про полную чашу.
Старый печник Богдан, подрядившийся летом прочистить в Тимкином доме печную трубу, появился на пороге, когда Галина Сергеевна в короткий свой перерыв готовила обед на несколько дней вперед.
— Кепская печка. — Богдан вместо приветствия пренебрежительно кивнул на раскаленную печь. — Не дымить?
— Твоими молитвами, — усмехнулась Галина Сергеевна.
— А хорошую кватеру мы тебе соорудили, Сергевна. — Богдан топтался у двери.
— Ты, старый, Тимку моего попроси и вместе с ним сооруди себе такую же.
— Мне не дадуть, Сергевна, — я жа ж пенсионер, а не вдарник.
— Да ты всем ударникам ударник.
Разговор увял, но Богдан и не думал уходить.
— Слышь, что скажу, Сергевна… Ты жа ж, почитай, кучу грошей огребла… Почитай, задарма… А мне за работу так и не уплотила…
— Так я тебе еще и должна?
— А как жа ж? Вядомае дело — должна. Кали табе самой такой дом строить — тыщи три надо, не меньш… А по-старому — так и все тридцать. А мне не заплатила. Я так думаю, Сергевна: дай мне с этих своих тридцати тыщ рублик на красненькое — и мы в расчете…
— Тыщи мои сосчитал? — Галина Сергеевна взяла кочергу. — А дом, что ты спалил, если продать — тысячи три стоил бы? А все при доме — еще тысячу? Итого — четыре, а на старые — целых сорок тысяч. Получается, что ты мне десять тысяч остался должным — вот с них и возьми себе на красненькое. — Галина Сергеевна поставила кочергу на место и махнула рукой. — Иди, Богдан, — зла не хватает…
— Слышь, что скажу, — печник не уходил, — ты жа ж на своем паленом участке строиться не бушь?.. И сеяться — тожа ж не бушь?
— Сил нету.
— Во-во… Дык дозволь мне там по весне засеяться… Супротив не бушь?..
— Не буду — сейся.
— Постой-постой, — вмешался Тимка. — Не задарма же. Ты нам за это три мешка картошки и — по рукам.
— Ну ты и кулачину вырастила, Сергевна, — крякнул Богдан. — Ладно — по рукам.
Тимка протянул старику руку, но потом отвел в сторону:
— И машину дров на зиму.
— Да ты совсем без стыда — эксплутатор! — взревел старик.
— Как знаешь, — отвернулся Тимка.
— Полмашины… и уцелевшую сараюшку ремонтирую для себя, — предложил Богдан из распаха уже открытой на выход двери.
— Машину и стакан самогона… фирменного, что для новоселья стоит.
— А вот я Иванычу про самогон доложу, и будет тебе новоселье — за решеткой, — совсем уж по-глупому повернул торг печник.
— А я тебе хату спалю, и твое новоселье будет — под звездами, — спокойно отозвался Тимка.
Богдан молча поперекладывал в голове все эти слова, будто аккуратненько перебрал руками заготовленные к работе печные огнеупорные кирпичи, и и подвел черту:
— Ладно — по рукам…
Минут через десять он уже нахваливал и Тимку, и крепкий ароматный самогон.
— Слышь, Сергевна, большим человеком вырастет твой кулачина… Попомни мои слова… Эдак вот: за горло — и по рукам… — Богдан хлебнул и прижмурился. — И на чем эт-то он у тебя в настое?.. Никак трава какая?..
Но секрет Галины Сергеевны был не в травах. Она процеживала обычный самогон через марлю с марганцовкой, но предварительно настаивала его на кофе, зеленые зерна которого покупала в Витебске, потом жарила и толокла в муку.
— Коньяк! Натуральный коньяк, — похваливал кофейный самогон пожарник Трофимов, сделав остановку у Галины Сергеевны, а до того бродивший гостем по дому, справлявшему новоселье в наступающем 1964 году.
Дом гудел и покачивался. Соседи и гости из поселка запросто заходили в любую квартиру, переносили туда-сюда закуски и выпивку, пели песни и рвали меха гармошек. Такого грандиозного гулянья никто из нас и вспомнить не мог.
Мы болтались у всех под ногами, в основном в Тимкиной квартире, потому что украдкой старались лизнуть самогона, а на других столах он, в отличие от самогона Галины Сергеевны, был натуральным, вонючим и довольно противным. Да и вообще здесь было просторней. На новоселье Галине Сергеевне подарили отслуживший почтовый стол и несколько стульев, кто-то пожертвовал табуретки, кто-то — пожившую утварь, соседи снизу торжественно преподнесли слегка пожелтевшие тюлевые занавески на окна, но даже и карнизов пока не было, и занавески эти держались гвоздями, вбитыми прямо в оконную раму. Остальное пространство было пустым — пляши — не хочу, хотя до плясок праздник еще не разогрелся.
— Если б ты, Сергевна, этот коньяк продавала… — продолжал восхищаться Трофимов, затягиваясь от папироски.
— …То села бы в тюрьму, — резко закончила раскачивание его очень нетрезвых рассуждений Галина Сергеевна.
— Тебя, Сергевна, никакая тюрьма не возьмет… Если тебя огонь не взял — тебя ничто не возьмет. — Трофимов встал, требуя внимания, да так и стоял, позвякивая вилкой по стакану, покуда все не угомонились и не настроились внимать. — Я что хочу сказать? Когда я Сергевну из полымя спасал…
— Ты? — Галина Сергеевна возмутилась так, что даже привстала с табурета, но потом махнула рукой и села обратно. — Бреши дальше.
— И нич-чо не брешу… У меня и свидетели есть… Народ помнит, как я кричал. “Куды, — кричу, — дура? Вяртайсь, — кричу, — зараз крыша рухнет — и звездец”. Звиняйте за выражение… Только зараз я не об том. Спас и спас — дело прошлое…. У нас работа такая — людей с-под полымя спасать… А хочу я выпить за эту новую кватеру нашей Сергевны, которой зараз никакое полымя не страшно. Потому как кватера кирпичная, а не с бревна складенная, а кирпич полымя не берет…
Чтобы продемонстрировать всем эту глубокую мысль, Трофимов взялся наглядно тыкать папироской в кирпичный оконный откос, пока не подпалил занавеску, пыхнувшую с каким-то даже выдохом, который погнал пламя быстро вверх к потолку.
Сидевший рядом с Трофимовым Микола Гарнак ахнул, сорвал горящий тюль и бросил под ноги для затоптания, в котором приняли посильное участие все желающие. Заодно потоптали и Трофимова, чтобы впредь не дурил. Потоптали не больно, но — сильно и обидно, а потом еще и выпинали вон.
От этих переживаний все разом протрезвели и потому немедленно вернулись к застолью. Гарнак с полным правом занял самое главное место — у окна в торце стола, где до него сидел Трофимов. Гарнак получил квартиру здесь же на втором этаже по соседству с Галиной Сергеевной. Свою старую избу он выгодно продал и радовался каждый раз, как вспоминал о заныканных грошах, а так как вспоминал он об этом все время, то и радостным был теперь завсегда. Работал он плотником на древесно-мебельной фабрике, и квартиру ему выдали как самому настоящему ударнику, потому что на фабричной Доске почета он висел безвылазно незнамо сколько лет, строго поглядывая с пожелтевшего фотопортрета нынешними колючими глазами на прежнем молодом лице.
— Слухай, что я удумал, — втолковывал он Галине Сергеевне. — Надыть нам на свою сторону дома построить сплошной балкон, и будет у нас типа веранда — хошь солнцем грейся, хошь запасы храни. Тем, кто с-под низу под нами, — тем свезло: оне могут погреб выкопать, а нам — только балкон… Я все сосчитал: с тебя рубликов сто и матерьял…
— Сидять голубки. — В дверях стояла вторая половина, а точнее, три четверти супружеской пары Гарнак. — Гляжу — няма, а он туточки. А у тя — стыда нету. Пристроилась безмужней занозой сярод чужих мужиков…
Но этот скандал созреть не успел, потому что, оттеснив от двери плотницкую жену, в квартиру ввалился расхристанный Трофимов, а следом и вся пожарная команда. Через несколько минут шума, ругани, хватаний за грудки, угроз и криков Гарнак овладел всеобщим вниманием, перекричав всеобщий же гомон предложением испить мировую.
— Но вы согласитесь, граждане, что так нельзя… — вполне миролюбиво рассуждал начальник пожарной смены с подходящей фамилией Огарков. — Мордовать пожарного человека — никак нельзя. А если пожар? А он с побитой мордой? — Огарков прижмурился, прислушиваясь, как там устроился внутри изрядный самогонный глоток. — Это, можно сказать, полное нарушение правил противопожарной безопасности.
— Да ты послухай-послухай, — втолковывал ему Гарнак. — Раззи ж так можно? Папироской тычить и знай себе посмеивается. “Камень, грит, не сгорит, грит”. Ему смех, а тут…
Гарнак так наглядно все это демонстрировал, что именно в этот момент уже от его цигарки полыхнула вторая занавеска.
Галина Сергеевна мигом содрала ее с окна и пошла ею же хлестать Гарнака, пожарных, кого попало, сбивая огонь и разгоняя застолье.
Потом она сидела и плакала за разгромленным столом, размазывая по щекам копоть. Но вволю поплакать ей не удалось, потому что мы вчетвером так напробовались кофейного самогона, что ей пришлось выхаживать нас обратно к жизни всю эту шумную новогоднюю ночь.
Не считая того грандиозного перепоя, тайну которого Галина Сергеевна надежно сберегла от наших родителей, вся эта зима и все время после нее — до самого окончания шестого класса — прошли без каких-либо существенных потрясений. Мешок оставил на время переустройство мира и с головой утонул в книгах, глотая их ночи напролет к очередным беспокойствам Клавдиванны, которая опять было надумала показать внучка докторам, но потом все-таки решила, что большой беды от этой новой напасти не будет. Все это время Мешка грело его тайное могущество, тем более что сейчас из этого его могущества никакие катастрофы пока не происходили. Наверное, ему очень хотелось, чтобы мы как-нибудь прознали про его секретную миссию и стали его по-всякому уважать, но рассказать нам про это он не мог, а разные туманные намеки мы не понимали.
— Знаете, какой у нас поселок? — заявил как-то Мешок. — У нас волшебный поселок.
— Опять про Красную Шапочку прочитал? — съязвил Тимка, хотя Мешок в эту пору глотал совсем даже не сказки, а самые стоящие книги.
— Правда-правда, — продолжал Мешок. — Думаете, почему он так называется — Богушевск? Потому что к этому месту повернуты уши Бога и он все-все слышит, что здесь ему говорят, и вообще — что здесь говорится.
— Бедный Бог, — заключил Серега. — Если он все-все будет слышать, что здесь только не говорится, он умом попятится.
— Это почему же?
— Так по радио каждый день говорят, что Его нет и весь Он — сплошное мракобесие. Если бы тебе постоянно говорили, что тебя нет. думаешь, ты смог бы быть? Тебя бы и не было. Согласен?
— То я, а то — Бог, — и соглашался и возражал Мешок.
Только на самом деле Бог не имел никакого отношения к нашему поселку, а если и имел, то примерно такое же, как и к любому другому людскому поселению. Давным-давно все земли вокруг принадлежали пану Богушевичу, и когда в начале прошлого века шло строительство железной дороги между Оршей и Витебском, этот пан совершенно забесплатно выделил часть своих земель для дороги, но с условием, чтобы была построена станция и чтобы ее назвали в честь его жены, в которой он души не чаял. Так появилась станция Богушевская, и несколько энергичных евреев, вместо того чтобы, по обыкновению, заняться русской революцией или читать тору, завели здесь по согласованию с паном свои выгодные гешефты. В результате возникли винокурня, корчма и лесопилка, а жители окрестных деревенек потянулись к этим чудесам, расселяясь вокруг и попутно застраивая новый поселок, бывший тогда самым настоящим местечком, имя которому дала железнодорожная станция, то есть — панская жена.
Самым деловым и успешным из еврейских отцов-основателей Богушевска был хозяин лесопилки по фамилии то ли Лейкин, то ли Лейбов, и если бы он еще некоторое время продолжал свое дело, то он бы не только сказочно обогатил себя и пана, но и извел бы все леса в округе, подрывая на будущее основу мощного партизанского движения и вместе с ним — победоносный разгром фашистских захватчиков. Впрочем, в его сказочном обогащении тоже было бы мало толку, и через несколько лет все богатства — его и пана — все равно бы пошли прахом, потому что немало других евреев вместо чтения торы и интересных гешефтов ринулись в революцию, и это уже получился такой гешефт — мамочки мои… Тем более к нынешнему времени леса все равно извели — не так быстро, как мог это сделать Лейкин-Лейбов, и не так рентабельно, как он, а в основном на ветер, но извели.
К сожалению, я тоже приложил к этому руку, когда работал на древесно-мебельной фабрике, которая в три смены перегоняла бревна убитых деревьев в опилки и стружку, чтобы клеить потом древесно-стружечную плиту. На самом деле эту плиту придумали для правильного использования отходов древесной промышленности, чтобы никакая попутная стружка не пропадала даром, но если делать ее, как и положено, из одних отходов, то весь план полетит к черту вместе с премиальными и переходящим красным знаменем. Для спасения всего этого добра мудрые передовики социалистического производства решили в сырье для древесностружечной плиты (по-простому — в отходы) перегонять сразу целые бревна, и плиты пошли с перевыполнением плана.
Тот давний то-ли-Лейкин от подобных новаций пришел бы в ужас, однако и сам умудрился учудить такие новации, от которых в ужас пришли все евреи Богушевска и окружавших местечек, ожидая страшной и неминучей кары. Но кара их минула, и они мирно дожили до самой революции, перецокивая в восхищении и осуждении невероятное происшествие. Впрочем, может быть, именно революция и грянула той самой карой и расплатой не только на евреев, но и на всех людей, среди которых было допущено подобное святотатство.
Дело в том, что хозяин лесопилки сбежал с женой своего пана, когда красавица Богушевская приехала осмотреть собственные владения своего же имени.
Еврей с католичкой! Слуга с госпожой! Скупердяй отказался от кровью нажитых сундуков с золотом и отправился куда глаза глядят! Балованая барыня убежала из роскоши в нищую жизнь! Шекспир отдыхает, а всем, кто не верит в сказки, тоже хорошо бы заткнуться…
Мне хочется думать, что они выжили во всех грядущих революциях, джезказганах и освенцимах, потому что именно они самым естественным образом совместили в одно целое и Отца, и Сына, и Святого Духа, имя которому — любовь…
А Мешок упрямо верил в свою выдумку про место, куда обращены уши Бога, но, не умея убедить нас, отмахивался от любых возражений и зарывался в книги. Из-за этой своей страсти он полюбил теперь, чтобы вместе нам собираться у меня или у Сереги дома, где откапывал на полках книжки по ему одному известным признакам и затихал, шелестя страницами.
В тот год Тимка тоже приохотился к книгам и тоже подолгу затихал на пару с Мешком.
— Два психа на четверых — это перебор, — комментировал Серега и демонстративно тренировал пальцы дрессировкой карточной колоды. Свою тягу к чтению он по-прежнему прятал от чужих глаз.
А Тимка на самом деле и не читал. Он смотрел. Отыскивал изображения античных скульптур и репродукции с картин старых мастеров и долго разглядывал всю эту обнаженку, потому что ничего, кроме обнаженки, его не интересовало. Тогда же он взялся за карандаш, срисовывая все тот же срам сначала с репродукций, а потом и из собственного воображения. Довольно быстро он, что называется, набил руку и продолжал ее набивать везде, изрисовывая тетрадки и промокашки на уроках, беленые бока печей на переменах и что придется в остальное время.
Таисия Николаевна сильно воодушевилась и решила, что у Тимки наконец проснулась тяга к Прекрасному. Собственно, так оно и было, за исключением того, что прекрасным для Тимки было все то, что Таисия Николаевна считала лишь маленькой частью из целого мира Прекрасного. Тимка рисовал свои части прекрасного целого… фрагменты… точнее, грудь… но уже примеривался к другим, еще более прекрасным фрагментам.
Таисия привела его в пионерскую комнату, где единолично командовала, выдала ему там несколько тетрадей для рисования, карандаши, акварельные краски и даже краски в тюбиках, которые валялись неиспользованными для пионерских нужд с незапамятных времен. После щедрых даров Таисия усадила Тимку слушать и взялась нацеливать его неокрепшее сознание на идеалы Прекрасного, страстно рассказывая про огромный вклад живописцев, и прежде всего передвижников, в дело освобождения советского народа от пут угнетения капитализма.
Пока Таисия тащила Тимку поближе к идеалам, тот привычно рисовал новыми карандашами в новом альбоме. Таисия остановилась сзади, сказала по инерции несколько правильных фраз и замолчала, разглядывая Тимкин набросок, а чтобы увидеть поближе, привалилась на Тимкин затылок той самой частью своего прекрасного, которую Тимка и изобразил. Тимка замер дышать.
На самом деле Тимка сильно польстил Таисии, потому что опознать, что на рисунке торжествует именно ее грудь, можно было только по пионерскому галстуку, а все остальное — праздник Тимкиного воображения. Таисия вздохнула, забрала рисунок и отпустила Тимку, сожалея, что нельзя повыхваляться этим наброском среди коллег (даже среди коллег-женщин)…
Тимка стал каким-то дерганым, бегал глазами сразу во все стороны и иссыхал, пожираемый дикими мечтами. Например, ему хотелось на остров, где будут только он и Дашка из девятого, а лучше — Сонька, или неприступная Марина из десятого с косой до… ух до чего, или еще лучше — все сразу и еще практикантка по русскому. Или он вдруг погружался в фантазии о каком-нибудь пожаре, в котором все сгорят, а останется одна только Марина с косой, да и она угорелая… ну и еще пусть останется практикантка и тоже — без чувств… Серега вертел пальцем возле лобешника и спрашивал:
— А мы?
— Чего вы?
— Мы останемся или тоже — сгорим к чертям?
— Конечно останетесь… Вас вообще в том пожаре не будет.
— Так ты же говорил, что все, к чертям, сгорят.
— А вы уцелеете, — успокаивал нас Тимка. — Вы в это время будете на острове и уцелеете.
— Тогда пусть и Марина с косой будет на нашем острове.
Тимка глядел набычившись, с трудом врубаясь в Серегины подколки, но все равно было видно, что отдавать Марину к нам на остров ему очень не хочется.
Тимку было жалко. Не то чтобы мы не понимали его мечтаний — что там непонятного? — но нам казалось, что такая ерунда даже не стоит того, чтобы тратить на нее мечты. Хорошо бы, конечно, получить в свое владение и Марину и практикантку в обмороке без чувств, но мечтать об этом в то самое время, когда можно помечтать о чем-либо по-настоящему ценном, — это уже чересчур…
Тимка попросту забежал от всех нас далеко в завтра и там нас поджидал, дергаясь и шаря вокруг себя лапающими глазами. Успокаивался он, только рисуя свое Прекрасное, да и то успокаивался ненадолго.
К концу шестого класса Тимкина слава оригинального художника какими-то шепчущими тропками распространилась среди всех старшеклассниц школы, а некоторые хвастали его рисунками, ввергая подруг в черную бездну зависти. К Тимке все время прибегали старшие девчонки и с таинственным видом совали комочки еще более таинственных записок. Тимка практически никому не отказывал, и проблемы возникали только из-за отсутствия места для сеанса живописи с натуры, но и эти проблемы были разрешимы хотя бы потому, что чаще всего необходимое место обустраивалось у него дома. Девчонки смущались, краснели, но в конце концов обнажали свои рвущиеся вперед возраста груди, успокаивая себя тем, что Тимка — мальчик маленький и ничего пока не понимает. С какого-то времени Тимка, подрагивая руками и голосом, принялся объяснять добровольным натурщицам, что ему надо развивать свой талант и переходить к рисованию других фрагментов, продемонстрировать которые он и просил в качестве оплаты заказанного рисунка. Скоро в его тетрадях появилось сильное разнообразие фрагментов Прекрасного.
Когда Таисия Николаевна, запинаясь и краснея, попыталась объяснить свои воспитательные тревоги Галине Сергеевне, та засмеялась:
— Весь в отца, паршивец, а тот был лучшим мужиком, которого я знала, уж поверьте мне… Впрочем, и он был последней сволочью…
В самом начале весны Клавдяванна получила письмо. Она долго разглядывала конверт, заранее пугаясь, потому что до того все немногие письма, которые она получала, приносили ей одно только новое горе. Она запрятала конверт за божницу, но через несколько дней достала и велела Мешку прочитать.
— Читай все как есть… Все, что написано.
— Капулетовой Клавдии, — прочел Мешок с конверта, — в Богушевск, что в Витебской вобласти…
— Откудова письмо? — спросила Клавдяванна. — Из конторы?
— Архангельская область, — прочитал Мешок. — А дальше неразборчиво… Вскрывать, что ли?
— Вскрывай, — вздохнула Клавдяванна.
Короткое письмо было написано старательным круглым почерком второгодницы безо всяких знаков препинания.
здравствуйте тетка клавдия храни вас бог пишет вам бывшая соседка мария что ушла разом с вашей дочкой дуняшей за немцем и поручила мне про все вам пересказать если останусь живой а я мечтала приехать на родную землю чтобы расказать и помереть с легкой душой но мне апосля лагеря определили место жизни здеся потому и пишу письмом чтобы успеть раз смерть кажись прийшла и за мной а тады с немцем мы аташли совсем недалёка и наш поезд разбомбили под оршей и далей мы добрались до деревни вароны за оршей а там уже нас окружили наши солдаты и дуняшин дохтор дал нам яду и сам принял яду а я забоялась бога гневить и не приняла а дуняша так убивалась по свому дай бог памяти кажись фон монтеку так убивалась что только голосила и обнимала хоть тот уже и помер а когда появились наши красноармейцы то и они не могли оторвать ее от ееного дохтора чтобы ссильничать да так и закололи штыками а меня ссильничали и отправили в лагерь на лесоповал и там я понадорвалась а апосля меня определили жить здеся и я мечтала оклематься да бог не дал и вот я вам все расказала и мне прямо на душе полегчало а всю эту жизнь сделали над нами гитлер со сталиным напару.
Мешок замолчал, осиливая прочитанное.
— Все, что ли? — спросила Клавдяванна. — Может, еще что написано? Что там еще — в конце?
— Последние слова, что ли? — переспросил Мешок. — Гитлер со Сталиным на пару…
— Чума на их ободвух, — вздохнула Клавдяванна, забрала у Мишки письмо и долго его вертела в руках.
Потом она сходила на почту, и там по почтовому штемпелю ей подсказали, что письмо было отправлено из деревни Норенская Коношского района Архангельской области.
— Надо ехать, — сообщила Клавдяванна Мешку, как только у него начались школьные каникулы.
— Куда?
— В Норенскую эту… К Марии той непутевой, что письмо писала…
— Зачем? — недоумевал Мешок.
— Мабуть, вспомнит, где Дунечку мою захоронили… Надо ехать… — Клавдяванна хмуро считала деньги, хранившиеся за божницей на будущие ее смертные расходы…
Предстоящая поездка сильно будоражила Мешка, который до этого дальше районного центра из поселка не уезжал, но в конце концов путешествие доставило ему одни только разочарования. Толкотня на вокзалах у касс, безрадостные люди вокруг, бабкины частые слезы, долгая усталость — все это подталкивало мысли вперед, быстрее добраться до места, но и место это не шло ни в какое сравнение с родным поселком. Вроде все похоже, но в каждой отдельной похожести все равно сильно хуже: поменьше лесов, побольше болота, холоднее ветер — сыро, зябко, грязно, и даже посреди июньской жары потянет вдруг стынью прямо под припекающее солнце, будто на дворе и не лето, а черт-те что. Да и вся поездка оказалась напрасной, потому что Мария померла, и надо было сразу же по приезде собираться в долгий обратный путь. Клавдяванна задержалась, только чтобы помолиться на могилке Марии да порасспросить мужа и жену Пестеровых, которые одни лишь с той и общались.
— Жалко бабоньку, — кивал Константин Борисович, с удовольствием угощаясь запасенным Клавдеванной в дорогу самогоном. — Совсем поистрепало ее — совсем хворая была. А что ссыльная — так что ж? Ссыльные тоже люди. Правду я говорю, Афанасия? — окликал он жену, суетящуюся с закуской. — Вот у нас нынче тоже ссыльный живет. Из самого Ленинграда. Хороший человек — ничего плохого не скажу. Только лампу ночами жгеть — все пишет и пишет. А посмотреть с другой стороны, так что же ему еще остается, если он — писатель…
— За то и сослали, что писатель? — спросила Клавдяванна, чтобы поддержать беседу.
— Не… за то что он — тонеядец.
— Он-то — неядец? Сектант, что ли? Мой унук тоже не все ест. Если по мясу — так тоже неядец…
Мешок вышел во двор, где на сваленных у покосившейся изгороди бревнах сидел тот самый ленинградский писатель-сектант и что-то строчил в блокнот. Он мельком взглянул на Мешка и снова склонился над блокнотом, но ненадолго — оторвался от своей писанины и задрал голову к солнцу, которое как ожидало этого и засияло, выскочив из-за облака, расцвечивая рыжие растрепанные волосы писателя в совсем уж огненное пламя…
— А вы правда писатель? — Мешок все-таки решился потревожить этого странного рыжего ссыльного.
— Писатель? Это ты увидел, что я пишу, и подумал: писатель, да?.. — Рыжий говорил быстро, экал между словами и все время вопрошал “да? да?”, совсем даже не ожидая ответа. — Я скорее поэт…
— Это еще больше.
— Больше чего?
— Ну, важнее… главнее, чем писатель.
— Важнее в чем? — заинтересовался рыжий.
— Ну, в жизни… — Мешок прочертил рукой неуверенный круг в воздухе. — Во всем Божьем мире…
— А в чем эта важность-то?
— Ну… это как… как на стройке… как опалубка… писатель пишет, как опалубку строит, а жизнь что бетон — льется в нее, и получается этот вот Божий мир… А без опалубки бетон будет растекаться и застывать бессмысленной кучей… А поэты — еще главнее: в ихнюю опалубку жизнь первее всего и заливается.
— А если кто лабуду написал? Дрянь?
— Наверно, такая и жизня будет… Да кажись, такая чаще и происходит… Богу же некогда во всем разбираться — вот Он и заливает жизнь в то, что есть… Но если сильно хорошая книга, то Он это сразу увидит и тогда уже льет в ту опалубку, а плохие — побоку и стоят в пустоте…
— Интересный ты фрукт, да? И Бог твой интересно устроился… На легкую работку… Сам ничего почти не делает, да? Мы, значит, здесь придумываем вместо Него, как должно быть в жизни, а Он и соглашается, да? Он по нашим придумкам и направляет жизнь?..
— Ну так не надо худого придумывать, — заспорил Мешок. — Сами же худого напридумают, а Бога виноватят.
— И что этот твой Бог — и вправду не вмешивается в наши придумки, да?
— Не-е, он умней… У него есть люди, которые ему говорят, что надо исправить, когда мы тут совсем все зальем этим серым бетоном… в каменную кучу… — Мешок внутренне ахнул, перепугавшись, что проболтался, и зачастил, исправляя: — Правда-правда, я даже знаю одного такого старика: он может попросить, и Бог вмешается в наши выдумки и все сделает по просьбе.
— Красиво получается, да?.. Мне нравится… Честное слово… Значит, наша жизнь создается нашими же книгами, выдумками и иногда подправляется какими-то специальными Божьими людьми, да?..
— Наверное… Только у всех сила разная. В книгах — ого сила! И у этих специальных людей. А у выдумок любого другого — сила махонькая. Но вот если все, у кого махонькая сила, чего-то одного сильно захотят — наверное, все равно получится по-ихнему… Я в бабкиной книге читал, что если есть столько веры, сколько весу у горького зерна, то и этого хватит на большую гору… Главное в том, чего такого они захотят, потому что — именно это и будет…
— Так у тебя получается, что жизнь — это не то, что есть, да?.. а то, что должно быть по твоим выдумкам… по твоим желаниям, да?..
— А как же иньш?..
— Не в том смысл жизни, — бормотал под нос рыжий. — Не в том суть жизни, что в ней есть… а в пожелании, что должно быть… а в вере в то… — Он снова прикурил новую сигарету от старой, посплевывал с губы табачную крошку и сказал: — А ты своего старика — того, Божьего — тоже можешь попросить о чем захочешь, да?
— Не-е, о чем захочу — не могу, — еще на чуточку приоткрыл свою тайну Мешок. — Только о добром каком деле и чтоб — не для себя. Для себя — нельзя… Хотите, я для вас попрошу? Для вас — можно. Вот чего вы хотите, а?..
— Все, чего захочу? — засмеялся рыжий.
— Так вы ж худого не запросите? — подстраховался Мешок.
— Тогда попроси, чтобы мне дали нобелевку, — прищурился на вновь выглянувшее солнце поэт. — Знаешь, что это такое?
— Не-ет, — растерялся Мешок.
— Это премия такая, награда писателям, да?.. Не тревожься, — опять хохотнул рыжий, — очень хорошее дело… и хорошая премия.
— Это запросто, — перестал беспокоиться Мешок.
Поэт с восхищением разглядывал странного пацана, думая, как будет рассказывать про него знакомым и описывать в письмах, но и вполне предполагая, что все знакомые сочтут эту историю сплошной его выдумкой и ни за что не поверят, так что, может, и не надо ни писать, ни рассказывать.
— Ну, я пойду, — улыбнулся Мешок. — Не волнуйтесь — будет вам нобелевка.
Поэт расхохотался — и невероятно, но на на секунду поверил.
— Постой-постой, — остановил он Мешка. — Нобелевку пока особо не за что. Давай лет через примерно двадцать или двадцать пять, да?
— Ладно, — согласился Мешок.
— Только есть одна тонкость. — Поэт уже снова смеялся. — Нобелевку дают только живым писателям, да? Поэтому твой старик должен в придачу попросить, чтобы лет через двадцать — двадцать пять я был еще жив.
— Само собой, — пожал плечами Мешок…
Мешка не было всего каких-то десяток дней, но мы так обрадовались его возвращению, будто он отсутствовал целую вечность, а то и две.
Дальше лето покатило своими обычными тропинками, если не считать того, что Тимка, будучи всегда рядом, умудрялся все-таки быть как бы и в стороне. Мы вынуждены были признать, что в постоянных своих рисованиях с натуры он достиг завидной виртуозности — как в поисках натуры, так и собственно в рисовании. За летнее время Тимка необыкновенно вытянулся, заметно обогнав нас троих, — стал тонким и гибким, и теперь уже его многочисленные натурщицы вряд ли могли оправдать свои с ним исключительно художественные занятия тем, что мальчик, мол, маленький и ничего не понимает. Они и не оправдывали, а, наоборот, радостно выставляли свою напирающую на них красоту под его любования и совсем уж расцветали под ними. Тем более что летом для этой школы живописи было настоящее раздолье: где-нибудь в лесном закутке, в любом укромном местечке у озера, в самой озерной воде, чуть показавшись из нее, — только рисуй, только позируй, только зорко посматривай, чтоб не оказалось нежелательных очевидцев. Мы, рассматривая Тимкины наброски, в конце концов вынуждены были признать, что в его неослабевающих фантазиях про спасаемых им женщин без чувств что-то есть, и сами уже мечтали даже не о такой необыкновенной удаче, как землетрясение, в удобном завале которого запросто можно спастись вместе с красивой барышней в глубоком обмороке, — мы мечтали всего-то о том, чтобы Тимка взял нас помощниками на свои живописные сеансы. Ну, например, карандаши точить или что… Тимка обещал, но говорил, что это трудно — натурщицы не согласятся. Мы понимали, что трудно, но надеялись.
Удивительно то, что эти Тимкины занятия при такой вовлеченности в них болтливых девчонок все еще оставались тайной и для школьных приятелей, и для взрослых, иначе страшно было бы и представить шквал возмущений эдаким невиданным развратом.
Взрослые — и вообще дикие люди. Они что-то видят в тебе или что-то о тебе узнают, с ходу определяют причину — причем, как правило, самую неправильную из только возможных — и начинают эту выдуманную причину в тебе искоренять всеми силами и всей своей властью. При этом они самодовольно и безоговорочно уверены, что знают тебя как облупленного, имея в виду вовсе даже не тебя, а ими же выдуманные причины твоих поступков.
Чужое знание о тебе — это тупая непробиваемая стена.
Впервые я наткнулся на нее шестилетним мальком (наверное, натыкался и ранее, но или не слышал, или не понимал и потому не запомнил).
Мой взрослый дядя согласился взять меня с собой в город на целый долгий летний день. Там в городе на каждом углу продается мороженое, там где-то есть парк с каруселями, и туда иногда приезжает цирк. Все это я знал по рассказам своих счастливых сверстников, но даже не ждал себе каких-то особых удовольствий. Да мне их и не обещали. Достаточно уже того, что я окажусь в совершенно другом мире, набитом до отказа неведомыми звуками, красками и запахами.
Слово “радость” и близко не светилось с тогдашним моим состоянием. Скорее это была горячка, лихорадка, потрясение. Поезд отходил от поселковой станции в шесть утра, и всю ночь я не спал, а потом всю дорогу стоял у окна, расплющив лицо вагонным стеклом…
Вокзал в Витебске оказался громадным дворцом, где, точь-в-точь по словам горластого репродуктора, искусство соединялось с достижениями сельского хозяйства и техническим прогрессом.
Достижениями сельского хозяйства был увешан и навьючен весь люд, выхлестнувший из поезда и затопивший здание вокзала, через которое надо было пройти, чтобы выйти в город и далее — на ближайший рынок.
Искусство давило и поражало, нависая прямо над лестницей громадной картиной во весь лестничный пролет. Я чуть не загремел вниз, выворачивая шею, чтобы снова и снова самим позвоночником ощутить прожигающий взгляд генералиссимуса.