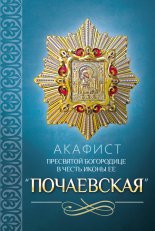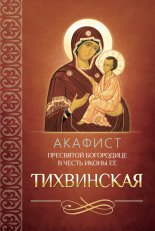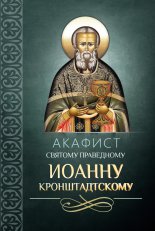Господи, сделай так… Ним Наум

Из редких вечерних выпивонов с ними в более осязаемых образах вырастали для меня «салабоны», «козлы», «деды», «овцы» и прочие представители тюремно-армейской фауны, довольно бесплотными тенями теснившиеся до того в обхвате тугих строк (в основном — машинописных) разных запрещенных изданий. Надо сказать, что общения эти были на удивление малословными, и в этом была наиболее схожая особенность моих соседей-приятелей. Нет, они не были деревенскими молчунами, под которых любили гримировать сельских жителей творцы советской литературы и кино. Если речь заходила о выпивках, любовных байках, еще о чем-то, что не слипалось внепродых с потусторонним бытом их недавней судьбы, — тут они спешили не очень поворотливыми языками вперебой друг другу («дай я приколю»). Но как только беседа соскальзывала к личным воспоминаниям их совсем недавних, вчерашних еще дней, тут же она превращалась более в молчание, в паузы, становилась не беседой, а темой, которая развивалась междометиями, вздохами, звяком рюмок, краткими замечаниями и прочувственно-матерными аккордами оценок.
При всех своих спорах и несогласиях они были чем-то удивительно схожи, но это была схожесть чужаков, где основа сходства — именно чужесть остальным, как одинаково чужды и похожи нашему взгляду совершенно разные пришельцы из каких-то иных жизней.
Так впервые и осязаемо для меня встретились армия и тюрьма, и я нащупывал их сходства и отличия.
Тюремный мир всеми своими стенами целится сломать тебя и выплюнуть ненужным и навсегда пришибленным охмырком. Ты можешь не сломиться вперед себя в стремлении выгадать и угодить, ты имеешь возможность в табели о рангах того уродливого мира занять место, соответствующее твоим о себе представлениям. Но далее тебе предстоит или саму жизнь поставить в защиту себя и этого, выбранного тобой места, или скатиться вниз, уже надломившись, и далее — вниз. Где хватит тебе цепкости, хитрости и удачи удержаться — не знает никто, но это — путь в одну сторону, в перелом. Все это происходит с тобой всерьез и навсегда. Никакое чудо не может заново поднять и возвысить тебя не то чтобы в глазах товарищей твоих по тюремной судьбе, но — и в собственных. Можно все перетерпеть в сторонке, в массе «мужиков», никуда не высовываясь с первого самого шага по тем тропинкам (как и сделал Шурка), никуда не встревая, будучи оглядчиво-робким, но не явно трусливым, и тем самым не останавливая на себе ни воспитующий энтузиазм граждан начальников, ни презрительное внимание авторитетных туземцев. Но и это возможно не всюду, а лишь в зонах, которые по начальственной лености не вздумали превращать в «красные» заповедники.
И вот ты выбрался на волю — надломленный, или переломанный, или, в лучшем случае, точно знающий, каким скользким ужом ты извернулся из перелома. Умудрился спастись терпеливой «овцой»? Уже неплохо, но главное то, что ты точно сознаешь это свое место в дальнейшей жизни, кем бы ни вздумал прикинуться среди равнодушных к тебе людей. Не так уж важно, как ты далее поползешь (или поскачешь) по своим дням и какими победами в них попробуешь вернуть себе затоптанное в зоне самоуважение. Для самых главных будущих событий на твоем пути ты останешься той же терпеливой «овцой» (и хорошо, что не кем-то похуже). Ни к чему путному ты и не пригоден, кроме как принести собою в окружающую тебя жизнь еще больше бессмысленной и согласной овечьей покорности…
И Шурка явно знал (кожей, костями, страхами, злобой), что ничего нужного для жизни среди людей не обрел он своими лагерными годами, а даже наоборот — что-то главное и нужное оставил там навсегда…
А Сашка, наоборот, был уверен, что в армии он приобрел какой-то важный опыт для дальнейшей своей жизни. Пару раз в поисках убедительных подтверждений этой уверенности он бросался листать свой дембельский альбом, который сам же и приспособил подставкой колченогому дивану. Диван со скрипом перекашивал свое древнее тело, пока Сашка, все более мрачнея, рыскал между тяжеленными страницами солдафонского изобразительного искусства. Очень скоро альбом возвращался на прежнее место, но Сашка не сдавался — тыкал указательным пальцем в Шуркину грудь и пузырил невразумительные слова.
— Школа для мужика, понимать надо… Школа жизни, мужества и все такое… Без армии — никак… Без армии — все «салабоны»…
— Отзынь, дедуля позорная…
Но на этот раз Сашка долго не унимался, размахивал руками, проливал водку, обиженно сопел и знал совершенно точно, что каждый человек должен пройти через армию, иначе он никогда «не будет, не станет».
— Таким мудаком, как ты, — подсказал Шурка.
В таких вот стычках на секунду-другую превращался Сашка в яростного «деда», а встречая отпор, тут же — в уступчивого «салабона», но более всего он и вправду походил на заполошного мудака. Но и «дед» и «салабон» жили в нем все время.
Позже я встречал на этапах таких вот свежеотслуживших бычков. Они с «дедовскими» ухватками пытались переть на оказавшихся рядом сокамерников, выкраивая себе положение поудобнее единственно известным им способом — унижая соседа. И они же с полпинка становились униженными «салабонами», напоровшись на резкое сопротивление. Но вновь и вновь пробовали они пустить в ход опыт своей армейской службы.
Армейская реальность своими писаными правилами и своими устными традициями превратилась постепенно (как и тюрьма) в отдельный, закрытый и уникальный мир. Всякого новичка там ломают уже на входе, в первые же дни. Унизительная участь «салабона» практически не оставляет возможности сохранить человеческое достоинство. Но там естественное стремление вернуть себе самоуважение (стремление к сатисфакции, жажда мести) не глохнет безысходно меж непробиваемых стен. Там надо только дотерпеть до времени, когда твои мучители уйдут и ты сам займешь их место, вымещая ядовитый опыт унижений на новых «салабонах». Так происходит очередной излом, но это уже и не опыт переломов, это — тренировка пластичности. Получаемый в итоге продукт — гуттаперчевый солдат и гражданин — самый удобный объект управления и более всего устраивает разномастную власть. Поэтому сложившиеся армейские отношения — не досадное упущение каких-то нерадивых командиров, а сама суть армейской службы.
И вот они возвращаются. Вроде все у них как у людей, но все — не по-людски…
Некоторое время назад они, сломанные и униженные, тосковали смертно, что ничего настоящего не будет более в их жизни. Не словами даже, но звериным инстинктом они понимали, что недостанет им уже самых ценных человеческих отношений. Дружба, верность, преданность — все это растоптано в той же казарме, где были растоптаны и они сами. Может, и нету на свете всего этого — настоящего, может, все это лишь выдумки зажравшихся писак, но если не выдумки, то этого всего тебе не обломится. Друганы, земели, телки — такого будет навалом, но — не более…
А потом они ломали других и сейчас точно знают, как это просто и даже необходимо (и — сладостно) — ломать человека в покорность и послушание. Это и есть — самое настоящее, а поэтому и жалеть не о чем, и все, что у них есть, — самое что ни на есть ящее, ящей не бывает.
И что же они могут принести с собой в нормальную жизнь?
Опыт существования в непереносимом унижении, но с подогревом затаенной мечтой: дождаться своего праздника. Не дай бог дождаться этого их праздника. Краешком его можно представить по развеселым загулам всяких однополчан в объявленные календарем дни. Объятия, совместные купания в бассейне, громкие и нарочитые братания. Погляди внимательно, служивый, — может, ты обнимаешь того самого «деда», который тебя и гнобил. Не слышит…
Задиристые, косые и бессмысленные, шатаются они по улицам в поисках, кого бы построить в немедленное послушание, и оробевших вольняшек только то и спасает, что внутри этих бушующих вояк сидят на вздерге зашуганные «салабоны» — по одному на каждого.
Пластичность — великий результат неестественного армейского отбора…
Однако бывают и исключения. Тюремная судьба Сереги и армейская Тимки сразу же пошли наискосок всему описанному здесь стандартному руслу тюрьмы и армии. Тимка не проходил губительный путь от “салабона” до “деда”, сразу же спланировав на своих талантах и страстях под особое покровительство командира принявшей его войсковой части. А Серега с ходу встал на головокружную узкую тропку правильной тюремной жизни и в обеспечение своих пониманий в любую минуту готов был уверенно поставить все то, чем единственно и обладает правильный сиделец, — свою жизнь. Так и летел новой судьбой, в которую давно и упорно вырывался из-под отцовой заботы…
В немалой степени им двоим помогала и та сердечная привязанность, которую все мы обрели, обретя друг друга. По крайней мере, остерегла от поспешного и дурного, как и всегда остерегают нас наши привязанности, хотя бы до тех пор, покуда мы сами их ценим. Где-то на краю сознания мы подозревали, что это и было нашим главным жизненным обретением, которое надо было сохранить и не растрепать в блудах и блужданиях долгой жизни…
Ни у Шурки, ни у Сашки заметных душевных привязанностей не было. Шурка оженился совсем зеленым, еще до тюрьмы, и сейчас его семейная жизнь более всего походила на поле его безраздельной и довольно самодурной власти. А Сашка только планировал пожениться, но и планировал как неизбежную повинность — без вдохновения. Работали они в местном леспромхозе на тягаче, вытягивая подготовленный лес с делянок к дороге и загружая его в хронически фыркающие МАЗы.
В растреклятый день, потрескивающий январским морозом, Шуркин тягач перевернулся. МАЗы никак не могли подобраться поближе, чтобы вытянуть Шуркин агрегат, и работа всего участка застопорилась почти на целую смену. Похоже, что виновником аварии был Сашка, бездумно сигналящий, мол, «ехай! давай! ехай!», — так и заманивший тягач в засыпанную снегом яму.
Прикативший директор не стал разбираться, кто виноват больше, а кто меньше, и обложил двух приятелей по самые маковки, искренним образом посоветовав им забыть о премиальных, на которых, кстати говоря, и держалась вся работа леспромхоза. При этом во всей его речи приличными были только два слова — «пидерасы» и «премиальные». Сашка юлил вокруг директора, пока тот выбирался на дорогу к своей машине, а Шурка так и остался сидеть верхом на сковырнувшемся тягаче — оглохший и безучастный.
На следующий день Шурка объявил бригадиру, что берет три недели за свой счет и через того же бригадира тут же выписал себе три машины дров (работникам леспромхоза в качестве профессиональной льготы дрова выписывали без ограничения).
Весь свой дармовой отпуск Шурка с утра пораньше вкалывал, заготавливая дрова. Пилил (вонючая и визгливая «Дружба» житья не давала ни в будни, ни в выходные), колол, складывал и снова пилил. Жена ему не помогала и только скандалила изредка, выскакивая на улицу в телогрейке нараспах и призывая соседей полюбоваться на «ирода» и «душегуба». Шурка заталкивал ее обратно в дом и возвращался к дровам.
Кончился отпуск. Дрова, сложенные в ладные костры (уже было без кавычек), радовали глаз. Перед выходом на работу Шурка пил всю ночь. Сначала с Сашкой, потом дома под громкие беснования жены с проклятиями и звоном посуды. Утром он принял еще и потопал в контору леспромхоза.
У директора была планерка, и именно в это время в кабинет ввалился Шурка.
— Михалыч, ты помнишь, как ты меня при всем народе пидерасом назвал?
— Ты… — директор озверел, — ты не только пидерас, ты… — Все приличные слова привычно выскочили из его памяти, и он абсолютно лишился возможности адекватного восприятия реальности.
То ли Шурка завернул чересчур сильно, то ли директорская челюсть оказалась очень нежной, но, если верить судебным документам, она оказалась сломанной сразу в двух местах. В точном соответствии с заранее продуманным планом Шурка вернулся в тюремный мир. Единственной неожиданностью для него стало внезапное изменение судебных правил. Опьянение, считавшееся раньше облегчением вины преступника, вдруг стали судить как дополнительную вину, и Шурка получил не трояк, к которому он себя готовил, а полновесный пятерик. Так что ровно на две зимы не заготовил он дров для своей семьи.
Кстати, Сашка на том суде был свидетелем, и все свои премиальные он получил сполна, потому что директор, как Сашка и предполагал, оказался не падлой конченой, а нормальным отходчивым мужиком — вспыльчивым, конечно, и резким, но без этого — никак…
А Шурку, может быть, и сломали эти два не предусмотренных им года. Вернулся он опухший лицом и беспробудно запил — уже навсегда.
Много жизней спустя писатель-юморист Жвадорин привез меня в Богушевск на своей компактной, уютной и почти вездеходной “Ниве”. Он хотел увидать места моего детства. Знакомство свалилось на нас взаимно удивительной удачей. Мы были из напрочь разных жизней с трудносовместимым опытом и не могли наговориться. Так и остановились перед бывшим моим домом, продолжая разговор, не оконченный за все пятьсот километров пути.
В открытое окно со стороны Жвадорина влезла здоровенная вурдалацкая бошка, урытая красными буграми до глаз. Это был Шурка.
— Купите, мужики, эта вона. — Шурка протягивал отстраняющемуся Жвадорину промасленные гайки, слегка цокающие в дрожащей ладони. — А, Навум, купи вона, — приветствовал он меня, будто видел здесь еще вчера, а не десяток лет назад.
Сказать, что он был пьян, это — оскорбить всех, кто когда-нибудь напивался до любой степени бесчувственности. Вино из Шурки можно было выжимать. И не из него одного…
Казалось, что все время моего здесь отсутствия все мои односельчане пили вбеспросвет, а остальная их жизнь текла по-старому, будто и не жили они все в другой уже стране и в другом времени. На перекрестке двух основных поселковых дорог, где по-прежнему располагались основные магазины и питейные заведения, все так же стоял Скворец-младший, стреляя у проходящих знакомых сигареты и мелочевку. На этот пост он заступил лет через пять после окончания школы в своем первом и, как оказалось, окончательном запое. А сначала судьба вроде бы сочиняла ему совсем другую песню…
Скворец-младший унаследовал от отца его звонкую трубу и редкое имя Дорофей. Имени он чурался, а трубу обожал и приручил ее до заслушаться только. Где-то он доставал пластинки с не очень разрешенным джазом и с них — по слуху — перенимал новые варианты и вариации своей совместной с трубой жизни.
Потом они стали жить втроем — Скворец, труба и нерасчесываемо-кучерявая Дина, которую Скворец называл “моя Еврейка-Дикая”. Скворец в то время и не помышлял пить, да и не мог бы, потому что губы его всегда были заняты или трубой, или Диной и никакой стакан не мог бы к ним той порой пробиться.
В черный день они втроем потарахтели на старом мотоцикле по грибы, и в лесу Дину ужалила гадюка. Переполошившийся Скворец гнал обратно в больницу не разбирая дороги да так и не понял, на что налетел его мотоцикл, когда его и Дину вышвырнуло на землю. Дину в больницу он донес на руках, но та была уже без сознания.
— Она жива? — теребил Скворец Баканова.
Тот только руками разводил и пытался объяснить про кому и про границы возможностей современной медицины.
— Она нас слышит? — пытал Скворец.
— Может быть, — бормотал Баканов. — А может, она слышит уже иной мир…
Ночь напролет под проклятия всей больницы Скворец дудел у постели Дины, вызвенивая ее обратно из бессознания их общими любимыми мелодиями. Под утро она неожиданно открыла глаза.
— Не закрывай! — заорал Скворец. — Смотри на меня. Слушай.
Боже мой, как он, наверное, играл!
Но Дина отвла от него взгляд и закрыла глаза. Скворцу показалось, что там, в своей темноте, она хочет досмотреть что-то очень важное — более важное, чем он и его труба.
После ее смерти Скворец оставил трубу и запил.
Но у Скворца хоть был повод, а пили-то все сплошь. Пили, будто это и было главным предначертанием всей их жизни — ответственно, натужно и ежедневно без всплеска даже какой-либо радости пития.
— Это я виноват, — непонятно признался Мешок в ту зиму, когда посадили Шурку и когда я впервые так надолго вернулся в поселок.
Мешок имел в виду свое пожелание, чтобы никого не арестовывали за самогон, но я конечно же ничего не понял. Я вообще тогда Мешка не понимал. У него были золотые руки, но все в его дому и вокруг дома рушилось и приходило в негодность. Ночами Мешок слушал вражеские голоса по подаренному мной допотопному отцову приемнику и сумел добиться от этого лампового монстра вполне приличной слышимости, вопреки все еще работающей и недовзорванной нами глушилке.
— Разве починить забор труднее, чем переплести книгу? — Я с удовольствием вертел в руках классно переплетенный Мешком томик “Архипелага” и наседал на довольного похвалой Мешка своими недоумениями.
— Во-во, — образумь этого обормота, — скрипела Клавдяванна мне в помощь, выбравшись из своего закутка.
— Ты не думал, почему у Солженицына его Матрена живет в таком запустении? — огорошил меня Мешок. — Может, праведникам так и начертано?
— Что начертано? Жить с тараканами? В этом, что ли, праведность?
— Ничего не выкраивать для себя.
— Зусим с глузду сышоу, — вздохнула Клавдяванна и опять скрылась к себе за печку.
— И ты, значит, праведник?
— Я только учусь, — улыбнулся Мешок.
— А ты не можешь учиться этой своей праведности и одновременно приводить в порядок дом?
— Боюсь, что так нельзя…
Я испугался, что Клавдяванна права и Мешок на самом деле слегка не в себе. А может, и не слегка…
Мешку и самому казалось, что он сходит с ума. Это было время его счастливой влюбленности, и поэтому он старался в будущее не смотреть и о будущем не думать. Что он мог там предложить своей очаровательной избраннице — порушенную избу с тараканами? Может быть, праведникам и не след жениться? Почему неведомые силы наделили именно его заботой о неустроенном мире, обделив возможностью озаботиться своей судьбой? А если нельзя осчастливить женщину, которая зашибла сердце, то что за дело ему до всего суматошного мира?..
Но изнывающий в неправедах мир теребил Мешка, не позволяя тому полностью потонуть в своих безответных вопросах. Мешку подступало доставать снова свою таинственную тетрадку, и он надолго замирал над ней — огромный, всемогущий и… беспомощный.
Теперь уже он занимался справедливым переустройством мира до предела сосредоточенно, вытеснив предварительно из себя любые жизненные нетерпения, и обломов почти не случалось. На долгое время основной заботой Мешка стало обережение Солженицына и Сахарова. Нобелевки он им не хлопотал, полагая, что для этого у них хватит других ходатаев, но ежедневно почти вымаливал им спасение от тюрьмы. Главным источником информации для Мешка оставался древний ламповый приемник, и поэтому так получалось, что он свои могущественные возможности включал не в опережение событий, а вслед за ними, стараясь поспеть за унырливыми гэбэшниками и их неожиданными придумками.
Но одно хорошее дело он придумал абсолютно самостоятельно, без всякой подсказки из приемника. В стране объявили пятидневную рабочую неделю, подарив всегда не успевающему как следует похмелиться народу два выходных подряд. Наверное, лучшим подарком это стало для не очень пьющих евреев. Вслед за самим Богом стремящаяся к такому же могуществу партия заново даровала евреям их священную субботу. Вдохновленные этим подарком еврейские старики стали вновь часто собираться в дому моего деда, но уже не на запрещенные им ранее молитвы, а чтобы перетирать беззубыми ртами невероятные новости о том, будто бы в самом Кремле появились какие-то люди, вознамерившиеся облегчить древнему народу его сегодняшний день. Старики сидели у телевизора и играли в свою вечную игру.
— Аид, — тыкал пальцем кто-либо из них в экран с помехами, — еще аид и еще один.
— Это аид? Чтоб я так жил! Это гой, и морда у него что у погромщика.
— Нет, это — аид. Он скрывается, потому что надо скрываться, а если бы не скрывался, то — чистый аид.
— А я говорю — погромщик.
— Сам ты погромщик.
Так они и отошли один за одним у этого же телевизора, не прекращая привычной свары…
Еще в тетрадке Мешка было написано о благополучном полете американцев на Луну, о победе израильских агрессоров над несчастными арабскими армадами, о спасении Буковского (правда, Мешок всегда принимал его за космонавта Быковского), о победах советских хоккеистов и фигуристов, о том, чтобы для местной детворы регулярно привозили в поселок мороженое, а для взрослых — пиво…
Но в зиму, о которой идет речь, Мешок к своей тетрадке не прикасался.
Это была замечательная зима. Я перепечатал, а Мешок переплел такое количество разнообразной недозвольщины, что если бы сейчас и помереть, то совсем не стыдно было предъявить кому там положено результат своих здешних трудов. Но этот отчет откладывался, и подступила пора прощания.
— Жаль, что Тимки с Серегой не было с нами…
— Давай — за них. — Мешок склянкнул своим стопариком по моему.
— Ты тут в своей праведности не очень, — неловко пошутил я. — Не переусердствуй. Всех невест распугаешь…
— Ладно — как-то будет. — Мешок опять надолго замер. — А что бы хотел ты?
— В смысле?
— Ну, самое главное — чего ты хочешь?
— Берешься устроить? — рассмеялся я.
— Не-е, — отступил Мешок, явно отказавшись от мысли рассказать что-то сверхважное. — Хотел знать, за что помолиться…
— Тогда помолись, чтобы меня не арестовали… не посадили… пока еще…
— За это не могу, — вздохнул Мешок. — Это же за тебя, а значит, получается, — для себя…
Объяснения Мешка были непонятными, но за ними маячило такое откровенное признание в дружбе и преданности — до перехвата дыхания.
— Тогда помолись за моих друзей и знакомых — кого ты не знаешь. Чтобы из них никого и никогда не посадили… Это можно?
— Можно, — подумав, кивнул Мешок.
— Тебе список дать или ты так — скопом? — Я пытался шутливым тоном скрыть свое смущение обнаженной Мешком сердечной заботой.
— Не надо список. Ты сам подумай о каждом, а я и помолюсь за тех, о ком ты подумал.
— И этого достаточно?..
Я продолжал сохранять шутливую интонацию, но уже понимал, что в словах Мешка самая главная правда жизни. Что же еще может держать нас на земле, кроме добрых слов да молитв наших друзей и близких?..
Когда меня арестовали, два следователя ростовского КГБ приехали в Белоруссию, чтобы нарыть чего-нибудь убедительного для уже составленного вчерне обвинения. Дотошный обыск в доме Мешка обогатил их проклятиями Клавдиванны и пухлой тетрадкой — точнее, сшитыми вместе тремя ученическими тетрадками, найденными в окладе иконы. Сам предполагаемый свидетель обвинения оказался тупым и упрямым дебилом, негодным даже на упоминание в сочиняемом следователями документе.
— Худое дело робите, — твердил Мешок в ответ на любые вопросы. — Худом всем вам и откликнется, — добавлял он совсем невпопад, будто не слыша требований сообщить фамилию.
Следаки прервали допрос и укатили отдышаться в забронированный заранее номер витебской гостиницы. Тетрадку они сначала пролистали наискосок, позже зачитывали вслух отдельные фразы и ржали, а еще позже — задумались, пытаясь перебороть нарастающую тревогу. С тем и легли спать, чтобы поутру после скорбных новостей правительственного сообщения и долгих телефонных переговоров сцепиться в яростном споре.
— Чушь… Записки слабоумного… Ты вспомни его — это же олигофрен хренов, и ничего больше…
— А ты на числа погляди. Сопоставь…
— Числа он задним числом приписывал…
— Что Черненко ласты склеил, ты когда услышал? Что главный по похоронам Горбачев — ты слышал?.. Почитай — это у нашего олигофрена позавчера написано…
— Совпадение… Простое совпадение…
С тем они и уехали, прихватив тетрадку с собой и продолжая неоконченный спор, прерываемый лишь неотложной необходимостью сочинения подробностей моей антисоветской жизни.
— У меня жена заболела, — глядя в хмурь за окном, выдавил наружу мучающее его беспокойство следователь Проценко. — Пошла на обследование — и вот…
— Сочувствую, — машинально отозвался его верный помощник, не отрываясь от писанины.
— Ты помнишь этого… из Богушевска?.. Он говорил, что худом отзовется.
— Прекрати эту бабскую истерику… Совпадение. Дурацкое совпадение.
— А если у него талант на совпадения? А если и дальше нам хлебать от его совпадений?
— Знаешь что? Давай я тебе все докажу раз и навсегда. Помнишь, там написано, чтобы никого из друзей нашего антисоветчика не арестовали и не посадили? Помнишь?
— Ну помню.
— Так давай посадим. Пристегнем к делу…. Соорудим группу. Понимаешь? Нам с того — только больше заслуг, а заодно убедишься, что твои страхи и суеверия гроша ломаного не стоят…
На запрос следователей ростовского управления КГБ о продлении расследования по моему делу, о привлечении к следствию новых обвиняемых и о переквалификации обвинения в полновесную 70-ю из Москвы ответили категорическим приказом ограничить дело предъявленным уже обвинением и закончить следствие в установленный срок. Я потом видел этот приказ в материалах дела, но не знал, как сильно он долбанул моих преследователей.
— Убедился?
— Совпадение… Новые времена, новая метла…
— Так там и написано про новую метлу…
— Это ничего не доказывает. Взять бы этого дебильного пророка на настоящий допрос — он бы такое запел…
— Вот и возьми… Как руководитель следственной группы я тебя отправляю в командировку. Дуй в этот Богушевск. Верни тетрадку как не представляющую интереса для следствия и допрашивай там ее хозяина сколько угодно и как тебе угодно. Проверяй на себе, а я не хочу оказаться случайной жертвой даже и совершенно случайных совпадений.
“Чушь… Ерунда… Небывальщина…” — распалял себя гэбэшник всей долгой дорогой и в сладостных мечтах видел извивающегося в страхе Мешка, и отстраненного по его заявлению начальника, и себя на его месте, и свои новые погоны, и…
— Вот, специально приехал, чтобы вернуть вам вашу собственность, — промямлил следак, заявившись заново в дом Мешка. — Подумал, что вдруг вам понадобится что-то написать, а — негде… Так спешил… А знаете, вашему другу у нас хорошо… Очень хорошо… Он же у нас наконец-то может хоть есть по-человечески… Представляете, он до того, как мы его… в общем, одни макароны ел… Ужас… Верите?
— Что макароны ел? — нарушил свое молчание Мешок. — В это верю.
По освобождении я на несколько дней вернулся на родину.
Клавдяванна была еще жива, хотя и очень слаба. Все свое время она проводила у телевизора, который Мешок, наверное, специально для нее и завел. Мешок работал на железной дороге, заведуя там всякой электроникой и автоматикой, после работы без устали поднимал из руин хозяйство и собирался жениться на давней своей избраннице.
В тот приезд я удачно попал за день до отъезда Тимки по каким-то своим всегда таинственным делам. В кои-то веки мы смогли собраться все вчетвером. Тимка был неправдоподобно и, казалось, навсегда загорелым после своего афганского прапорства, которое было для нас таким же таинственным, как и все его дела. Он был облачен в заморское шмотье, радовался нашей встрече совершенно безмятежно и все время пытался одарить нас и Мешкову невесту джинсами, или часами, или сам не знал чем.
— Хотите презервативы? Да вы никогда и не видели таких презервативов. Это же вещь!.. Нина, — теребил он хозяйку застолья (и почти уже хозяйку всего Мешкового дома), — хочешь презервативы — чтобы раньше нужного не настрогать маленьких таких мешочков от нашего Мешка?
— А я как раз хочу настрогать, — безо всякого смущения отзывалась Нина. — Тебе, шалапуту, этого не понять.
— Тогда лучше строгать тимок, а не мешочков, — задирался Тимка.
— Завидуешь? — тыкнул его в бок Серега. — Правильно делаешь. Мешок вытянул самую козырную карту…
Серега был бледен до прозрачности после очередной своей ходки и тихо отдышивался среди нас, возвращаясь к жизни и радуясь, что здесь вот можно расслабиться безо всяких опасений и не держать наготове всегдашнюю защитную ярость.
Тихонечко поохивая, в горницу приковыляла Клавдяванна, привычно поварчивая на нас между охами, но явно радуясь нашему счастливому сборищу. Нина тут же усадила ее на свое место, пристроившись как-то рядом с Мешком, а более — летая сразу вокруг всех нас.
— Послухай сюды, Навум, — прервала застольный гомон Клавдяванна, — я тут с соседками собрала трохи грошей. Ты как в сваю Москву поедешь — отвези их и передай там… найди Марию эту и передай… Надо помочь человеку…
— Какую Марию?
— Не обращай внимания, — хмыкнул Мешок. — Бабка с подругами день за днем смотрят сериал этот… “Просто Мария” называется.
— Давайте мне, — засмеялся Тимка. — У меня этих Марий… И каждой нужна помощь.
— Тебе, охальник, и копейки доверить нельзя.
— Копейки — нельзя, а Марию — очень даже можно…
Когда Клавдяванна убедилась, что до Марии мне никак не добраться, хотя я и слоняюсь невесть зачем по самой Москве, она, недовольно бормоча, перебралась в отгороженную для нее Мешком маленькую свою комнатенку. Там она и померла через месяц — тихо и аккуратно, как всегда и старалась жить и помереть…
Я спешил и уже через пару дней после Тимкиного отъезда зашел к Мешку попрощаться. Мешок хлопотал, перестилая полы в дому, и, даже обнимая меня, все еще морщил мозги, прикидывая, как управить свои неотложные заботы.
— Выходит, можно все-таки и без тараканов? — подначил я.
— Каких тараканов? — не понял Мешок. — Ты про тараканов в голове?
— Отчасти… Я про праведников… Им уже можно, чтобы и для себя?
— Нельзя, — как-то с ходу осунулся Мешок. — Им можно перестать быть праведниками.
— Вот так взять — и перестать? А что же будет со всеми нами грешными?
— Ну, на время перестать, — засуетился Мешок, стараясь стать меньше и незаметней, что при его комплекции было затруднительно. — Типа отпуск… Чтобы привести в порядок хозяйство, то да сё… Но совсем отказаться нельзя. Надо замену найти вместо себя — пока в отпуске…
Мешок явно заговаривался, и я вспомнил давние свои опасения по его поводу. Но даже если он и немного того… немного не в себе — в этом же ничего страшного? У каждого свои тараканы. Мешок сдвинут на праведности и переживает, что сошел с дистанции. Интересно, кого это он считает здесь новым праведником? Неужто сам кому-то поручил — будешь вот вместо меня? С такими разговорами можно и на дурку угодить…
Я поделился своими сомнениями и страхами за Мешка с Серегой, который провожал меня до самого поезда. Мы сидели в привокзальном сквере, заросшем кустарником в не продраться, и распивали на посошок.
— Не боись — это он со мной говорил, — успокоил меня Серега.
— И что ты?
— Вижу, Мешок совсем умом попятился, ну и согласился, чтобы его не расстраивать. У всякого свои заскоки — я этого насмотрелся, а Мешковые еще не из самых диких. К тому же это наш Мешок, как же не согласишься?
— На что согласился? — не понимал я.
— Ну побыть вместо него, — засмеялся Серега. — Вроде Божьего разведчика и подручного…
— Вроде шныря? — подколол я.
— Вроде того, — прихмурел Серега. — Но — у самого Бога, — нашелся он.
— И что надо делать?
— Да ничего не надо делать, — отмахнулся Серега. — Надо дать Мешку возможность успокоиться, собрать расстроенные мозги в пучок, жениться, сладить хозяйство…
— Ну тогда за твою праведную жизнь, — предложил я заключительный тост.
— Не хохми, — чокнулся Серега, дотронувшись бутылкой до моего лба. — Моя правильная жизнь — это и есть почти и праведная… Тем более что, наверное, скоро я буду в законе…
С тем я тогда и уехал, на всякий случай перебирая в памяти знакомых, которых можно будет поднять, если Мешку понадобится срочная медицинская помощь.
Лет через двадцать Мешок вытащил меня в Богушевск полуночным заполошным звонком. Он и встретил меня у поезда, и, пока мы ранним утром шли по упрятавшемуся под кроны деревьев поселку, сбивчиво рассказывал про свои сумасшедшие фантазии о порученном ему служении, и упрашивал подменить его на время, потому что ему как раз сейчас ну никак не с руки и нет никакой возможности оставить своими заботами семью, дом, детей…
— Несколько лет всего, а?.. Вот дети подрастут — и тогда ладно уж… Тогда — пусть вся моя жизнь — прахом, и я обратно стану рулить… Ну пару лет хотя бы?..
Я накрепко помнил, что с двинутыми умом спорить не надо, и отмалчивался, еле сдерживаясь, чтобы не фыркнуть — настолько нелепым было сочетание этого громилы, его лепета и его же выдумок космического масштаба. Я присмотрелся к Мешку, и напрочь ушло всякое желание фыркать и насмехаться над ним. Ему вправду было очень плохо.
Ну и что мне теперь делать с Мешком? Можно, конечно, врезать его сразу по лбу отрезвляющими словами, но какой в этом толк — он же не услышит? А если он с этим своим бредом обратится к кому другому? Его же мигом определят в психушку и — до конца жизни. А как тогда его жена?
— Как Нина? — попробовал я переключить Мешка с его сумасшествия на что-то реальное.
— Замечательно. — Мешок прижмурился. — Просто замечательно… Вот я и говорю — нельзя ей сейчас… никак нельзя, чтобы ее — в поруху, в развал… Все же развалится…
Мешку послышалось в моем вопросе про Нину какое-то отдаленное согласие, и он заспешил, добивая меня новой порцией убедительных для него резонов.
— А потом я ее подготовлю… Потом она поймет… Дети подрастут…
— Через пару лет еще не подрастут. — Я, кажется, начинал вилять, так и не решившись открыть Мешку правду про его, мягко сказать, ненормальности. — У тебя младшему сколько?
— Пять, — прошептал Мешок. — Уже пять… Зато старшему девятнадцать… А через пару-тройку лет старшие смогут присмотреть за младшими, и я им ни к чему…
— Ну ты прямо как Шидловский. Помнишь? — попытался я перевести разговор.
— Скажешь тоже. — Мешок улыбнулся и стал прежним. — Мы же — не кажный год.
— А что мешает? Сил нету? Или желания?
— Этого — навалом… Как Бог дает — так все и получается… По-моему, хорошо получается… Но это — пока можно заниматься собой… Пока не надо отвечать за всех, — вернулся Мешок в свою придурь. — Так что скажешь? Поможешь?
Я отмолчался до самого дома, где Мешок на какое-то время оставил меня в покое и в полное распоряжение Нины, а сам занялся ежедневными хозяйственными тяготами, которые совершенно наглядно были ему совсем не в тягость. Владения Мешка могли бы посоревноваться с памятными из детства роскошными владениями Домового. Я глядел через окно на ухоженную теплицу, в которой именно сейчас крутился Мешок, отбивался от его малолетних симпатичных отпрысков, вполуха слушал Нину, которая ладно справлялась с утренними домашними хлопотами, собирая завтрак, приглядывая за детьми, прибирая в уютной комнате, — все сразу и все между делом да без натуги.
“Ты говоришь — любовь… Кака така любовь? Выдумки одни. Это ваш Тимка и такие, как он, напридумают с три короба, чтобы блудить без совести… У нас — семья. Хозяйство надо доглядать, детей поднимать — тут не до глупостей… Михась говорил, что ты драники любишь. Я к его приходу напеку, чтобы с пылу с жару. Так смачней будет. Он тоже драники любит. Он мне, чтобы бульбу тереть, даже прибор специальный купил, но я все равно руками — так привычней, да и смачней получится… А название-то, название у того прибора — смехота и срамота: блендер называется. Это ж кто мог такое название придумать? Только Тимка ваш и мог… Вот он, охальник, все время про любовь — ему только того и надо. А у нас — кака любовь? И за что, скажи на милость, можно, например, вашего Мешка любить? Он же и слова ласкового не скажет… Все молчком. Хочешь ему что сказать, а — его и нету. Только что был и снова — то в сарае, то в огороде: ходит, ладит, бормочет что-то… Мы вот из-за его выдумок и мясной вкус позабыли. Нельзя, говорит. А как телку сдавать идет — прям плачет, чисто дитя… Хорошо еще, что его выдумки на курей да утей не касаются… А начну говорить, почему нельзя как у людей, чтоб свинок держать? Свинки — это ж такое подспорье было бы. Молчит… Если хоть и заболит что, все одно — молчком… Вот и домолчался. Сёлета сердце ему прихватило так, что на “скорой” увезли. А у меня все и оборвалось сразу. Меня к нему не пускают, так я рядышком — в коридоре. Баканов гонит домой, а куды мне идти, если Михась мой туточки — за стенкой мается? Дети там же при мне, но понятливые они у нас — тихо мышатами жмутся и голоса не подают, чтобы не выгнали нас оттель… Я тогда впервые молиться стала. “Господи, — говорю, — пусть он оклемается. Если Тебе надо, — говорю, — пусть он хоть и больным на завсегда останется, а я за ним ходить буду — только не забирай его от меня”… А ты говоришь — любовь… Глупости одни, а надо просто жалеть один одного, вот и вся любовь… Нет, ты не подумай, мы, известное дело, любимся с Михасем — да еще как любимся… Только знаешь, я думаю, что Бог — если Он есть — все это придумал специально, чтобы люди перед ним не зазнавались. Чтоб не кичились умом или чем еще. Чтоб помнили, откуда они все и как они принуждены любиться… Срамно ведь — честное слово… Хотя, конечно, радостное дело, кто ж спорит? Очень радостное, но все одно стыдное — не напоказ…”
Мешок вернулся со двора и кликнул меня с собой.
— Потом поснедает, — объяснил он жене. — Меня на работу проводит и вернется.
— А ты разве снедать не будешь? — засуетилась Нина.
— Опаздываю. Сегодня надо пораньше… Я и вернусь пораньше, — успокаивал Мешок всполошенную жену. Мы вышли из дому и какое-то время шли молча.
— Ну так что? — снова спросил Мешок. — Поможешь?
— Ты же Серегу назначил, — вильнул я в сторону.
— Пришлось уволить, — нахмурился Мешок. — Он бы со своими воровскими понятиями такого наворотил… Да и наворотил… Где-то в девяносто седьмом я его и свольнил… Нет, в девяносто шестом… Точно — в девяносто шестом. Доверил ему это дело в восемьдесят девятом, когда ты да он освободились, а в девяносто шестом пришлось свольнять — такого набедокурил…
— А Тимку просил? — Я продолжал петлять, так и не решившись еще предложить Мешку показаться специалистам.
— Так сразу после Сереги к Тимке и побежал — а куда мне еще было бежать? Вот с девяносто шестого по нонча Тимка и куролесил… Потому и вызвал тебя, что пришлось свольнять и его.
— Тоже наворотил?
— Сплошной срам и блуд.
— А как он?..
— Кто — Тимка?.. Тот же довольный котяра, что и всегда.
— Нет, я спрашиваю, как он отреагировал на твою просьбу? Поверил?
— Чего же ему мне не поверить? Раззи я кого обманывал? Ты, к примеру, что, мне не веришь?
— Так Тимка сразу согласился? — уворачивался я от неприятного вопроса.
— Мне кажется, что он даже обрадовался, — вспоминал Мешок. — Мне бы тогда еще присмотреться к этой его странной радости… Да где там!.. Я так спешил найти замену Сереге… ну, и себе… Выходит — сам виноват…
— Так-таки и не усомнился ни в чем?
Я не мог поверить, чтобы такая язва языкатая, как Тимка, вот так с ходу принял все Мишкины придолбаи. Может, его Серега предупредил?
— Я же говорю: сразу обрадовался. Тетрадку мою схватил и тут же принялся что-то в ней строчить. Я ему говорю: “Покажи, что пишешь-то?” — а он мне в ответ: “У нас кто теперь Божий подручный — ты или я?” — так и не показал.
Я представил Тимку, рисующего в Мишкиной тетрадке свои подсказки самому Господу Богу, и уже не мог сдержать смех…
8. Тимка (Любовь в разлив)
Тимка обрадовался вовсе не могущественным возможностям, которые Мешок временно передавал ему вместе с тетрадкой (как показалось в тот момент Мешку), а тому, что вся эта непонятка вопреки Тимкиным опасениям прошла легко и бестягостно. Серега, естественно, предупредил его о Мешковой придури и о том, что Мешок скорее всего обратится к нему за помощью, — вот Тимка и мандражировал, совсем не желая видеть своего друга не в себе и слышать, как тот заговаривается и лепечет бессвязную хрень.
А на самом деле все оказалось не так уж и плохо. Ну возомнил человек, что сам Бог доверил ему стоять на посту и дыбать во все глаза за порядком и справедливостью, — подумаешь, невидаль! Кому это мешает? В жизни случаются заскоки и покруче. Вона сколько лет кряду куча людей торчала на своих постах, не позволяя никому улизнуть с ухабов коммунистической дороги в тишь да гладь буржуазной бездуховности. Вот то была беда! А в Мишкином тихом помешательстве какая кому беда? И почему не подменить Мешка в этом его выдуманном карауле? Это самое меньшее, что может сделать Тимка для своего друга. Тем более — хлопот никаких. Так что пусть Мешок не изводит себя своим отступничеством и спокойно занимается домом да семьей, если все это у него так ладно получается.
Тут Тимка вспомнил, что Серега советовал совсем уж не филонить и время от времени записывать какие-нибудь благие пожелания в тетрадку Мешка, чтобы потом — при возвращении своих придурочных полномочий — Мешок не огорчался и увидел, что все было чин чинарем…